Четырнадцать писем
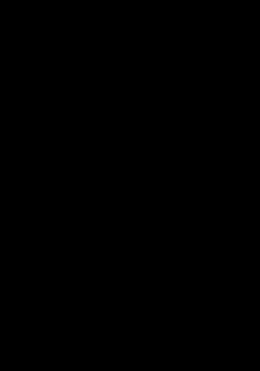
Introduction
Посвящение:
Моей семье и Малике Хилал.
1919. Ты. Ты в моем воображении. Моя Дунечка. Скажи, скажи, что делать с этим страшным чувством. С этим чувством дикого опустошения и в то же время – сладкой привязанности. Я ведь гнию от желания быть нужным и важным. Я хочу быть особенным в твоих пленительных глазах, я тону в них. Знала бы ты, как иногда хочется тепла, ощущение инородности которого я уже успел позабыть. Знала бы ты, как это важно – видеть в себе человека. Мне сложно описать и принять свои чувства. Кажется, что проще обойти пешком всю Россию, чем рассказать тебе о том, что продолжительное время стоит комом в горле.
Впереди – яма. Сейчас лишь падение, одержимость. Позади – моя жизнь и надежда на счастье. Тебе лучше не знать. Лучше не знать.
1
«Авдотья Романовна!
Утро. Восход золотит Москву. Пишу в слезах. Поддатый. То жутко, то будто бы стыдно. Стыдно осознавать, что я – проблема и безутешное напоминание о совместном и навсегда унесенном ветрами молодеющей Родины прошлом. Ветрами, забравшими наш смех и наивный вздор, наше драгоценное детство.
Что же с нами стало? Я унизился до стеклянных бутылок. Мы позволили самим себе унизиться до иглы… Сегодня прошло две недели с тех пор, как Вас положили в желтый дом. Я разучился дышать. Две мучительные недели —четырнадцать дней душевной скорби.
Сколько раз я пробовал начать это письмо, сколько раз я сжигал черновик, любовно-ласково положив его в печь?
Поверите ли, что Вы первая из всех женщин, встреченных мною, с которой я был спокоен, которая позволила мне чувствовать себя свободно и отрадно?
Вы мое освобождение из оков бытия. Кажется, я забываю, как без Вас жить. Кажется, я забываю всех и вся, даже Вас самих, страстно любимых мною до головной боли…
Три чертовых года. Это время не вернуть – я знаю. Это время не вырежешь из моей собственной судьбы. Не вырежешь из моей судьбы четыре святые буквы: Дуня.
Помните ли, как рассказывали о сюжете, который выдумала ваша душевная болезнь? Про Сигизмунда, Варшаву, тени, маки? Я очень долго и мучительно об этом думаю. Я полюбил Польшу вслед за Вами, полюбил Варшаву, которая представала перед Вами в образе бледной шестнадцатилетней девочки – первое Ваше смущение, первый румянец Ваших ланит, на которые невозможно наглядеться…
Москва девятнадцатого года даст шанс на счастье и Вам, Дунечка! Что касается меня – дело сложное. Наркотик сжирает изнутри. Моя душа ноет, когда зависимость дает о себе знать. Я ненавижу, ненавижу это, а больше всего я ненавижу себя и поганую пустоту внутри груди! Ненавижу себя за слабость перед веществом. Ведь это ужасно – колоть его, когда в соседней комнатке плачет дитя любимой женщины!
Пусть мое теплое чувство и невзаимно, я люблю Вас за то, что Вы есть… Дунечка, без Вас жизни моей никогда не было и никогда не будет! Уверьтесь в том, дорогая моя возлюбленная.
Живите ради своей преданной подруги, своей Ирины! Она Вас боготворит. Я хочу, чтобы у вас с ней все было хорошо.
А за Мариночкой присматриваю. Мы с Ирой на первый день рождения деточки принесли ей ужасно много сахару: Марина Евгеньевна рассасывала его своим маленьким ротиком и улыбалась…
Осьмнадцатилетняя Авдотья Р.Р., жизнь моя, олицетворение моей свободы, светило мое, моя тень, мгла моих желаний, Вы не представляете, насколько сильно я нуждаюсь в Вас. Не представляете, Дунечка, нет. Лишь мысль о Вас сбивает мое дыхание и ломает ритм сердца.
Все для и ради Вас.
Ваш Владимир В.».
2
«Да, Дунечка, я пишу в стол! Пишу в стол верно и необратимо. Что еще прикажете делать бедному студенту филологического факультета: бежать, скрываться от своих чувств, играть с револьвером? Я так истосковался по Вам за эти три недели, что Вас нет с нами, что начинал стремительно худеть. Ира говорит, надо бы сходить к врачу… Да где же студентам деньги брать на врачей-то? Приходится нам с Ирой все самое лучшее отдавать Вашей Мариночке, а сами кое-как питаемся, надеясь на то, что с течением времени все наладится.
Мрачна и сердита моя судьба без Вас, Авдотья Романовна! Светом в конце темнеющего в сумерках тоннеля Вы обращаетесь для меня каждой ночью, которую я посвящаю мечтам, а это, к слову, каждая ночь. Любовь моя переживет все: и грозы, и бури, и ураганы. Даже смерть любовь переживет. Моя любовь сильнее смерти, поверьте!
Впрочем… Зачем Вам читать этот бред, милая? Не читайте эти заметки, даже если найдете их, в чем я, к слову, очень и очень сомневаюсь. Вы достойны лучшей жизни, чем нынешняя, а я… не думаю, что я достоин Вас, мизинца Вашей нежной руки, мимолетного взгляда из-под Ваших тонких ресниц.
Кутерьма… Ужасная кутерьма. Воспоминания… Был пьяный, веселый, были Вы, Вы со мной, мы одни, держались за руку, пели, танцевали, и, дай Бог, целовались, но я этого не помню! Не помню, но готов сам себе поклясться, что не прикоснулся к Вашему телу тогда ни разу с плотскими помыслами. А если и целовал, то от ощущения мимолетного счастья, с рябью в глазах и с комом в горле. Помню лишь… Ваш звонкий смех и голос, что срывался на фальцет от восторга и радости, которые привнесли в настроение инъекции вещества. Да, в ту пагубную ночь соединились две судьбы. Мы подсели.
Наутро, Дунечка, как помните, мы повторили этот опыт. Этот первый постылый опыт – Вашу духовную смерть. А иногда я бью себя ладонями по лицу. Что, если я теперь – жалкое подобие убийцы? А что, если Вы там из-за меня? Зачем, зачем я позволил Вам ощутить это коварное спокойствие, это опасное блаженство, которое повлекло за собой невозвратимые потери?! Я плачу, Дунечка. Я рыдаю. Я ненавижу ту роковую дозу. Я презираю ее. Я презираю морфин, презираю немецкого лекаря, который изобрел это гадкое вещество. Знаешь, сейчас я лишь мечтаю увидеть золотистый цвет Ваших коротких кудрей. Он недосягаем и далек от привычной реальности, но я мечтаю. Мечтаю, милая!
Иллюзия ли это все? Почему Вы не смели говорить о нашем секрете Ирине? Боялись, что она что-то заподозрит о нашем с Вами романе? Романа не было и никогда не будет. Мне необходимо стать реалистом: Вы никогда не любили меня сильнее отца Марины. Я привык. Мне не больно – мне пусто. Настолько пусто, что странно-хорошо. Я даже готов обнять весь мир, ведь люблю его, ибо в нем есть Вы и Ваша малютка!
Драгоценная, можно я буду с Вами на «ты»? Полагаю, такая фамильярность в глубине души не понравится Вам, и Вы будете, может быть, даже очень этим оскорблены, но я ведь все понимаю. Понимаю, что скорее всего до нашей встречи я не доживу, скорее всего Вы никогда это не прочитаете…
Одно мне ясно точно: мечты о тебе – моя последняя надежда, мой последний приют, моя последняя пристань.
- Своим светом тюрьму заливая,
- побежим от злорадствия глаз.
- Золотая, святая, чужая,
- Вы помрете от брошенных фраз.
- Я не знаю, как слезы упрятать.
- Не умею упрятать и гул.
- Черт! За что мне такая награда?
- Как спастись от навязчивых дум?
- Если б знал, как влюбиться взаимно,
- если б буквы умерить умел…
- Эти думы — последняя пристань,
- и, быть может, последний удел…
Ты – моя надежда. Надежда жутко исхудавшая. Надежда, потерявшая себя между чужих жизненных линий.
Ну что ж, ангел мой, давай прощаться? Признаюсь, прощаться с тобой тяжело. Даже в какой-то степени невыносимо. Прости, и, возможно, прощай…
Все для и ради тебя!
Твой Володя В.».
3
«Привет и здравствуй, Дунечка!
Как ты? Как твое здоровье?
Прошел ровно месяц, с нашей последней встречи, и я не могу больше мучиться бесполезными ожиданиями… Я хочу покончить с этим раз – и навсегда; невыносимо жажду раствориться в памяти о твоих глазах аквамаринового оттенка, чтобы хоть моего измученного ожиданиями признака пустили к тебе, чтобы хоть он увидел мою хорошую, мою бесконечно прелестную Дуню, трепетная мысль о которой стала нечтом вроде обыденности, быть может, даже обыденнее, чем само слово «обыденность»!
Как объяснить себе самому, что ты меня никогда не любила и, конечно, не полюбишь никогда? Как совладать с соблазном расцеловать твою ненаглядную дочь – твою Марину? Как умалить свою любовь к тебе? Неизвестность. Как объяснить своему пылающему сердцу, что ты принадлежишь не мне, напротив, кому-то, кто более достоин тебя, кого ты способна полюбить?
Моя радость будто бы сгинула, в то время как ты где-то далеко от меня. Я, кажется, разучился радоваться, при этом чувствую себя малым ребенком в теле взрослого мужчины. Странно и ново ощущать себя таким, Авдотья Романовна.
Снег начинает таять, как мое сердце: нервное, влюбленное, дрожащее. Марина впадает в необъяснимый восторг, слыша твое имя. Ира напротив: у твоей наперсницы слезы наворачиваются на глаза при любом упоминании о тебе…
Дунечка! В своих снах (кроме твоего светлого образа) я вижу богов. Я молю их, чтобы ты отпустила меня на волю. Дай мне дышать полной грудью, ощущать далекую свободу, вкус которой я успел давно позабыть, не думать, не грезить совершенно ни о чем! Любимая! Я понимаю, понимаю, что навсегда останусь с этими письмами и со своими мыслями о тебе. Мне, увы, ничего не поможет. Одно освобождение – …… (написано мелко, чернила смазаны; тяжело определенно сказать, что за слово тут было изначально).
Твой недуг, А.Р., мучает меня, словно нож, многократно вонзаемый в мою бедную душонку. Судя по всему, я действительно люблю тебя. Действительно, искренне и бесповоротно. Я так люблю тебя, милая! Зачем, зачем, моя Донна, ты решила покончить с собой той роковой ночью? Если бы ты тогда канула в Лету, я бы нырнул за тобой!
У меня, Дунечка, в жизни две ценности – ты и Марина Евгеньевна. Стоит ли мне жить ради Марины? Стоит ли этот годовалый восторг моей жизни? Стоите ли вы обе моих искренних, истовых слез? Стоите. Сомнений нет. Это решено. Без оглядки. Но, пойми же, я и мизинца твоего не стою, поэтому… если нам суждено встретиться, если тебе вдруг суждено это прочесть – используй мои деньги, мой талант (коли таковой имеется), мою чистую любовь, наконец, в своих целях! Мне не жалко. Я хочу и желаю быть полезным тебе. Я так виноват перед тобой, Дуня, так виноват! Я мечтаю перестать чувствовать эту разрушительную вину!.. Понимаешь, я роняю себя сейчас без возврата, и я рад быть упавшим, упавшим на колени перед твоей небесной, божественно-противоестественной, патологической (для моего рассудка), бесконечно приятной взору кра-со-той. Дуня, я – весь для тебя; душа моя – нараспашку! Пользуйся!
А этот долгий месяц… Я его презираю и ненавижу. О да, я рыдаю! Я тебя давно не видел, но увижу, возможно, и не раз, но так плакать, как сейчас, не смогу, кажется, никогда… У меня трясутся руки, когда я думаю о тебе! Этот ужасающий тремор невозможно предотвратить, как невозможно предотвратить грядущий день.
О треморе… Я помню, у тебя ужасно тряслись руки при виде Е.О. Ты его любишь до сих пор? До сих пор боишься его взгляда? До сих пор млеешь и бледнеешь при мысли о нем? Я тебя, Дунечка, понимаю, как никто другой!
О зависимости скажу лишь, что я сам не свой. Более ничего. Стыдно. Ты винишь меня во всем том, что было? А я не виню тебя ни в чем. Ведь нельзя винить единственную любовь своей жалкой и никчемной жизни, да и, как знаешь, ты ведь ничего не сделала плохого.
Шепчу, рыдая: до свидания, нежная Дуня, до свидания… Ты останешься в моем сердце занозой навсегда – я уверяюсь в этом каждый чертов день!
Все для и ради тебя!
Твой Володя В.».
4
«Милая, ты у меня в груди, в самом сердце моем! Прошло два месяца с нашей последней встречи…
Май. Прохладный ветерок играет со светлыми прядями Марины. Ты лежишь в желтом доме, возможно, прямо сейчас тебе плохо, ты даже ждешь меня. А я трус, милая. Я боюсь тебя сейчас видеть. Я боюсь разочарования. Разочарования, да. Ты тогда исхудала, мое сердце не хочет знать тебя иной. Прости, но таковы мои мысли. Это не может меня не огорчать, Дунечка, моя любимая худая Дунечка!
Хотел похвастаться, что не кололся неделю. Соврать тебе. Увы, вещество последний раз попало в мою кровь… около пяти часов назад. Ирина постоянно рыдает, мне кажется, она ненавидит меня. Только представь, Дунечка, какому ужасному человеку ты доверила свою Маринку…
