Опасные видения
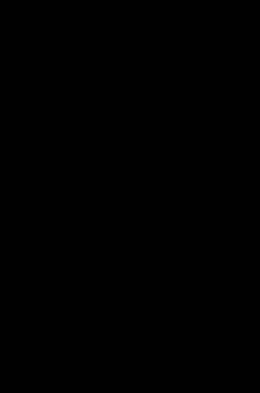
Published by arrangement with the Harlan and Susan Ellison Foundation.
Copyright © 1967 by Harlan Ellison. Copyright © renewed 1995
by the Kilimanjaro Corporation. All rights reserved.
35th Anniversary Edition © 2002 by the Kilimanjaro Corporation.
Collection © 2024 by the Harlan and Susan Ellison Foundation.
Foreword: «Ritz Crackers in the Kitchen Nook at the Edge of Forever» © 2024 by Dagonet, Inc.
Introduction to the Blackstone Publishing Edition © 2024 by J. Michael Straczynski.
Illustrations by Leo & Diane Dillon. Copyright © 1967 by Leo & Diane Dillon.
Copyright © renewed 1995 by Leo & Diane Dillon.
Harlan Ellison and Dangerous Visions are registered trademarks of the Kilimanjaro Corporation.
Published by Blackstone Publishing. All rights reserved.
Cover and book design by Sarah Riedlinger
© С. Карпов, перевод на русский язык, 2025
© В. Баканов, перевод на русский язык, 2025
© В. Бук, перевод на русский язык, 2025
© Д. Старков, перевод на русский язык, 2025
© М. Светлова, перевод на русский язык, 2025
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство „Эксмо“», 2025
Книга не пропагандирует употребление алкоголя, наркотиков или любых других запрещенных веществ. По закону РФ приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, а также культивирование психотропных растений является уголовным преступлением, кроме того, наркотики опасны для вашего здоровья.
Харлану и Сюзан Эллисон и многим авторам, которые были, являются и всегда будут частью «Опасных видений»
Вместо предисловия
Крекеры «Ритц» в кухне на краю вечности
Пэттон Освальт[1]
Здоров. Я тут быстренько загляну, расскажу прикол про Харлана Эллисона и не буду вас долго мучить. Под этой обложкой упихано слишком много крутых историй, чтобы вы еще тратили на меня больше пары минут.
Но я вообще-то дружил с Харланом, прикиньте? Был завсегдатаем в его «Стране Чудес Эллисона», прямо над Шерман-Оукс. Мог с утра позвонить Харлану и напроситься в гости; он отвечал – давай; я заезжал к нему на холмы, и не успеете вы сказать: «Джин Роденберри[2] не выдаст и кислого совиного гуано», как уже сидел на кухне Харлана с чашечкой кофе и пачкой крекеров «Ритц».
А он просто… брал и начинал. Рассказывал о фильмах-нуар, и коллекционной посуде, и перьевых авторучках, и о лично виденном случае, когда глава киностудии чуть не обоссался из-за выходки Брюса Ли. Харлан пожил на славу. В мире просто-таки не хватало чудес, чтобы ему восхищаться, разглагольствовать и вспоминать.
Однажды я спросил о предисловии Майкла Крайтона к эллисоновскому сборнику «Приближаясь к забвению» (Approaching Oblivion). Крайтон в нем рассказывает, как ездил в «Страну Чудес Эллисона», и перечисляет то, что казалось – по крайней мере мне, тепличному панку из пригорода восьмидесятых, – чудесами из чудес.
И тогда Харлан показал мне репродукции Вундерлиха[3], подписанные наброски Солери[4] и скульптуру из Мозамбика из предисловия Крайтона. Какой же это был волнующий момент соприкосновения с прошлым: читать те описания на первом году старшей школы, а в следующем веке – видеть сами вещи и их хозяина.
А потом мы дальше пили кофе и ели «Ритц».
А потом Харлан сказал: «Чувствую себя персонажем из начала всех слэшеров восьмидесятых. Ну, знаешь, таким старпером, который сидит на завалинке, предупреждает юнцов, что на детском лагере в конце дороги лежит проклятье? А они шлют его на фиг и едут, чтобы их пустил на фарш социопат в резиновой маске? Вот как я себя иногда чувствую – только это уже восьмой или девятый сиквел, и мне даже лень предупреждать. Я свое дело сделал, а остальное передаю в руки Дарвина».
Если перечитаете что-нибудь из предисловий или статей Харлана – особенно предисловие к «Странному вину» (Strange Wine) и длинную статью «Ксеногенез», – сами увидите, о чем нас хотел предупредить Харлан. Как много он предвидел. Смешение вымысла и реальности, развитие культуры интернет-троллей, прославление посредственности и выставление агрессивного невежества за какую-то священную истину.
А раз никто к предупреждениям не прислушался, Харлан породил целое поколение (и, кажется, еще и поколение после этого поколения) чудаковатых стариканов, которые предупреждают юнцов об опасностях впереди. Но никогда – так, чтобы отбить удовольствие, любопытство или изумление. Ты всегда становился осознанней и бдительнее – но при этом по уши в приключениях, опасностях и открытиях. И всегда можно видеть, как выходят социопаты и рассказывают, какие лица – настоящие, а какие – резиновые маски.
«Опасные видения» – это, по сути, кунг-фу для мечтателей. Запомните то, что здесь узнаете, и используйте только во благо.
А если захочется помянуть Харлана, то не торопитесь наливать – Харлан был трезвенником. Лучше окуните «Ритц» в кофе. И пусть соль и кофеин разожгут в вас что-нибудь возмутительное.
Предисловие
Трилогия от Blackstone Publishing
Дж. Майкл Стражински[5]
Да, вы не ошиблись. Трилогия.
Давайте объясню.
Ради и новых, и давних читателей я начну с «что» и «почему». А «как» пусть пока подождет.
На протяжении большей части своей истории жанры научная фантастика и фэнтези славились историями о могучих инопланетных цивилизациях, путешествиях в далеких галактиках, борьбе разношерстных команд против империй… а также нарочитой мягкостью и неизменной беззубостью. Исключения, конечно, есть, и среди них стоит отметить «1984» Джорджа Оруэлла, «Дивный новый мир» Олдоса Хаксли, «Заводной апельсин» Энтони Бёрджесса.
А еще стоит отметить, что все это британцы.
А американская фантастика сороковых, пятидесятых и начала шестидесятых склонялась к историям, не имевшим почти ничего общего с политикой, возмущением покоя, сексуальностью или тяготами обывателя, который пытается выжить в непостоянном хаотичном мире. Причины для этого многочисленны и в контексте своего времени вполне понятны. Все-таки в писатели, как правило, шли белые мужчины среднего класса, этакого патрицианского и патриархального происхождения, и им больше хотелось сохранить статус-кво, чем изменить. Но таков уж был американский цайтгайст тех десятилетий – времен политического консерватизма, принудительного консенсуса и стереотипного отношения к женщинам и цветным. То была эпоха пословицы: «Что хорошо для бизнеса, то хорошо и для Америки».
А для Америки хорошо, чтобы ты сел, заткнулся и не возникал, пока не спросят.
Не очень помогало и то, что Штаты только что пережили кровожадную истерию времен Красной Угрозы и маккартизма, когда сценаристов кино и телевидения, которые чуть отступали от консервативной линии, вызывали на ковер перед Конгрессом и заставляли отвечать на вопросы о политических убеждениях, после чего одни отправлялись в тюрьму, а другие – в черный список и оставались без работы на десятилетия.
Попали под прицел и прозаики, хотя и не с той публичностью, фанфарами и камерами, которые были присущи слушаниям сенатора Маккарти[6] в Конгрессе. По всей стране запрещались и сжигались тысячи книг, признанных недостаточно патриотичными, нецензурными или в чем-нибудь еще да несовместимыми с консервативными политическими взглядами тех времен. А причины – неизбежно субъективные, случайные и, как видно по недавним годам, вполне себе вечные: один политик из Иллинойса раскритиковал известную книгу, потому что она якобы «понижала респектабельность и святость нашего института брака»[7].
Отправился в огонь «Невидимый человек» Ральфа Эллисона, последовали за ним «Над пропастью во ржи» Дж. Д. Сэлинджера, «Гроздья гнева» Джона Стейнбека, «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фитцджеральда, «Убить пересмешника» Харпер Ли и многие-многие другие.
Не спаслась и музыкальная индустрия – радиостанциям пришлось отказаться от трансляции таких исполнителей, как Билли Холидэй, групп, считавшихся «левыми», и практически всего ритм-н-блюза.
Ломались карьеры, рассылались угрозы и обещания расправы. Закрытие магазинов и издательств и опустошение книжных полок раз за разом подчеркивало главную истину того времени: «Гвоздь, который торчит, забивают».
Вот авторы научной фантастики и фэнтези и научились не высовываться. «Хочешь жить, умей вертеться. Не нарывайся на неприятности. Пиши дальше про свои ракеты и жукоглазов, а не про волнения на улицах».
И вот ведь что самое жуткое: вся эта самоцензура опиралась на страх и экономику. В любом жанре хватало писателей, которым хотелось писать что-то злободневное, зубастое, то, что бросает вызов, провоцирует и прокладывает новые пути. Но еще они знали: если ты и напишешь такую вещь, ее никогда не купят, никогда не опубликуют, никогда не увидит мир. А при том, что большинство писателей что тогда, что сейчас жило от гонорара к гонорару, какой смысл тратить недели или месяцы на рассказ, который ты никогда-никогда не продашь? Уж лучше посвятить время и усилия безопасным и социально не важным историям, которые востребованы на рынке.
Но тот голод, та жажда делать больше, писать больше никуда не уходили.
И вот на этом фоне появляется Харлан Эллисон.
Харлан – скандалист, пацан с улиц, писатель, который жестко высказывался против цензуры и был вполне готов, если надо, рискнуть жизнью и карьерой. Он открыто поддерживал протестное движение за гражданские права, участвовал в марше с Мартином Лютером Кингом в Мемфисе и потому понимал: со стеклянным потолком не договоришься, нельзя воззвать к лучшему перед кирпичной стеной.
А еще он знал, что иногда нужно опустить голову и биться в эту стену со всей силы, еще и еще, пока кто-то из вас не сломается.
И поэтому – и он сам ниже опишет это лучше, чем я могу и надеяться, – Харлан искал новых писателей и давних профи, крупнейшие имена в жанровой литературе того времени: писателей, жаждавших показать, на что они способны, если с них снять наручники (буквальные и фигуральные), – искал и, по сути, говорил им: «Если бы вы могли написать что угодно и не переживать, получится ли это продать, что там наворотит редактор… что бы вы написали? А то я плачу».
Так и родилась антология «Опасные видения», которую вы теперь держите в руках.
Услышав, что обещает эта антология, многие «эксперты» объявили, будто «Опасные видения» поломают карьеры, будто писатели заходят слишком далеко, будто есть вещи, о которых просто нельзя говорить вслух, истории, которые просто нельзя рассказывать, что сборник всех погубит… и ждали с ножами в руках, чтобы накинуться на книгу.
Но их заявления, как и свойственно всем подобным заявлениям, оказались безосновательными, лживыми и еще им аукнулись. После публикации «Опасные видения» распахнули двери жанра ногой и разлетелись головокружительными тиражами, особенно в колледжах и университетах, где уже давно дожидались такой книги. Книга зарядила, возмутила и перевернула писательское сообщество фантастов вверх тормашками так, как не ожидал никто, даже сам Харлан. Она объединила все скромные попытки его самого и других писателей по раздвиганию границ жанра в одну единую силу, с которой уже приходилось считаться, и так породила новый стиль повествования, получивший известность как фантастика Новой волны: фантастика, бросавшая вызов традициям и заводившая читателей туда, куда они и не знали, что им надо.
«Опасные видения» были неоновым пятикилометровым средним пальцам угнетению… трехступенчатой ракетой прямо в жопы цензоров, запретителей и книгосжигателей.
Они были великолепны.
Они были нужны.
И возможно, не меньше они нужны сейчас, в этот самый момент, когда мы видим новое поколение цензоров, запретителей и книгосжигателей. Потому что война за свободу выражения так и не выиграна – только отложена до тех пор, пока люди по ту сторону баррикад не вернулись в новых организациях, под новыми именами, но с одной и той же старой тактикой: страх и пламя.
Самый простой способ написать это предисловие – сосредоточиться на рассказах и их авторах. Титаны, все до единого, рано или поздно. Но еще это совершенно неправильно, ведь тогда легко упустить саму причину, почему эта книга появилась на свет, почему она здесь, для чего и, в частности, как она навсегда изменила фантастику и фэнтези. Нельзя понять масштаб этих изменений, не понимая их контекста.
«Опасные видения» оказались такими важными в своей области, что сразу был заказан и уже через несколько лет опубликован второй том – «Новые опасные видения». Конечно, уже ничто не могло произвести такой же культурный фурор, как оригинал, ведь его почти никто не ожидал, но «НОВ» снова заслужили тиражи, похвалы и все так же вели жанр к более живым, более честным способам повествования.
И нет ничего удивительного, что издатель заказал и запланировал выпустить спустя два года новую книгу в уже трилогии – «Последние опасные видения».
И они все не выходили и не выходили.
Пятьдесят лет.
До этого года. До этого самого момента, когда «Последние опасные видения» впервые выйдут в Blackstone (вскоре после переиздания «НОВ») и наконец-таки завершат трилогию «ОВ».
Теперь вы знаете, почему «Опасные видения» появились на свет.
Еще вы знаете, что это за книги, зачем задумывались и чего добились.
А вот почему именно дебют «Последних опасных видений» состоялся только спустя полвека… что ж, этот ответ ждет вас в завершающем томе трилогии. Так что продолжим, когда туда доберемся.
Поверьте, это шикарная история.
И путешествие к ней начинается здесь и сейчас.
Наслаждайтесь.
Дж. М. С.
Предисловие
Издание 2002 года
Майкл Муркок[8]
Да, был в истории фантастики один конкретный момент, когда все и навсегда изменилось к лучшему. Мы пришли с Запада и с Востока. Мы встретились дома у Деймона Найта[9] в Милфорде, штат Пенсильвания, и мы обсуждали революцию. Это еще до того, как Джудит Меррил[10] обиделась на, как она считала, ее нелестный портрет в телесериале авторства Харлана Эллисона. Мы были компанией разъяренных друзей, мечтавших, чтобы фантастика и фэнтези наконец повзрослели и впредь такими оставались. Я как раз начал издавать глянцевый журнал New Worlds при поддержке британского Совета по делам искусств; Меррил составляла антологии в стиле «Лучшая фантастика года»; Найт редактировал серию антологий оригинальных рассказов «Орбита» (Orbit); а Эллисон писал столь потрясающую своими красноречием и изобретательностью прозу, что в одночасье установил новую планку. Но Эллисону было мало показать, что возможно в жанре. Не довольствуясь планкой для своего таланта и динамичности, он хотел показать всем работы столь разнообразные, необычные и живые, столь визионерские и опасные по своему содержанию, что спекулятивная литература[11] – или уж зовите ее как угодно – никогда не будет прежней. И конечно, для подобного сборника могло быть лишь одно название: «Опасные видения».
А дальше Эллисон провернул самое сложное. Он всеми правдами и неправдами – то вызовами, то лестью, то мытьем, то катаньем – убедил самых блестящих писателей-англофонов приподнять и свою планку, продемонстрировав миру лучшее, на что они способны. И вознаграждал за это по высшему разряду – превышая бюджет издательства и расплачиваясь из своего кармана. И на этом не остановился. Он добавил свои комментарии, от предисловия к книге до предисловия к каждому рассказу, где рассказывал о каждом авторе, об их таланте и потенциале. Он единолично создал новую точку отсчета и требовал, чтобы в будущем любой автор с любыми амбициями не падал ниже его стандарта. Он сделал то, о чем мечтали мы, визионеры. Он изменил наш мир навсегда. И, что иронично, когда мир меняется так фундаментально – будь то благодаря Стокли Кармайклу[12], Мартину Лютеру Кингу, Линдону Джонсону, Кейт Миллет[13], – никто не помнит, каким мир был до того, как стало лучше. Вот истинное мерило успеха Эллисона.
Майкл Муркок
Санта-Моника, Калифорния
26 июля 2002 года
Введение
Издание 2002 года
Харлан Эллисон
Какой же это был долгий, странный и набитый под завязку событиями путь, сказал я тут давеча Майклу Муркоку. Это было не дежавю, не совсем, но все-таки напоминало те дни в Лондоне, когда мы прогуливались от Лэдброук-Гроув до индийского ресторана, где частенько сиживали. «Какой же это был долгий, странный и набитый под завязку событиями путь», – сказал я Майку, пока мы шли вдвоем, будто Матт и Джефф[14]: этот огромный бородатый талант, почти собственноручно создавший в фантастике то, что зовется «новой волной», – и выскочка-янки ростом метр шестьдесят пять, только что удостоившийся своих уорхоловских пятнадцати минут славы. Это было больше тридцати лет назад. А давеча я сказал Майку то же самое.
Такой он странный и изнуряющий, этот путь. Сколько на нем было добра и зла, друзей и врагов, достижений и неудач, своевременных сдач и пропущенных сроков (порой и на десятилетия).
Друзей по сей день – такие как Майк, и Боб Силверберг, и Кэрол Эмшвиллер, и Норман Спинрад, и Фил Фармер, если брать только нескольких из тех, что есть и в этой книге, и в нашем мире на момент, когда я это печатаю на своей машинке «Олимпия», – и друзей, так трагически ушедших, – Боб Блох, и Роджер Желязны, и Тед Старджон, и Генри Слизар, и Лестер, и Фил, Говард, Джон и Джон, Крис, старый дорогой Фриц, и Рэй Лафферти, и Деймон, Пол и все остальные, кто еще улыбался, писал и надирал задницу, когда я в первый раз сказал Майку на Портобелло-роуд то, что сказал. Больше тридцати лет назад.
И эта книга – из успехов. Это была моя мечта задолго до того, как я ее сделал. Мечта, которую я предлагал другой составительнице антологий, когда еще редактировал линейку изданий в мягких обложках в 1961 году, а она от этой мечты отмахнулась. Та же мечта, которую я обсуждал с Норманом в своем домике на дереве в Беверли-Глен в 1965 году; та же мечта, которая на моих глазах лезла через анальный проход, будто поезд «Супер-Шеф» внутри янтаря, когда Майк с его соотечественниками дали по газам в New Worlds. Мечта о «нашем стиле», что воздвигнется высокой хрустальной горой рядом с подражательной, натуралистической прозой, предложит видения, ответы и «что, если» почище, чем у всяких там фолкнеров, или джеймсов гулдов коззенсов[15], или эдн фербер. О, эта мечта была куда выше, чем метр шестьдесят пять.
И если бы я знал, как будет тяжко, если бы я знал, какой это будет геморрой, я бы все равно это сделал, нисколько не сомневаюсь. Потому что теперь эта мечта празднует свое тридцатипятилетие – и все еще остается главным бестселлером среди всех антологий фантастики в истории. Книга не выходила из тиража с 1967 года, а количество наград и переизданий рассказов из нее не знает равных.
Для тех, кто все пропустил: сейчас вы перевернете страницу-три и наткнетесь на оригинальные предисловия от Айзека (который был слишком нетипично и бессмысленно скромен, чтобы написать рассказ самому, – под совершенно надуманным предлогом, будто он старпер, не умеет писать «новое» и не хочет позориться) (из всех, кого я знал за свою странную, долгую, под завязку набитую событиями жизнь, не могу вспомнить, кем бы я восхищался больше, чем своим приятелем Айзеком, но честно вам скажу – как сказал и ему, – это не отмазка, а полная бредятина), а за ними найдете мое оригинальное затянутое введение. Преодолев их, вы уже будете знать, что к чему, и представите себе место «ОВ» на литературном ландшафте. А дальше уже начинается книга.
Эта мечта, этот успех задумывались как чудо – и оно сбылось. Тогда. И сейчас. И во все тридцать пять лет между тогда и сейчас. Дети, читавшие это в старшей школе, теперь звезды жанра фантасмагории. Для них в названии «Опасные видения» есть весь смак, шик и блеск того самого ощущения чуда, о котором мы все без умолку говорим.
Мухаммед Али однажды заткнул рот тем балбесам, которые укоряли его за хвастовство, когда улыбнулся и заявил: «Это не выпендреж, если можешь пойти и сделать!»
И если вам это введение XXI века к переломному литературному событию века XX покажется проникнутым давящим хвастовством, то что ж, признаюсь, скромность – это не мое, но все-таки есть в жизни человека священные мгновения, и когда речь о таких вершинах величия, даже самому надутому бахвалу дозволительно повыкаблучиваться разок-другой. Это не выпендреж.
Однажды я встречался с Джоном Стейнбеком. Кажется, мы не сказали друг другу ни слова: я тогда был пацаном, он – богом; но я с ним все-таки встречался. Я прошел с Мартином Лютером Кингом маршем от Сельмы до Монтгомери в одном из главных поворотных событий Наших Времен – и хоть был в той волне лишь молекулой, вечно горжусь тем, что там присутствовал. Я считаю своими ближайшими друзьями Азимова, Лейбера и Блоха – трех из самых чудесных людей, что когда-либо ходили по этой земле, – и сам им нравился. Так что я знаю, что чего-то да стою, пусть я и не святой. Все-таки такие титаны абы с кем не якшаются.
Поэтому я трублю, выделываюсь и раздуваюсь, как (одна из моих любимых фразочек, пера Ричарда Л. Брина для фильма «Блюз Пита Келли») «банджоист после сытного завтрака». И вот по какой причине: я это сделал, мазафаки. Метр шестьдесят пять из Огайо – и сделал то, чего не делал еще никто. Я выступил на Большом Шоу с Муркоком, и Найтом, и Хэйли/Маккомасом[16], и Гроффом Конклиным[17]. Я мечтал – а потом взял и сделал. Это не выпендреж.
«Опасные видения» – это веха. И не потому, что я так сказал, а потому, что их так называли все, от Джеймса Блиша – скорее всего, умнейшего из нас – до самых строгих критиков тех времен: Деймона Найта, Алгиса Будриса и Питера Шуйлера Миллера (а он сказал: «Опасные видения… действительно начинают вторую революцию в фантастике»).
Нашлись, конечно, и те, кто предпочел увидеть в содержимом книги гром Последних дней. Предпочел либо принизить ее за бредовость, либо списать на тот подростковый бунт, который во многих из нас требует писать свежее, писать новое – писать лучше. Предпочел разглядеть во всем том, что мы жаждали сделать, самодовольство выскочек, насмешку над корифеями и традициями жанра. Ну, отвечая первым – ни черта! А вторым – чертовски верно! Мы уважали всех, кто был до нас: и тех, кто на тот момент уже миновал свой зенит, и других, кого еще ждали годы важного творчества, – причем кое-кто из них появляется в этой книге, что уже с ходу опровергает все поклепы о насмешке. Такие критики решили разгромить и высмеять саму цель «Опасных видений». Но получился у них не больше чем предсмертный хрип Тех, Кто Сам Не Смог, зато очень хотел Комментировать Тех, Кто Мог Бы… и Сделал.
И если проверка временем – это звездная заявка на След в Истории, тогда что ж, буквально в прошлом году превосходный писатель и редактор Эл Саррантонио довел до печати большую, умную, нередко экспериментальную, часто блестящую антологию оригинальных рассказов звездного состава писателей, из которых многие уже появились в «ОВ» или в их сиквеле 1972 года «Новые Опасные Видения». Эта книга называлась «Красный сдвиг» (Redshift), и на первой же странице предисловия Эл любезно написал следующее:
Я поставил себе новую цель: собрать к рубежу тысячелетий… огромную оригинальную антологию фантастических рассказов. Мое главное вдохновение – это «Опасные видения» Харлана Эллисона, чей выход в 1967 году изменил фантастику навсегда. Многое из того, что Эллисон утвердил в этой книге – переступание границ, истребление запретов, экспериментальная проза, – уже давно разливалось в воздухе (в конце концов, речь о шестидесятых), но он первым выпустил это между двумя обложками с такой силой и волей, против которых уже было не возразить.
Эта книга прошла проверку временем. Она стала пиком, маяком и образцом для многих, кто последовал в следующие тридцать пять лет. А теперь она выходит опять – в новом формате, красивая, блестящая и готовая ослепить новое поколение читателей или ускорить сердцебиение тех, кто читал ее три с половиной десятка лет назад, когда она только сорвалась со станков, рыча и взрывая землю.
А теперь, если позволите занять вас еще ненадолго…
Я планировал включить в это издание обновленное приложение об авторах, чтобы покрыть временной разрыв между 1967-м и сегодняшним днем. Все книги, которые написали эти люди, фильмы, которые они вдохновили, награды, которые они собрали, важные события в их жизни… краткий, но подробный перечень, кто до чего дошел и что сделал.
Первоначальный сбор материалов я в основном проводил сам, а доделать нанял Дэвида Лофтуса[18]. Я написал обновления ко многим биографиям и не сомневался, что успею сдать их издателю к 1 июня 2002 года.
Я написал…
Пол Андерсон умер от рака простаты 31 июля 2001 года. Айзек Азимов умер от почечной и сердечной недостаточности 6 апреля 1992 года. Роберт Блох умер от рака кишечника и почек 23 сентября 1994 года. Джон Браннер умер от инсульта на фантастическом конвенте в Глазго, Шотландия, 25 августа 1995 года. Генри Слизар, будучи в прекрасной форме, лег в манхэттенскую больницу для простого удаления грыжи и умер всего за три месяца до момента, когда я пишу эти строки, 2 апреля 2002 года. Фриц Лейбер умер от инсульта 5 сентября 1992 года. Рафаэль Лафферти умер в доме престарелых всего месяц назад. Деймон Найт… умер. Мириам Аллен ДеФорд… умерла. И многие другие. Ушедшие друзья. Прерванные биографии.
В общем, бросил я это дело, народ.
Просто взял и бросил к чертовой матери.
Не будет вам никаких новых мини-биографий авторов. Зато будут их тексты, лучшие наши работы, лучшее ото всех нас – здесь, на этих страницах.
Уж извините. Но это было долгое, странное, насыщенное путешествие, а теперь и печальное, когда подошло к концу для такого множества просиявших здесь звезд. Я пытался – вот честно, пытался. Но их больше нет, и мне их не хватает, и эти биографии мне как ножом по сердцу, и я просто послал все на хрен.
Как данную книгу, так и то время уже не повторить. Теперь книга живет и дышит сама по себе, хоть многие ее родители ушли. Она уже не огрызающийся нахаленок, а величественный, серьезный, академически признанный том значительных текстов, изменивших мир для множества читателей.
И теперь пришла ваша очередь.
От всех, кто еще стоит на своих двоих, и от тех, кто ушел своей дорогой, – мы желаем вам насыщенного и да, даже длинного, странного, крайне долбанутого и безумного путешествия.
В общем, хорошая книжка. Наслаждайтесь.
Харлан Эллисон
Лос-Анджелес
27 июля 2002 года
Предисловие I
Вторая революция
Айзек Азимов
Сегодня – в этот самый день, когда я это пишу, – мне позвонили из «Нью-Йорк таймс». Там приняли статью, которую я прислал три дня назад. Тема: колонизация Луны.
И меня поблагодарили!
О великая богиня Луна, как изменились времена!
Тридцать лет назад, когда я только начинал писать фантастику (и был еще очень молод), колонизация нашего спутника была темой строго для бульварного чтива с аляповатыми обложками. Для литературы в стиле «только не говори, что веришь в эту чушь». Для литературы в стиле «не забивай голову этой дрянью». И прежде всего – для эскапистской литературы!
Порой я смотрю на наш мир с недоверием. Фантастика считалась эскапистской литературой. Мы сбегали. Мы отворачивались от таких насущных проблем, как стикбол, и домашка, и драки, чтобы погрузиться в небывалый мир демографических взрывов, ракет, лунных исследований, атомных бомб, лучевой болезни и загрязненной атмосферы.
Разве не здорово? Разве не замечательно, что нас, юных эскапистов, вознаградили по заслугам? Обо всех великих, головоломных, безнадежных проблемах сегодняшнего дня мы переживали за двадцать лет до всего остального человечества. Как вам такой эскапизм?
Зато теперь можно колонизировать Луну на респектабельных черно-белых страницах «Нью-Йорк таймс» – и вовсе не в фантастическом рассказе, а во взвешенном анализе вполне возможной ситуации.
Это важная перемена, причем непосредственно связанная с книгой, что вы сейчас держите в руках. Давайте объясню, как именно!
Я стал фантастом в 1938 году, как раз когда Джон В. Кэмпбелл-мл. принес в жанр революцию одним простым требованием: чтобы фантасты твердо стояли на стыке науки и литературы.
Докэмпбелловская фантастика почти всегда делится на две категории. Она либо ненаучная, либо слишком научная. Ненаучные истории – приключенческие, где обычные западные слова периодически заменялись на эквивалент космических. Писатель мог не забивать голову научными знаниями – хватало технического жаргона, который можно было лепить, где вздумается.
А слишком научные рассказы, с другой стороны, населялись исключительно карикатурами на ученых. Одни ученые были безумными, другие – рассеянными, третьи – благородными. Общим у них было пристрастие разглагольствовать о своих теориях. Безумные их вопили, рассеянные – бормотали, благородные – провозглашали, но все они читали мучительно долгие лекции. А рассказ служил жидким цементом для длинных монологов, чтобы создать иллюзию, будто у них есть связность.
Конечно, встречались и исключения. Позвольте, к примеру, назвать «Марсианскую Одиссею» Стенли Вейнбаума (трагически скончался от рака в тридцатишестилетнем возрасте). Она вышла в июльском выпуске 1934 года Wonder Stories – это идеальный кэмпбелловский рассказ за четыре года до революции самого Кэмпбелла.
Вкладом Кэмпбелла было требование, чтобы исключение стало правилом. Чтобы в рассказе имелась и настоящая наука, и настоящий рассказ – и чтобы одно не преобладало над другим. Он не всегда получал, что хотел, но все-таки получал достаточно часто, чтобы породить то, что старожилы зовут Золотым веком фантастики.
Конечно, свой Золотой век есть у каждого поколения, но кэмпбелловский Золотой век – конкретно мой, и, когда я говорю «Золотой век», имею в виду именно его. Слава богу, я пришел в литературу как раз вовремя, чтобы внести в этот Золотой век и свой вклад (причем довольно неплохой – и к черту ложную скромность).
И все же во всех Золотых веках заключаются и семена их погибели, и по завершении можно оглянуться назад и без труда их найти. (О, этот великий задний ум! Как хорошо пророчествовать о том, что уже произошло. Никогда не ошибешься!)
В данном случае кэмпбелловское требование и реальной науки, и реальных историй породило двойного врага – как для реальной науки, так и для реальных историй.
С реальной наукой рассказы выглядели все правдоподобнее и правдоподобнее – и, собственно, правдоподобными и были. Авторы, стремясь к реализму, изображали компьютеры, ракеты и ядерное оружие именно такими, какими компьютеры, ракеты и ядерное оружие и стали всего через одно десятилетие. В результате реальная жизнь пятидесятых и шестидесятых очень похожа на кэмпбелловскую фантастику сороковых.
Да, фантастика сороковых заходила куда дальше того, чего мы добились. Мы, писатели, не просто стремились к Луне или слали беспилотные ракеты к Марсу; мы бороздили всю Галактику со сверхсветовыми двигателями. И все-таки наши космические приключения основывались на том же мышлении, из которого сейчас исходит НАСА.
И как раз потому, что сегодняшняя реальная жизнь так сильно напоминает позавчерашнюю фантазию, старые фанаты недовольны. У них в глубине души засело, признают они это или нет, разочарование и даже возмущение из-за того, что внешний мир вторгся в их личное царство. Они чувствуют утрату «ощущения чуда», ведь то, что когда-то правда считалось «чудом», теперь прозаичное и житейское.
К тому же отчего-то не сбылась надежда, что кэмпбелловская научная фантастика вознесется ввысь по великой спирали популярности и респектабельности. Новое поколение потенциальных читателей фантастики видит всю фантастику, какая ему может понадобиться, в обычных газетах и журналах и уже не испытывает необоримого желания покупать специализированные фантастические журналы.
Вот и вышло так, что после недолгого рывка в первой половине пятидесятых, когда как будто исполнились все золотые мечты фантастов и издателей, наступил спад, и журналы уже не процветали, как в сороковых. Даже запуск первого спутника не остановил этот спад – уж скорее ускорил.
Это все о враге реальной науки. А что же там с реальными историями?
В двадцатых и тридцатых, когда фантастика еще оставалась неповоротливым жанром, хороший стиль не требовался. Фантасты того времени были надежными поставщиками; сколько живут, столько пишут фантастику, потому что все остальное требует мастерства и им не по зубам. (Поспешу здесь оговориться об исключениях, и одним из них вспоминается Мюррей Лейнстер.)
Но авторам, которых воспитывал Кэмпбелл, и так приходилось писать хорошо, иначе бы Кэмпбелл их не взял. А под кнутом собственных амбиций они писали все лучше и лучше. И со временем неизбежно обнаруживали, что уже могут заработать побольше на чем-то другом – и тогда их вклад в фантастику иссякал.
Вот и получается, что в какой-то мере две погибели Золотого века трудились рука об руку. Немало авторов тех времен последовало за фантастикой в ее путешествии от вымысла к факту. И такие, как Пол Андерсон, Артур Кларк, Лестер дель Рей и Клиффорд Саймак, начали писать о научных фактах.
Они-то на самом деле не изменились – изменился жанр. Темы, которые они брали в литературе (ракеты, космические путешествия, жизнь на других планетах и так далее), перешли от вымысла к факту и захватили с собой авторов. Естественно, каждая их страница нефантастической литературы – это одной страницей меньше для фантастической.
Чтобы знающий читатель не начал тут саркастически бормотать себе под нос, мне лучше сразу и вполне открыто признать, что из всей кэмпбелловской команды я, пожалуй, подчинился этой перемене сильнее всех. После запуска спутника и после того, как в Америке перевернулось отношение к науке (хотя бы временно), я опубликовал – на данный момент – пятьдесят восемь книг, из которых только девять можно считать художественной литературой.
Мне самому, без шуток, стыдно и неприятно, ведь куда бы я ни шел и что бы ни делал, всегда буду считать себя прежде всего фантастом. И все-таки, если в «Нью-Йорк таймс» меня просят колонизировать Луну, а в Harper’s – исследовать край Вселенной, как я могу отказать? Эти темы – труд всей моей жизни.
И позвольте в свою защиту сказать, что я не совсем забросил фантастику в строгом смысле этого понятия. В мартовском выпуске Worlds of If 1967 года (уже на полках на момент написания) вышла моя повесть «Бильярдный шар».
Но довольно обо мне, вернемся к самой фантастике…
Каким был ее ответ на эту двойную погибель? Очевидно, жанру требовалось подстроиться – и он подстроился. Чистые кэмпбелловские вещи еще писались, но уже не считались костяком жанра. Уж слишком близко подобралась реальность.
И снова в начале шестидесятых произошла фантастическая революция, ярче всего проявившись, пожалуй, в журнале Galaxy под руководством его редактора Фредерика Пола. Наука отступила, а на первый план выступила современная художественная техника.
Акцент резко сдвинулся к стилю. Когда свою революцию начинал Кэмпбелл, новые писатели, приходившие в жанр, приносили с собой ауру университетов, науки и инженерии, логарифмическую линейку и лабораторную пробирку. Теперь новые авторы пришли под знаком поэтов и артистов – и заодно почему-то с аурой Гринвич-Виллиджа и левого берега Сены.
Естественно, ни один эволюционный катаклизм не происходит без довольно масштабных вымираний. Метеорит, окончивший меловой период, стер с лица земли динозавров, а переход от немого кино к звуковому оставил без работы орду фиглярствующих позеров.
Так же и с революциями в фантастике.
Прочитайте список авторов любого фантастического журнала начала тридцатых, а потом – список авторов фантастического журнала начала сороковых. Смена почти полная, потому что после крупного вымирания немногие угнались за жанром. (Среди немногих успевших – Эдмонд Гамильтон и Джек Уильямсон.)
Между сороковыми и пятидесятыми изменилось немногое. Еще шел своим чередом кэмпбелловский период, и это говорит нам о том, что одного только окончания десятилетия самого по себе недостаточно.
Но теперь сравните авторов журнала начала пятидесятых с сегодняшним журналом. Очередная смена. Снова кое-кто выжил, но уже влился целый поток молодых ярких авторов новой школы.
Эта Вторая революция не такая заметная и очевидная, как Первая. Среди всего прочего, что есть сейчас и чего не было тогда, – фантастическая антология, а антология размывает переход.
Каждый год выходит немало антологий, и рассказы в них почти всегда набираются из прошлого. В антологиях шестидесятых всегда заметно представлены рассказы сороковых и пятидесятых, и потому в них Вторая революция еще не случилась.
И это причина появления антологии, которую вы теперь держите в руках. Ее составляли не из рассказов прошлого. Ее составляли из рассказов, написанных только что, под влиянием Второй революции. Харлан Эллисон стремился представить жанр, как он есть сейчас, а не каким был раньше.
Если заглянете в содержание, вы увидите ряд авторов, прославившихся в кэмпбелловский период – Лестер дель Рей, Пол Андерсон, Теодор Старджон и так далее. Это те писатели, кому хватило мастерства и воображения, чтобы пережить Вторую революцию. Но все-таки еще вы увидите авторов, которых родили шестидесятые и которые знают только новую эпоху. Среди них Ларри Нивен, Норман Спинрад, Роджер Желязны и так далее.
Глупо думать, что все новое встретит общее одобрение. Те, кто помнит старое и чьи воспоминания неразрывно связаны со своей молодостью, будут, конечно, скорбеть о прошлом.
Не стану скрывать, я и сам скорблю по прошлому. (Мне здесь дали право говорить все, что я хочу, и я намерен быть откровенным.) Меня породила Первая революция – и Первую революцию я буду хранить в сердце всегда.
Вот почему, когда Харлан попросил написать рассказ для этой антологии, я отстранился. Я чувствовал, что любой мой рассказ сфальшивит. Будет слишком серьезным, слишком респектабельным и, проще говоря, чертовски консервативным. И потому я согласился взамен написать предисловие – серьезное, респектабельное и совершенно консервативное предисловие.
И предлагаю тем из вас, кто не консервативен и кто считает Вторую революцию своей, приветствовать образцы новой фантастики от новых (и некоторых старых) мастеров. Здесь вы найдете жанр в его самой дерзкой и экспериментальной ипостаси; пусть же он вас подобающе взбудоражит и восхитит!
Айзек АзимовФевраль 1967 года
Предисловие II
Харлан и я
Айзек Азимов
Вся эта книга есть Харлан Эллисон. Она пропитана и пронизана Эллисоном. Да, признаю, в ней участвовали еще тридцать два автора (в каком-то смысле включая и меня), но предисловие Харлана и его тридцать два предисловия окружают, обрамляют и пропитывают рассказы колоритом его личности.
Поэтому здесь совершенно уместно рассказать, как я познакомился с Харланом.
Место действия – Всемирная конвенция научной фантастики, чуть больше десяти лет назад.
Я только что приехал в отель и тут же направился в бар. Я не пью, но знаю, что в баре будут все. И там в самом деле были все, и я выкрикнул приветствие, и все крикнули мне в ответ.
Но был среди них молодой человек, которого я еще никогда не видел: невысокий парнишка с острыми чертами лица и самыми живыми глазами, что я видел. И теперь эти живые глаза вперились в меня с тем, что я могу назвать только почтением.
– Вы Айзек Азимов? – спросил он. И было в его голосе благоговение, изумление и потрясение.
Мне это очень польстило, но я, хоть и с трудом, сохранил скромность.
– Да, это я.
– Не шутите? Вы правда Айзек Азимов? – Еще не придуманы слова, чтобы описать ту страсть и уважение, с какими его язык ласкал слоги моего имени.
Мне уж казалось, остается только положить руку ему на голову и благословить, но я сдержался.
– Да, это я, – ответил я, и моя улыбка уже была совершенно идиотическая и тошнотворная. – Прав- да я.
– По-моему, вы… – начал он все еще с той же интонацией и замолк на долю секунды, пока я слушал, а публика затаила дыхание. В эту долю секунды его выражение сменилось на полное презрение, и закончил он фразу с наивысшим безразличием: – Ничто!
Для меня это было подобно эффекту падения со скалы, о наличии которой я и не подозревал, и приземления плашмя.
Оставалось лишь бестолково моргать, пока все присутствующие покатывались от хохота.
Тем парнишкой, как вы уже понимаете, был Харлан Эллисон, и я еще с ним не пересекался и не знал о его несравненной дерзости. Зато знали все остальные и ждали, когда ловко поставят меня на место – что и произошло.
Когда же я с трудом восстановил некое подобие равновесия, уже давно прошло время для какого-никакого ответа.
Я мог только держаться, как получится, хромая и истекая кровью, сокрушаясь, что меня застигли врасплох – и что никому не хватило самоотверженности предупредить меня и поступиться удовольствием от зрелища того, как я получаю свое.
К счастью, я верю в прощение, поэтому решил целиком и полностью простить Харлана – как только отплачу ему сторицей.
Тут вы должны понимать, что Харлан возвышается среди прочих в смелости, воинственности, красноречии, остроумии, обаянии, уме – словом, во всем, кроме роста.
Он не то чтобы высок. На самом деле, если говорить без обиняков, он довольно низок – даже ниже Напо- леона.
И пока я оправлялся от катастрофы, чутье подсказало, что для этого молодого человека, кого теперь мне представили как известного фаната – Харлана Эллисона, данная тема самую чуточку чувствительна. Я запомнил это себе на будущее.
На следующий день на конвенции я был на сцене, представлял известных людей добрым словом. Но на сей раз не спускал глаз с Харлана – ведь он сидел в первом ряду (а где же еще?).
Как только он отвлекся, я вдруг назвал его имя. Он встал, удивленный и растерявшийся, а я наклонился к нему и сказал как можно любезнее:
– Харлан, встань на своего соседа, чтобы люди тебя видели.
И пока публика (причем на сей раз куда многочисленнее) злорадно хохотала, я простил Харлана, и с тех пор мы добрые друзья[19].
Айзек АзимовФевраль 1967 года
Введение 1967 года
Тридцать два предсказателя
Харлан Эллисон
Вы держите в руках не просто книгу. Если нам повезет, это революция.
Эта книга – все двести тридцать девять тысяч слов, самая большая в истории спекулятивной литературы антология оригинальных рассказов, а то и самая большая в принципе, – собиралась с конкретной целью революции. Она задумывалась, чтобы встряхнуть. Она рождена из потребности в новых горизонтах, новых формах, новых стилях, новых вызовах в литературе нашего времени. Если мы все сделали правильно, она даст те самые новые горизонты, стили, формы и вызовы. А если и нет, то это все равно чертовски хорошая книжка с интересными рассказами.
Есть тесный круг критиков, аналитиков и читателей, которые заявляют, будто «просто развлечения» мало, что в рассказе должны быть суть и вес, важное послание, или философия, или сверхизобилие сверхнауки. Хотя в их заявлениях что-то есть, слишком уж часто это сводилось ко всей цели литературы – нравоучительное желание «что-то высказать». Хотя заявление, что теория должна затмевать сюжет, ненамного обоснованнее, чем то, что сказки – тот высший уровень, к которому должна стремиться современная литература, но мы, если бы нас сковали и угрожали загнать нам бамбуковые щепки под ногти, все-таки выбрали бы второе, а не первое.
К счастью, эта книга бьет ровно между двумя крайностями. Каждый рассказ чуть ли не агрессивно развлекателен. Но при этом каждый полон идей. И не просто тех конвейерных идей, что вы уже видели сотню раз, а идей новых и дерзких; каждая по-своему – опасное видение.
С чего вдруг столько разговоров о противостоянии развлекательности и идей? Причем в таком длинном предисловии к книге еще длиннее? Почему не дать рассказам говорить за себя? Потому что… хоть оно ходит как утка, крякает как утка, выглядит как утка и водится с утками, это еще не обязательно утка. Это сборник уток, которые прямо на ваших глазах превратятся в лебедей. Это рассказы настолько развлекательны, что сложно поверить, чтобы их писали ради идей. Но так оно и было, и, с изумлением наблюдая, как утки развлечений становятся лебедями идей, вы переживете тридцатитрехрассказовую демонстрацию «чего-то новенького» в спекулятивной литературе – nouvelle vague[20], если угодно.
А это, дорогие читатели, и есть революция.
Кое-кто говорит, будто спекулятивная литература пошла от Лукиана из Самосаты или от Эзопа. Спрэг де Камп в его превосходном «Справочнике фантастики» (Science Fiction Handbook, 1953) перечисляет Лукиана, Вергилия, Гомера, Гелиодора, Апулея, Аристофана, Фукидида и зовет Платона «вторым греческим „отцом фантастики“». Грофф Конклин в «Лучшей фантастике» (The Best of Science Fiction, 1946) предполагает, что ее исторические корни можно без труда найти в «Гулливере» Свифта, «Великом военном синдикате» Фрэнка Р. Стоктона (The Great War Syndicate, 1889), «Большом лунном надувательстве» Ричарда Адамса Локка, «Через сто лет» Эдварда Беллами, Жюле Верне, Артуре Конан Дойле, Герберте Уэллсе и Эдгаре Аллане По. Хэйли и Маккомас в классической антологии «Приключения во времени и пространстве» (Adventures in Time and Space, 1946) склоняются к великому астроному Иоганну Кеплеру. Мой личный кандидат в главные источники влияния на фантазию, лежащую в основе всей великой спекулятивной литературы, – это Библия. (Проведем микросекунду молчания в молитве о том, чтобы Бог не поразил меня молнией в печень.)
Но прежде чем меня обвинят в попытках забрать дурную славу у известных историков спекулятивной литературы, позвольте заверить, что я перечисляю все эти основы основ, только чтобы обозначить: я свою домашнюю работу сделал и поэтому имею право на дальнейшие безапелляционные заявления.
На самом деле современная спекулятивная литература родилась с Уолтом Диснеем и его классическим мультфильмом «Пароходик Уилли» в 1928 году. А что, нет? Как бы – мышь за штурвалом парохода?
В конце концов, исток не хуже Лукиана; ведь если перейти к сути дела, зародил спекулятивную литературу тот первый кроманьонец, который представил себе, что же там шмыгает во тьме вокруг его костра. Если он вообразил девять голов, пчелиные фасетчатые глаза, огнедышащие пасти, кроссовки и жилет в цветную клетку, он создал спекулятивную литературу. А если увидел горного льва, то, скорее всего, просто следовал моде и это не считается. И вообще он был трусишка.
Никто в здравом уме не будет отрицать, что самый очевидный предок того, что сегодня, в этом томе, мы зовем «спекулятивной литературой», – это журнал Amazing Stories Гернсбека, издававшийся с 1926 года. И если мы согласны в этом, тогда нужно отдать должное и Эдгару Райсу Берроузу, Эдварду Элмеру Смиту, Говарду Филипсу Лавкрафту, Эду Эрлу Реппу, Ральфу Милну Фарли, капитану США С. П. Мику (в отставке)… всей той братии. И конечно же, Джону В. Кэмпбеллу-мл., бывшему редактору журнала фантастики под названием Astounding, а теперь – редактору журнала с кучей схем-иллюстраций под названием Analog. Мистера Кэмпбелла принято считать «четвертым отцом современной фантастики» или кем-то в этом роде, поскольку это он предложил писателям сажать в свои аппараты персонажей. Так мы с вами подошли к сороковым – и к рассказам об изобретениях.
Но о шестидесятых это нам еще ничего не говорит.
После Кэмпбелла были Хорас Голд[21], и Тони Баучер[22], и Мик Маккомас, проложившие путь для радикальной идеи, что фантастику надо судить по тем же высоким меркам, что и все литературные жанры. То еще потрясение для бедолаг, которые писали и обустраивались в жанре. Пришлось им теперь учиться хорошо писать, а не только остроумно мыслить.
Отсюда мы и забредаем по колено в паршивых рассказах в Свингующие Шестидесятые. Которые еще не начали толком свинговать. Но революция уже не за горами. Потерпите.
Двадцать с лишним лет преданный фанат фантастики гордо бил себе в грудь и страдал из-за того, что мейнстримная литература не признает полеты фантазии. Сетовал, что книги вроде «1984», «Дивный новый мир», «Лимбо» и «На пляже» получили одобрение критиков, но «фантастикой» не считаются. Более того, заявлял он, их автоматически исключают из-за упрощающей теории, что это «хорошие книги, они просто не могут быть той фантастической ерундой». Он хватался за все пограничные попытки, пусть даже жалкие (например: «Бумаги „Ломоком“ Воука, „Гимн“ Айн Рэнд, „Белый лотос“ Херси, „Планета обезьян“ Буля»), только чтобы успокоить себя и подтвердить мысль, что мейнстрим подворовывает из другого жанра и что в том ouvrage de longue haleine[23], которое есть фантастика, существует множество богатств.
Теперь этот бешеный фанат устарел. Отстал от жизни на двадцать лет. Порой его параноидальные бредни еще слышны на заднем фоне, но он скорее ископаемое, чем сила. Мейнстрим давно нашел спекулятивную литературу, применил на благо и теперь находится в процессе ассимиляции. «Заводной апельсин» Бёрджесса, «Дай вам бог здоровья, мистер Розуотер» и «Колыбель для кошки» Воннегута, «Покупатель детей» Херси, «Выжили только влюбленные» Уоллиса, «Люди или животные?» Веркора (если брать только недавнюю россыпь) – всё спекулятивные романы высшего пилотажа, где задействованы многие инструменты, отточенные фантастами в своем застойном жанровом болотце. Ни один номер крупных глянцевых журналов не выходит без какого-либо упоминания спекулятивной литературы – либо со ссылкой на то, что она предсказала какой-нибудь ныне распространенный предмет научного интереса, либо открыто примазываясь к ведущим именам в жанре, ставя их в один ряд с джонами чиверсами, джонами апдайками, бернардами маламудами, солами беллоу.
Мы добились своего, такой здесь следует неизбежный вывод.
И все же тот не унимающийся фанат и множество писателей, критиков и редакторов, у кого за годы геттоизации выработалось туннельное зрение, не прекращают свои допотопные стенания, сами не подпускают к себе то самое признание, по которому так плачутся. Вот что Чарльз Форт называл «временем парового двигателя». Когда настает время изобрести паровой двигатель, его изобретут – не Джеймс Уотт, так кто-нибудь другой.
Сейчас – «время парового двигателя» для авторов спекулятивной литературы. Новое тысячелетие на дворе. Мы – то, что происходит.
И большинство тех любителей фантастики, что стоят у плачущей стены, в бешенстве. Ведь ни с того ни с сего и водитель автобуса, и стоматолог, и пляжный бездельник, и посыльный бакалейной лавки читают его рассказы; и хуже того, эти запоздалые новички не выказывают должного почтения к Великим Старым Мастерам жанра, не говорят, что рассказы о «Жаворонке» – блестящие, зрелые и увлекательные; не хотят копаться в терминологии, принятой в спекулятивной литературе уже тридцать лет, а хотят сразу понимать, что происходит; не встают в строй старого порядка. Они предпочитают «Звездный путь» и Кубрика Барсуму, и Рэю Каммингсу. И потому они – объекты фанатских издевок, изгибающихся в усмешках губ, очень напоминающих загибающиеся страницы древнего палп-издания Famous Fantastic Mysteries.
Но еще пагубнее для них появление писателей, не признающих старые обычаи. Тех юных умников, которые «пишут всякие литературные штуки», которые берут принятые замшелые идеи спекулятивной арены и переворачивают их с ног на голову. Это кощунство. Да поразит их Бог молнией в печень.
И все-таки спекулятивная литература (а заметили, как я ловко избегаю названия «научная фантастика»? уловили суть, друзья? вы купили эту самую спекулятивную литературу и даже не заметили! ну, раз уж попались, почему бы не дочитать и не просветиться) – самая плодородная почва для роста писательского таланта: здесь нет границ, здесь горизонты как будто никогда не становятся ближе. И вот эти наглые умники все лезут и лезут, доводя старую гвардию до белого каления. И боже мой! Как пали сильные мира сего; многие «большие имена» в жанре, светившиеся на обложках и в рейтингах журналов дольше, чем того заслуживают, больше не справляются, больше не пишут. Или ушли в другие области. Уступая новым, ярким – и тем, кто сам когда-то был новым и ярким, но остался обойден вниманием, потому что не считался «большим именем».
Но, несмотря на новый интерес мейнстрима к спекулятивной литературе, несмотря на расширенные и разнообразные стили новых авторов, несмотря на мощь и множество тем этих авторов, несмотря на то, что внешне выглядит здоровым рыночным бумом… у многих редакторов в жанре остается ограниченное, узколобое мышление. Потому что многие редакторы когда-то были просто фанатами и сохранили деформированные вкусы из спекулятивной литературы своей молодости. Писатель за писателем сталкивается с тем, что его работы цензурируются раньше, чем он их напишет: он же знает, что один редактор не допустит разговоров о политике на своих страницах, а другой сторонится исследований секса в будущем, а третий, что под плинтусом, не платит, разве что рисом с фасолью, – так к чему прожигать серые клеточки на дерзкую идею, когда какой-нибудь паразит купит затертую поделку про безумца в машине времени?
Это называется табу. И в жанре нет ни единого редактора, который не будет божиться под страхом водяной пытки, что у него их нет, что он даже поливает редакцию инсектицидом, чтоб табу не угнездились у него в папках, как чешуйница. Они говорят это на конвентах, говорят в печати, но больше десятка писателей в одной только этой книге при малейшем поводе расскажут об ужасах цензуры, называя имена всех редакторов в жанре – даже тех, кто живет под плинтусом.
О да, в жанре есть вызовы, публикуются действительно противоречивые, шокирующие рассказы; но как много всего еще остается не у дел.
И никто ни разу не говорил писателю спекулятивной литературы: «Пустись во все тяжкие, не сдерживайся, только выскажись!» Пока не появилась эта книга.
А теперь отвернитесь – вы на линии огня большой революции.
В 1961 году ваш редактор…
…секундочку. А то сейчас придумал, о чем лучше сказать. Вы уже могли заметить отсутствие серьезности и сдержанности со стороны Эллисона-редактора. Это вызвано не столько юношеским запалом – хотя в последние семнадцать лет целые легионы клялись, будто я выгляжу на четырнадцать лет моложе своего возраста, – сколько нежеланием со стороны Эллисона смириться с той жестокой реальностью, что я – писатель до мозга костей – отказался от капельки авторского гештальта и стал Редактором. Мне кажется странным, что из всех мудрецов в жанре – из всех тех, кто больше меня заслуживает писать предисловие к такой важной книге, какой мне бы хотелось считать эту, – такая задача выпала именно мне. Но если подумать, это и неизбежно; не столько из-за таланта, сколько из-за моей веры в важность книги и твердой решимости, что она просто-таки обязана выйти. Если бы я с самого начала знал, что книгу придется собирать больше двух лет, обо всех страданиях и расходах, я бы все равно на это пошел.
И в обмен на все радости антологии вам придется потерпеть навязчивость редактора, который как писатель не хуже всех здешних авторов и просто слишком рад возможности разок поиграть в Бога.
Так о чем это я?
Итак, в 1961-м ваш редактор работал над линейкой изданий в мягкой обложке для небольшого издательства в Эванстоне, штат Иллинойс. Среди проектов, которые мне хотелось отправить на печатный станок, был сборник спекулятивных рассказов от лучших писателей – все оригинальные и все крайне провокационные. Я нанял известного составителя антологий, и он, как сказали бы многие, поработал на совесть. Многие, но не я. Мне рассказы казались либо дурацкими, либо бессмысленными, либо грубыми, либо скучными. Многие из них с тех пор уже публиковались, даже в антологиях «лучшего». И Лейбер, и Бретнор, и Хайнлайн, если назвать только троих. Но та книга не возбудила меня так, как, по-моему, должен возбуждать подобный сборник. Когда я ушел из издательства, за проект попробовали взяться другой редактор и другой составитель. Дальше меня они не продвинулись. Проект умер при рождении. Понятия не имею, что случилось с рассказами, которые собрали они.
В 1965 году ко мне в гости в мой крошечный лос-анджелесский домик на дереве, с шутливым прозванием «Страна Чудес Эллисона» в честь одноименного сборника, приезжал Норман Спинрад. Сидим мы и болтаем о том да сем, как тут Норман принялся жаловаться на антологии – по какому поводу, уже не припомню. Но он сказал, что мне пора бы применить на деле те крамольные идеи о моем «чем-то новеньком» в спекулятивной литературе, которые я распространял, и собрать свою антологию. Я поспешил заметить, что это не мое «что-то новенькое» – как и не Джудит Меррил и не Майкла Муркока. У нас-то свои бренды.
И я глупо улыбнулся. Я в жизни не редактировал антологию, какого черта я в этом понимаю? (Так же скажут многие критики, когда дочитают эту книгу. Но продолжим…)
Незадолго до этого я продал Роберту Силвербергу рассказ для его будущей антологии. Я придрался к какой-то мелочи и получил ответ в неподражаемом стиле Силвербоба, часть которого приводится далее:
2 окт. 65 г. Дорогой Харлан, тебе будет приятно знать, что вчера ночью в долгом и утомительном сне я видел, как ты выиграл два «Хьюго» на прошлогоднем «Ворлдконе». И очень этим хвастался. Не знаю, в каких категориях, но одна из них наверняка «Безосновательное Нытье». Позволь же прочитать краткую отеческую лекцию в ответ на твое письмо-разрешение для антологии (которое, не сомневаюсь, немало напугает милых девушек в Duell, Sloan & Pearce)…
После чего он приступил к безжалостному осуждению моих слов о грошовом гонораре за то, что он переиздает в антологии мой второразрядный рассказ, который и брать-то не стоило. Далее следовало несколько легкомысленных абзацев, чтобы меня задобрить (надо добавить – безуспешно); абзацев уморительных, но к нашему разговору здесь отношения не имеющих, поэтому их вам придется читать когда-нибудь в будущем, в архивах Университета Сиракьюз. Но теперь мы подходим к PS, и он выглядит следующим образом:
Может, сам и сделаешь антологию? «Харлан Эллисон Выбирает Неожиданную Классику НФ» или что-то в этом роде…
Подписался он «Ивар Йоргенсен». Но это уже другая история.
Спинрад меня подтолкнул. Редактируй, редактируй, mein Kind[24]. И я начал «дальнезвонить» (это слово я подцепил у своей бабушки-еврейки, которая бледнела каждый раз, когда это предлагали делать ей) редактору Лоренсу Эшмиду, в Doubleday. Он еще никогда со мной не общался. Знал бы он, что за новые ужасы! о, новые ужасы! поджидают его из-за простой вежливости, выкинул бы сей опасный инструмент коммуникации с восьмого этажа того здания в стиле Министерства Правды, где обитает Doubleday, на Парк-авеню в Манхэттене.
Но он меня выслушал. Я плел волшебные золотые нити тонкой иллюзии. Большая антология, новые рассказы, скандальные, слишком взрывные для журналов, лучшие авторы, заголовки в главных изданиях, действие, приключения, пафос, тысячи действующих лиц, свист рака на горе.
И ведь зацепил. Зацепил на месте. Сладкоречивый оратор нанес очередной удар. О, как же ему понравилась моя идея! 18 октября я получил следующее письмо:
Дорогой Харлан, консенсус редакторов, ознакомившихся с твоим предложением по «Опасным видениям», таков: нам нужна конкретика… Если ты не поймешь, о чем именно будут оригинальные рассказы, и не предоставишь довольно четкое содержание, у меня нет ни шанса получить одобрение от нашего редсовета. Антологий в наше время пруд пруди, и если в них нет чего-то особенного, то они не оправдывают большие авансы. Больше того, моя политика для антологий (если только они не «особенные») – ограничиваться авторами, которые регулярно предлагают Doubleday романы. Вот если у тебя будут однозначные согласия авторов из твоего содержания «Опасных видений»… и я сам знаю, что это равнозначно ситуации Пряничного человечка, который не может бежать, пока не согреется, и не может согреться, пока не побежит, но…
А теперь исторический факт. Традиционно антологии составляются из рассказов, которые уже выходили в журналах. Такие можно купить для антологии в твердой обложке за грошовую долю от первоначальной цены. Писатель зарабатывает на дальнейших перепродажах, переизданиях в мягкой обложке, зарубежных правах и так далее. Если один раз ему заплатили, дальше он уже только снимает сливки. Получается, аванс в счет роялти на сумму 1500 долларов для составителя означает, что половину он может забрать себе, оставшиеся 750 долларов растянуть на одиннадцать-двенадцать авторов – и собрать книжку приличных размеров. Но раз данная книга целиком оригинальная, то и рассказы должны были писаться конкретно для нее (или в редких случаях быть написанными давно и быть отвергнутыми всеми возможными рынками из-за какого-либо табу; это уже, очевидно, совсем не так привлекательно, потому что обычно, если только рассказ не совсем уж крамольный, его можно продать хоть куда-то; если его не купил совсем никто, велик шанс, что он вовсе не скандальный, а попросту богомерзкий; и я слишком быстро подтвердил эту теорию; часто редакторы покупают рассказы противоречивого свойства не потому, что они шокируют, а потому, что они от «именитых писателей», а тем все сходит с рук; менее известным писателям с этим намного труднее; и если только они не заслужат громкое имя позже и не раскопают «крамольные» рассказы из своих запасников, их так никто и не увидит).
Но чтобы автор писал под заказ для книги, моя цена должна конкурировать с тем, что ему предлагают за первую продажу журналы. То есть стандартного аванса в полторы тысячи долларов мало. Тем более если речь о большом, всеохватном и репрезентативном проекте.
Три лишних цента[25] за слово от журнала – это немало для фрилансера, который зарабатывает на жизнь строго в жанровых журналах.
А значит, мне надо было уже минимум три тысячи долларов, чтобы удвоить аванс. Эшмиду, которому в Doubleday не разрешается выделять больше полутора тысяч долларов, пришлось бы получать одобрение редакционного совета – и он сомневался, что проект в нынешнем виде их заинтересует. Им и первые-то полторы тысячи выделять не хотелось. И тогда наш кадмиеглотковый оратор вновь взялся за трубку: «Привет, Ларри, милый мой котик!»
Так в конце концов возникла величайшая финансовая афера со времен скандала с «Типот Доум»[26]. Эшмид дает мне аванс в полторы тысячи долларов, на который я оплачиваю, ну, скажем, только тридцать тысяч слов из запланированных шестидесяти. Затем я шлю рассказы ему и прошу для завершения проекта еще полторы тысячи, и если все пойдет так, как мы ожидали, то выбить остаток у комитета не составит труда.
И вот сейчас, девятнадцать месяцев и двести тридцать девять тысяч слов спустя, «Опасные видения» стоили: Doubleday – 3000 долларов, мне – 2700 долларов из моего кармана (и никакого гонорара за составление), писателю Ларри Нивену – 750 долларов, которые он сам вложил в книгу, чтобы довести ее до ума. И при этом еще четырем авторам до сих пор не заплатили. Их рассказы пришли поздно, когда книга уже вроде бы была готова; но, услышав об идее и загоревшись, они сами хотели поучаствовать и согласились на задержку гонорара – который тоже пойдет из доли Эллисона, а не из роялти писателей.
Предисловие подходит к концу. Хвала звездам. В ходе рождения книги было еще множество невероятных происшествий, о которых здесь не сказано. Рассказ Томаса Пинчона. Эпизод с Хайнлайном. Дело Ломера. Происшествие с Тремя Рассказами Браннера. Срочный рейс в Нью-Йорк, чтобы договориться об иллюстрациях Диллона. Послесловие Кингсли Эмиса. Нищета, страдание, ненависть!
Всего пара слов о сути книги напоследок. Во-первых, она задумывалась как выставка новых литературных стилей, смелых экспериментов, непопулярных идей. Думаю, к этому определению подходят все рассказы, за одним-двумя исключениями. Не ожидайте ничего, будьте открыты ко всему, что пытаются сделать авторы, и наслаждайтесь.
Здесь нет многих авторов, знакомых читателям спекулятивной литературы. Антология и не задумывалась всеохватной. Одни исключались из-за самой сути их творчества – они сказали все, что имели сказать, уже давным-давно. Другие обнаружили, что не могут предложить ничего скандального или дерзкого. Кто-то просто не заинтересовался проектом. Но – за одним исключением – редактор никогда не отказывал из-за своих предубеждений. Поэтому вы найдете новых молодых писателей, таких как Сэмюэл Дилэни, бок о бок с известными мастерами, такими как Деймон Найт. Вы найдете гостей из других сфер, например Говарда Родмана с телевидения, плечом к плечу с ветеранами НФ-войн, например очаровательной (но в данном случае пугающей) Мириам Аллен Дефорд. Найдете традиционалистов вроде Пола Андерсона впритирку с дикими экспериментаторами, типа Филипа Хосе Фармера. Я просил только новое и нестандартное, но иногда рассказ был настолько… настолько рассказ (как кресло может быть очень креслом), что его просто нельзя не включить.
И наконец, составлять эту книгу для меня честь. После такого напора напыщенности это признание уже может показаться читателю ложной робкой скромностью в стиле Джека Пара[27]. Могу предложить вам лишь уверение редактора: «честь» – это даже слабо сказано. Видеть, как рос этот очень живой и завораживающий сборник, было все равно что подглядывать в скважину не просто будущего, но будущего всей спекулятивной литературы.
И подглядев, как эти тридцать два предсказателя повествуют свои истории завтрашнего дня, редактор пришел к выводу: все те чудеса и богатства, какие он ожидал от жанра, когда только начинал обучаться ремеслу, и в самом деле существуют. А если сомневаетесь, переходите к самим рассказам. Еще ни один не был в печати и как минимум в следующий год больше нигде не выйдет, поэтому вы совершили мудрую покупку – и заодно вознаградили тех, кто принес вам эти опасные видения.
Спасибо за внимание.
Харлан ЭллисонГолливудЯнварь 1967 года
Опасные видения
«Вечерняя молитва»
Предисловие
Я выбрал Лестера дель Рея, чтобы возглавить парад выдающихся авторов этой антологии, по нескольким причинам.
Во-первых, потому что… Нет, давайте сначала вторую причину, потому что первая – исключительно личная.
Во-вторых, потому что почетный гость 25-й ежегодной Всемирной конвенции научной фантастики, которая на момент выхода книги проходит в Нью-Йорке, – это Лестер дель Рей. Положение Лестера на конвенции и почесть поменьше – открывать этот сборник – это лишь капли той славы, что он заслуживает, давно просроченный долг. Лестер – из немногих «титанов» жанра, чья репутация покоится не на одном-двух блестящих рассказах двадцатипятилетней давности, а на огромном корпусе работ, что прирастает в многогранности и оригинальности с каждым новым прибавлением. Немногие оказали такое определяющее влияние на жанр, как дель Рей. А значит, нам его еще славить и славить.
Но первая причина – чисто личная. Во многом именно благодаря Лестеру я стал профессиональным писателем (я подвергаю его необязательной демонизации; заверяю, все прошло без его любезного участия; Лестер ни о чем и не подозревал). Когда я приехал в Нью-Йорк в 1955 году, сразу после отчисления из Университета Огайо, он и его очаровательная жена Эви приняли меня у себя дома в Ред-Банке, штат Нью-Джерси, и там-то, под садистским кнутом как будто неустанного попечительства Лестера (этакая образовательная «смерть от тысячи злодейских порезов», которая, заверял меня Лестер, обязательно разовьет мой талант, закалит характер и укрепит организм), я и начал постигать азы мастерства. Ведь мне кажется – даже сейчас, по размышлении десять лет спустя, – что из всех писателей в этом жанре лишь горстка, и из этой горстки прежде всего Лестер, может объяснить, что это такое: «хорошо писать». Он – живое и брыкающееся опровержение поклепа, будто учат те, кто не может сделать сам. Его навыки редактора, составителя антологий, критика и учителя коренятся непосредственно в его писательской мускулатуре.
О Лестере нелестно говорят, что, когда его похоронят, он будет спорить с червями из-за прав на его тело. Любой, с кем дель Рей снисходил до спора, здесь с пониманием кивнет. И я подчеркиваю – «снисходил», ведь Лестер – честнейший из людей: он не выложится в диспуте на полную силу, если шансы неравны: как минимум семь к одному. Я ни разу не видел, чтобы он проигрывал в споре. Неважно, что за тема, неважно, если вы в ней – единственный в мире специалист: у дель Рея такой неистощимый и внушительный арсенал фактов и теорий, что ваше поражение неизбежно. Я видел, как перед дель Реем пасуют сильнейшие. А уж склочников и балаболов он буквально раздевает догола и отправляет с визгом в туалет. Ростом Лестер где-то около метр семьдесят, с тонкими «младенческими волосами», которые ему трудно причесывать, носит очки лишь немногим толще донышка бутылки «Доктор Пеппер» и движим какой-то сверхъестественной силой, которую стоило бы изучить производителям кардиостимуляторов.
Лестер дель Рей родился Р. Альварезом дель Реем в 1915 году на арендованной ферме в Миннесоте. Почти всю жизнь провел в городах восточных штатов, хотя близкие знакомые порой слышат его рассказы об отце – яром эволюционисте из глухомани Среднего Запада. Лестер поработал агентом, пишущим учителем и агрономом, но уклоняется о вопросах об (очевидно) бесконечной череде поденных работ, которыми занимался до того, как тридцать лет назад стать писателем на полную ставку. Лестер – один из редких писателей, кто умеет неустанно говорить, но это не мешает ему писать. Последние тридцать лет он почти без умолку проговорил на мужских посиделках, лекциях, кафедрах, писательских конференциях, телевидении и наговорил свыше двух тысяч часов на манхэттенской передаче Лонга Джона Небела, где неизменно играет роль Голоса Разума. Его первый рассказ – «Преданный, как собака» – продан Astounding Science Fiction в 1937 году. Его книги слишком многочисленны, чтобы перечислять, – главным образом потому, что он пишет под десятью тысячами псевдонимов и с коварством пантеры прячет плохие произведения под вымышленными именами.
Что любопытно, этот первый рассказ в сборнике – одновременно последний полученный. Лестер – в первом десятке писателей, кого я зазвал на проект, и он спешил заверить, что пришлет рассказ в ближайшие недели. Год спустя, почти день в день, я встретился с ним на Фантастической конвенции в Кливленде и предъявил обвинение в пустозвонстве. А он заверил, что отправил рассказ уже месяцы назад, ничего не услышал в ответ и потому решил, что я его не принял. И вот такое – от профессионала с привычкой (привитой десяток лет назад и мне) слать рукопись, пока ее хоть кто-нибудь не купит. Писать в стол – это мастурбация, учит нас дель Рей. Когда я вернулся с конвента в Лос-Анджелес, пришла «Вечерня» с бледной припиской от дель Рея, будто он только хочет доказать, что рассказ правда давно написан. Приложил он, как я просил, и послесловие. Среди наворотов, что я задумал для антологии, – заключительные комментарии авторов об их отношении к тексту или мнение, почему именно этот рассказ является «опасным» видением, или их мысли о фантастике, или о читателях, или о своем месте во Вселенной… другими словами, все, что им хочется высказать, чтобы мы здесь установили столь редкую связь писателя и читателя. Вы найдете послесловия после каждого рассказа, но комментарии Лестера на тему самого послесловия кажутся особенно уместными для начала, поскольку выражают отношение многих собранных авторов. Он сказал:
«Послесловие у меня, боюсь, не самое умное или веселое. Но практически все, что хотел сказать, я вложил в сам рассказ. Так что просто оставил пару слов так называемым критикам, чтобы они поискали их в словаре и дальше ворчали уже чуток эрудированней. Я решил, что им стоит хотя бы узнать, что бывает такой прием: „аллегория“, пусть они и не поймут разницу между ней и простым вымыслом. Я всегда считал, что история должна говорить сама за себя, а автор не имеет отношения к ее достоинствам. (И у меня все-таки нашлась копия, чтобы отправить рассказ, который я уже посылал, правда, правда-правда, правдаправдаправда…)»
Вечерняя молитва
Лестер дель Рей
Когда он опускался на поверхность маленькой планетки, иссякли и последние остатки его энергии. Теперь он отдыхал, по капле набираясь сил у скупого желтого солнца, освещавшего зеленый лужок вокруг. Его органы чувств притупились от крайнего истощения, но страх, который он познал у Узурпаторов, подстегивал их, требуя искать хотя бы намек на убежище.
Это мирная планета, понял он, но от этого понимания страх только усилился. Во времена молодости он резвился во множестве миров, где можно было в полной мере поиграться с пульсом вечной игры жизни. Тогда вселенная изобиловала. Но Узурпаторы не терпели соперников собственному расцвету. Сами уже здешние мир и порядок означали только одно: некогда эта планета была им подвластна.
Втягивая в себя лишь жалкую струйку энергии по капле, он робко поискал их следы. Сейчас их здесь не было. Он бы сразу почувствовал, как давит их близость, и на это не было ни намека. Ровный зеленый край расстилался лугами и топями до далеких холмов. Вдали виднелись мраморные строения, поблескивали белизной на вечернем свете, но пустые – неизвестно, для чего они предназначались, но теперь они лишь украшали заброшенную планетку. Он взглянул в противоположную сторону, через ручей на другом конце широкого дола.
Там виднелся сад. На его просторах за низкими стенами теснились деревья – судя по всему, неухоженный заповедник. Среди ветвей и на вьющихся тропинках гость чувствовал движение крупной животной жизни. Здесь не хватало бурно кипящей энергии любой настоящей жизни, но хотя бы ее многочисленность могла бы скрыть его каплю энергии и от самых тщательных поисков.
Все же это убежище куда лучше открытого луга, и его тянуло туда, но на месте удерживала опасность выдать себя движением. Ему казалось, его побег прошел успешно, но он уже понимал, что права на ошибку он не имеет. И теперь выжидал, вновь вычуивая признаки западни Узурпаторов.
Он научился терпению в том узилище, что Узурпаторы создали в центре галактики. Там он скрытно набирался сил, замышляя побег, пока они колебались перед тем, как расправиться с ним раз и навсегда. А затем он вырвался с таким напором, что должен был умчаться далеко за пределы их владений во вселенной. Но познал неудачу, не достигнув границ даже этого спирального ветвления галактики.
Казалось, их паутина всюду. Высасывающие силу линии стягивались слишком мелкой сетью, чтобы проскользнуть через них. Они связали звезды и планеты, и сюда он добрался лишь благодаря целой череде чудес. И теперь эти чудеса вне его досягаемости. Узурпаторы тоже слишком многому научились на своей ошибке, когда впервые попытались поймать его и удержать.
И теперь он искал осторожно, опасаясь задеть какую-либо сигнализацию, но еще больше – вовсе упустить ее из внимания. Пока он летел в космосе, лишь эта планета сулила надежду, с виду свободная от их паутины. Но на решение отводились лишь микросекунды.
Наконец он вернулся восприятием к себе. Нигде не чувствовалось ни малейшего намека на ловушки и детекторы. Он уже начинал подозревать, что теперь и лучших его усилий может быть недостаточно, чтобы их обнаружить, но терпеть больше не мог. Поначалу медленно, а потом внезапным рывком он нырнул в лабиринт сада.
Ничто не грянуло с небес. Ничто не выросло прямо из-под земли, из планетного ядра, чтобы его остановить. Не было ни малейшей угрозы в шорохе листвы и песнях щебечущих птиц. Звучали без помех звуки животной жизни. Сад словно и не заметил его присутствия. Некогда это само по себе было немыслимо, но теперь это утешало. Должно быть, он уже лишь тень прежнего себя, неведомый и неощутимый ни для кого вокруг.
На тропинку, где он отдыхал, что-то вышло – на копытах, легко касавшихся изобилия палой листвы. Что-то быстро скакнуло в редком кустарнике.
Он задержал на них свое восприятие, когда они одновременно показались рядом. И тогда его густо окутал холодный ужас.
Одним существом был кролик, теперь жующий листья клевера, подрагивая ушками, пока розовый носик вынюхивал новую пищу. Другим – молодой олень, еще не растерявший детские пятна. Таких можно найти на тысяче планет. Но не конкретно этого типа.
Это Мир Встречи – планета, где он впервые наткнулся на предков Узурпаторов. И из всех миров в огромной галактике он решил искать убежище именно здесь!
Во времена расцвета его славы они были дикарями, ограниченными одним мирком, спаривались и шли на всех парах к заслуженному самоуничтожению, присущему всем подобным дикарям. И все-таки чувствовалось в них что-то необычное, что привлекло его внимание и даже его непостоянную жалость.
Из этой-то жалости он и обучил кое-кого из них, повел к высотам. Даже тешил себя поэтическими фантазиями сделать себе из них спутников и равных, когда жизненный срок их солнца подойдет к концу. Он отвечал на их призывы о помощи и даровал какие-то малости, чтобы направить к покорению все новых и новых пространств и энергии. А в ответ они вознаградили только высокомерием и гордостью, не допускавшими и намека на благодарность. Наконец он предоставил тех дикарей самим себе и удалился в другие миры ради более масштабных задач.
И это было его второй глупостью. Они уже слишком далеко зашли на пути к открытию законов вселенной. Каким-то чудом они даже избежали гибели от своих же рук. Они присвоили себе миры своего солнца и устремились дальше и уже скоро состязались с ним за планеты, что он выбрал своими. И теперь им принадлежало все, а ему – лишь крохотный пятачок в их родном мире, и то на время.
Ужас от осознания, что это Мир Встречи, поутих от воспоминания о том, с какой готовностью их множащиеся орды раз за разом овладевали и тут же бросали планеты. И вновь все известные ему методы не показали следов их присутствия поблизости. Вновь он позволил себе расслабиться, почувствовав внезапную надежду после минутного отчаяния. Наверняка им и в голову не придет, что он будет искать убежища на этой самой планете.
Он отложил свои страхи и устремил мысли к тому единственному, что могло даровать надежду. Ему требовалась энергия – и она имелась в любом месте, не тронутом сетями Узурпаторов. Эпохами она без толку опустошалась в космос – столько, что можно взрывать солнца или, наоборот, разжигать их целыми легионами. Это энергия для побега, а то и для приготовлений к новой встрече с ними – чтобы добиться коль не победы, так хотя бы перемирия. Дайте хоть пару часов без их ведома – и он набрал бы и удержал эту силу для своих целей.
Но стоило ему к ней потянуться, как грянул гром и солнце на миг словно потемнело!
Внутренние страхи вскипели и вырвались на поверхность, погнали его забиться в укрытие от обзора с небес раньше, чем он сам опомнился. Но один краткий миг еще теплилась надежда. Вдруг это явление вызвано его собственной потребностью в энергии; вдруг он черпал слишком жадно, оголодав по силе.
Потом сотряслась земля, и он все понял.
Узурпаторов не одурачить. Они знали, что он здесь, – ни разу не теряли его из вида. И теперь прибыли, как обычно, совершенно не таясь. Это сел их корабль-разведчик, и теперь они выйдут на его поиски.
Он с трудом вернул самообладание и загнал страх обратно в глубины. И теперь с опаской, стараясь не потревожить и травинки на земле или листочка на ветке, начал отступать, выискивая в центре сада самые глубокие дебри, где жизнь бьет ключом. Под этой маскировкой он сможет тянуть энергию хотя бы незаметным ручейком – достаточно, чтобы мастерски сплести вокруг себя грубую ауру и слиться со зверями. Многие разведчики Узурпаторов еще молоды и неопытны. Их можно обмануть. И пока они не вызвали других, еще есть шанс…
Он знал, что это не план, а лишь желание, и все-таки цеплялся за него, забившись в чащу посреди сада. Но затем его лишили и фантазий.
Шаги были твердыми и верными. Трещали ветки, поступь не отклонялась от прямой линии. И каждый твердый шаг неумолимо вел Узурпатора ближе к этому укрытию. Вот в воздухе разлилось слабое сияние, животные бежали в ужасе.
Он почувствовал на себе взгляд Узурпатора и попытался его отвести. И обнаружил, что, кроме страха, научился у Узурпаторов молитве: теперь он отчаянно молился пустоте, зная, что ответа не будет.
– Покажись! Эта планета священна, тебе нельзя здесь оставаться. Вердикт вынесен, тебе уготовано свое место. Покажись, и я отведу тебя туда! – Голос был мягким, но от звучавшей в нем силы притих даже шорох листьев.
Теперь он позволил взгляду Узурпатора упасть на себя, и молитва была безмолвной, направленной вовне, – и безнадежной, знал он.
– Но… – Слова бесполезны, но горечь не давала ему замолчать. – Но почему? Ведь я Бог!
На мгновение в глазах Узурпатора промелькнуло что-то сродни печали и жалости. Да только это мгновение прошло, и раздался ответ:
– Знаю. Но я – Человек. Выходи!
Наконец он склонился молча и медленно последовал за человеком, пока желтое солнце заходило за стены сада.
И были те вечер и утро восьмым днем.
Послесловие
Писатель, всерьез размышляющий о своем ремесле, наверняка все глубже и глубже погружается в древние вопросы философии – добра и зла, причины и следствия, ведь они лежат в основе любого сюжета и персонажа. Так же и я, будучи фантастом, который пытается разглядеть очертания будущего, неизбежно сталкиваюсь с вопросом телеологии: есть ли у вселенной и человека цель и замысел? Возможно, это и не важно. Если так, следовать ли им слепо? Если правит слепой случай, можем ли мы сотворить себе цель сами под стать нашим максимальным возможностям? Лично я принимаю свой Invictus[28] лишь с каплей биттера. Но принимаю всерьез. И потому «Вечерняя молитва» – не вымысел, а аллегория.
«Мухи»
Предисловие
Роберт Силверберг – один из моих старейших друзей. Это прекрасный писатель. И к тому же настоящий профессионал, что, к сожалению, для всяких балбесов значит, будто он штампует рассказы, как на конвейере. Они ошибаются, но не суть. О Силверберге-писателе мы еще поговорим.
А Силверберг-человек такой: родом из Бруклина и не хочет аплодисментов. Раньше редактировал фэнзин Spaceship – чрезвычайно интеллектуальный. Окончил Колумбийский университет. Женат на Бобби, красавице-исследовательнице в области физики, и живут они в величественном имении, когда-то принадлежавшем Фьорелло Ла Гуардии[29]. Выпустил от пятидесяти до шестидесяти книг в твердой обложке на темы от зоологии до археологии и обратно. Его первый рассказ «Планета Горгоны» вышел в шотландском фантастическом журнале Nebula в 1953 году. В 1956-м получил «Хьюго» как самый многообещающий автор, обойдя (вы только подумайте) автора этого предисловия.
Как и многие авторы спекулятивной литературы, автор этого предисловия завидует умению Силверберга брать и делать. Заблуждение, что гений и безумие – противоположные грани одной редкой монеты, которого держатся многие писатели, – это просто дешевое оправдание. С ним можно жить непредсказуемо, лупить жен, требовать свежезаваренный кофе в шесть утра, пропускать сроки, нарушать слово, сачковать, читая романы в мягких обложках под предлогом «сбора материала», сбегать от требований и правил, огрызаться на фанатов, быть тенденциозным и забронзовевшим. Можно сколько угодно придуриваться, если заставишь обывателя поверить, будто это важно для творческого процесса. Силвербергу такой принцип чужд. Он работает по строгому графику. Занимается своим ремеслом пять дней в неделю, шесть часов в день. Он пишет – и для него не писать значит не функционировать.
В отличие от писателей, которые изобретают многосложные и гениальные методы загнать себя в тупик, творческий кризис, нервотрепку, дилеммы и мрачные жизненные ситуации, на Силверберга с его упорядоченными рабочими привычками всегда можно положиться. Так он создал огромное и важное собрание работ, тем более впечатляющее, если вспомнить, сколько действительно запоминающихся романов, рассказов и нонфика он выпустил до тридцати лет. А уж теперь, после тридцати, Боб Силверберг пишет вещи вроде «Человек до Адама» (Man Before Adam), «Затерянные города и пропавшие цивилизации» (Lost Cities and Vanished Civilizations), «Родина краснокожих: Северная Америка индейцев до Колумба» (Home of the Red Man: Indian North America Before Columbus), «Иголка в стогу времени», «Прыгуны во времени» и той чудесной книги о живых ископаемых – «Забытые временем» (Forgotten by Time). Его интересы и специализация давно уже вышли за пределы художественной литературы, что и демонстрирует всего несколько его книг навскидку.
И все-таки Силверберг – дитя фантастики. Он один из последних «фанатов, ставших профессионалами», и хоть в основном его доход и заказы поступают из других творческих областей, он с радующей регулярностью возвращается к спекулятивной литературе, чтобы подтвердить свою репутацию, вспомнить о корнях, потешить себя рассказами, которые может писать только в этом жанре. Здесь представлен последний из них. Может, только из-за десятилетней дружбы с Бобом и знания практически всего, что он написал, но я заявляю, что «Мухи» – это один из самых пронзительных, самых оригинальных его экспериментов. И эксперимент удался.
Мухи[30]
Роберт Силверберг
Вот Кэссиди:
распростерт на столе.
От него немного осталось: черепная коробка, пучок нервов, одна конечность… Остальное исчезло в неожиданном взрыве. Того, что осталось, однако, Золотым было вполне достаточно. Кэссиди нашли в разбитом корабле, дрейфующем в их зоне, за Япетом. Он был жив; все прочие безнадежны.
Восстановить его? Конечно. Разве гуманность свойственна только людям? Восстановить, наладить – и изменить.
Останки Кэссиди покоились на столе в золотистой силовой сфере. Внутри все оставалось постоянным – не было ни дня, ни ночи, ни сегодня, ни завтра. Лишь беззвучно возникали и исчезали тени. Его регенерировали постепенно, этап за этапом. Мозг был цел, но не функционировал. Остальное восстанавливалось: мышцы и сухожилия, кости и кровь, сердце и локти. Золотые были великими искусниками. Однако многому еще они желали научиться.
Так день за днем Кэссиди возвращался к жизни. Его не будили. Он лежал в теплой люльке, бездвижный, немыслящий, убаюканный приливом силовых волн. Новая плоть была розовой и нежной, словно кожа младенца; эпителиальная ткань появится позднее. Кэссиди служил себе собственной матрицей.
Взгляните на Кэссиди:
Досье
Дата рождения: 1 августа 2316 года
Место рождения: Наяк, штат Нью-Йорк
Родители: Неизвестны
Жизненный уровень: Низкий
Образовательный уровень: Средний
Род занятий: Техник по топливу
Семейное положение: Три официальных брака
продолжительностью восемь,
шестнадцать и два месяца
Рост: Два метра
Вес: 96 килограммов
Цвет волос: Белокурый
Глаза: Голубые
Группа крови: A(II) Rh+
Интеллектуальный уровень: Высокий
Сексуальные наклонности: Стандартные
Теперь посмотрите на Золотых:
изменяют его.
Перед ними лежал человек, воссозданный, готовый к рождению. Наступила пора завершающей регулировки. Они проникли в черепную коробку и двинулись по каналам и проливам мозга, останавливаясь в тихих заводях, бросая якорь в спокойных бухтах. Сверкающие лезвия не рассекали плоть, холодная сталь не касалась нежных узлов, лазеры не испускали слепящих лучей. Золотые действовали гораздо тоньше: они настроили цепь, убрали шумы, ускорили передачу и сделали это очень аккуратно.
В довершение его наделили несколькими дополнительными чувствами и способностями. И наконец, привели в сознание.
– Ты жив, Кэссиди, – произнес голос. – Твой корабль разбит, все товарищи погибли.
– Я в больнице?
– Не на Земле. Но ты скоро туда вернешься. Встань, Кэссиди. Подними правую руку. Теперь левую. Согни колени. Сделай глубокий вдох. Открой и закрой глаза. Как тебя зовут?
– Ричард Генри Кэссиди.
– Возраст?
– Сорок один год.
– Взгляни в зеркало. Кого ты видишь?
– Себя.
– У тебя есть вопросы?
– Что вы со мной сделали?
– Восстановили. Ты был почти полностью разрушен.
– Вы меня изменили?
– Мы сделали тебя более чувствительным к переживаниям твоих близких – людей.
– Ох, – только и вымолвил Кэссиди.
Следуйте за ним:
назад на Землю.
Как приятно ступить на родную почву!.. Золотые хитроумно устроили возвращение, поместив Кэссиди в разбитый корабль и придав тому достаточную скорость. Его обнаружили и сняли спасатели. «Космонавт Кэссиди, как вам удалось уцелеть в катастрофе?» – «Очень просто, сэр: когда это случилось, я проводил ремонтные работы за бортом».
Его направили на Марс, затем продержали в карантине на Луне и наконец послали на Землю. У Кэссиди оставались кое-какие знакомые, было немного денег и три бывших жены. По закону после катастрофы он имел право на годичный оплачиваемый отпуск.
Вновь обретенные способности какое-то время не давали о себе знать; они должны были проявиться лишь по возвращении домой. Теперь он прибыл, и пора настала. Преисполненные любопытства создания на Япете терпеливо ждали, пока Кэссиди искал тех, кто когда-то его любил.
Он начал поиски в Чикагском городском районе, потому что именно там, возле Рокфорда, находился космопорт. У Центрального Телевектора Кэссиди безмятежно нажимал на нужные кнопки, представляя себе, как где-то в глубинах Земли срабатывают контакты. Кэссиди не принадлежал к темпераментным натурам. Он был невозмутим и терпелив.
Машина сообщила ему, что Верил Фрейзер Кэссиди Меллон живет в Бостонском городском районе. Машина сообщила ему, что Лорин Голстейн Кэссиди живет в Нью-Йоркском городском районе. Машина сообщила ему, что Мирабель Кэссиди Милмен Рид живет в Сан-Францискском городском районе.
Имена пробудили в нем воспоминания: тепло тела, аромат волос, прикосновение рук, звук голоса. Шепот страсти. Вздох истомы. Презрительная усмешка.
Кэссиди, восставший к жизни, решил повидать бывших жен.
Вот одна из них:
в здравом уме и твердой памяти.
Зрачки Берил Фрейзер Кэссиди Меллон были молочными, а белки отливали зеленым. За последние десять лет она сильно похудела, кожа на лице сморщилась и стала похожа на жеваный пергамент, сквозь который просвечивали скулы. Кэссиди женился на ней, когда ему было 24 года. Они прожили вместе шестнадцать месяцев и расстались после того, как Берил настояла на принятии Обета стерильности. Хотя он не жаждал иметь ребенка, ее поступок его оскорбил. Теперь Берил лежала в постели и пыталась улыбаться, не разжимая губ.
– Мне говорили, что ты погиб.
– Я уцелел. Как живешь, Берил?
– Сам видишь. Лечусь.
– Лечишься?
– Я пристрастилась к наркотику. Трилин. Неужели не замечаешь – мои глаза, мое лицо? Еще год, и он бы меня убил.
– Ты снова вышла замуж? – спросил Кэссиди.
– Мы давно разошлись. Пять лет, как я одна. Только я и трилин. – Берил моргнула. Кэссиди увидел, какого труда стоило ей это усилие. – Ты выглядишь удивительно спокойным, Дик. Впрочем, ты всегда был таким: невозмутимый, уверенный в себе. Подержи мою руку, прошу тебя.
Он коснулся горячей сухой ладони и почувствовал исходящую от женщины отчаянную жажду ласки, потребность в заботе. Пульсирующие волны проникали в него и уходили к далеким наблюдателям.
– Ты когда-то любил меня, – тихо сказала Берил. – Тогда мы оба были глупы. Полюби меня снова, хоть чуть-чуть. Помоги мне встать на ноги. Мне нужна твоя сила.
– Конечно, я помогу тебе.
Кэссиди покинул квартиру и купил три кубика трилина. Вернувшись, он активировал один из них и вжал в руку Берил. Зелено-молочные глаза в ужасе расширились.
– Нет! – воскликнула она.
Кэссиди воспринял пронизывающую боль, исходящую из глубин ее разбитой души, и передал дальше. Потом пальцы Берил скрючились, наркотик включился в метаболизм, и она успокоилась.
Взгляните на вторую:
с другом.
Робот-дворецкий объявил:
– Мистер Кэссиди.
– Впусти, – велела Мирабель Кэссиди Милмен Рид. Дверь автоматически поднялась, и Кэссиди вступил в великолепие из оникса и мрамора. На диване – изысканном произведении искусства из силового поля и ценнейших пород дерева – лежала Мирабель. Они поженились с Кэссиди в 2346 году и прожили восемь месяцев. В те дни она была стройной изящной девушкой; теперь ее тело расплылось, как вата, опущенная в воду.
– Похоже, ты удачно вышла замуж, – заметил Кэссиди.
– С третьей попытки, – отозвалась Мирабель. – Садись. Что будешь пить?
– Ты всегда хотела жить в роскоши. – Кэссиди продолжал стоять. – Самая интеллектуальная из моих жен, однако слишком любила комфорт. Теперь у тебя есть все.
– Да.
– Ты счастлива?
– Мне хорошо, – произнесла Мирабель. – Я уже не читаю так много, как прежде, но мне хорошо.
Кэссиди обратил внимание на то, что в первый момент он принял за одеяло, лежащее в ногах Мирабель: багряного цвета существо с золотыми прожилками, мягкое, нежное, с несколькими глазами.
– Зверек с Ганимеда?
– Да. Муж купил в прошлом году. Он мне очень дорог.
– Не только тебе. Эти создания стоят бешеных денег.
– Они почти как люди. Только более преданные. Наверное, тебе это покажется блажью, но сейчас в моей жизни ничего дороже нет. Понимаешь, я люблю его. Я привыкла, что любят меня; теперь я сама полюбила.
– Можно взглянуть? – попросил Кэссиди.
– Будь осторожен.
– Разумеется. – Он взял зверька в руки, погладил его; тот тихонько заурчал.
– Чем ты занимаешься, Дик? Все еще работаешь на маршрутных линиях?
Он оставил вопрос без ответа.
– Напомни мне строчку из Шекспира, Мирабель. Насчет мух и распущенных мальчишек.
Ее светлые брови нахмурились.
– Ты имеешь в виду из «Короля Лира»? Погоди… Ага! «Как мухам дети в шутку, нам боги любят крылья обрывать»[31].
– Вот именно. – Руки Кэссиди с силой сжались вокруг существа с Ганимеда. Зверек судорожно дернулся, посерел и затих. Лавина ужаса, боли, невосполнимой утраты, хлынувшая из Мирабель, захлестнула Кэссиди, но он выдержал ее и передал далеким наблюдателям.
– Мухи. Распущенные мальчишки. Мои шутки, Мирабель. Теперь я бог, ты знаешь это? – В его голосе слышались одновременно спокойствие и умиротворенность. – Прощай. Спасибо.
А вот и третья:
в ожидании новой жизни.
Лорин Голстейн Кэссиди, тридцатилетняя темноволосая женщина с огромными глазами и на седьмом месяце беременности, единственная из всех его жен не вышла больше замуж. Ее квартира в Нью-Йорке была маленькой и непритязательной.
– Теперь, конечно, ты выйдешь замуж? – спросил Кэссиди.
Она с улыбкой покачала головой.
– У меня есть кое-какие сбережения, и я ценю свою независимость. Я не позволю себе влезать в такую жизнь, какая была у нас с тобой. Ни с кем.
– А ребенок? Будешь рожать?
Лорин кивнула.
– Мне стоило больших трудов добиться его. Думаешь, это просто? Два года оплодотворения! Целое состояние! Специальный курс терапии, копошащиеся внутри меня мелкие твари, – и все для того, чтобы я могла родить! О, ты не представляешь! Я мечтала об этом ребенке, я готова отдать за него жизнь!
– Любопытно, – произнес Кэссиди. – Я навестил Мирабель и Берил; у них тоже были своего рода дети. У Мирабель – маленькая тварь с Ганимеда, у Берил – пристрастие к трилину и гордость, что она сумела его побороть. А у тебя младенец, появившийся на свет без помощи мужчины. Все трое, вы чего-то ищете… Любопытно.
– Дик, как ты себя чувствуешь?
– Прекрасно.
– У тебя такой равнодушный голос… ты просто выговариваешь слова. Мне даже почему-то страшно.
– Мм-м, да. Знаешь, какой добрый поступок я совершил для Берил? Я принес ей несколько кубиков трилина. И задушил зверушку Мирабель: причем сделал это, не испытывая ни малейших уколов совести. Если ты помнишь, я никогда не поддавался страстям.
– По-моему, ты сошел с ума, Дик.
– Я чувствую твой страх. Ты думаешь, что я собираюсь причинить вред твоему ребенку. Страх меня интересует, Лорин. Но горе, скорбь – это стоит проанализировать. Не убегай.
Она была такой маленькой, слабой и неповоротливой в своей беременности… Кэссиди мягко схватил ее за запястья и притянул к себе. Он уже воспринимал ее новые эмоции: ужас и – глубже, на втором плане, – жалость к себе.
Как можно избавиться от плода за два месяца до рождения?
Ударом в живот? Слишком грубо. Однако у Кэссиди не было других средств. И он резко ударил ее коленом. Лорин сникла у него в руках, а он ударил ее еще раз, оставаясь бесстрастным, так как было бы несправедливо получать удовольствие от насилия. Третий удар, казалось, достиг цели.
Лорин была все еще в сознании и корчилась на полу. Кэссиди впитывал ощущения. Младенец в утробе пока жил; возможно, он вообще не умрет. И все же ему каким-то образом причинен вред. Кэссиди уловил в сознании Лорин боязнь рождения ущербного ребенка. Зародыш должен быть уничтожен. Все придется начинать сначала. Очень грустно.
– За что? – шептала она. – За что?..
Среди наблюдающих:
эквивалент смятения.
Каким-то образом все получилось не так, как хотели Золотые. Выходит, даже они могли просчитаться. С Кэссиди необходимо что-то делать.
Его наделили даром обнаруживать и передавать эмоции окружающих. Полезная способность – из полученных таким образом сведений, возможно, удастся понять натуру человеческого существа. Но, сделав Кэссиди восприимчивым к чувствам других, Золотые были вынуждены заглушить его собственные эмоции. А это искажало информацию.
Он стал слишком жестоким. Это следовало исправить. Они могут позволить себе забавляться с Кэссиди, потому что он обязан им жизнью. Он же забавляться с другими не вправе.
К нему протянули линию связи; ему дали инструкции.
– Нет, – попытался противиться Кэссиди, – мне нет нужды возвращаться.
– Необходима дальнейшая регулировка.
– Я не согласен.
– Что ж…
Все еще продолжая упорствовать, однако не в силах оспорить команды, Кэссиди прилетел на Марс. Там он пересел на корабль, совершающий регулярные рейсы к Сатурну, и заставил свернуть его к Япету. Золотые уже ждали.
– Что вы со мной сделаете? – спросил Кэссиди.
– Изменим на противоположность. Ты больше не будешь сопереживать с другими. Теперь ты станешь передавать нам свои эмоции. Мы вернем тебе совесть, Кэссиди.
Он упорствовал. Но все было бесполезно.
В сияющей сфере золотистого света в Кэссиди внесли изменения. Его восприятия переключили таким образом, чтобы он мог питаться своим несчастьем, как стервятник, рвущий собственные внутренности. Кэссиди протестовал, пока хватало сил протестовать. А когда он очнулся, было уже поздно.
– Нет, – пробормотал он. В золотистом сиянии перед ним возникли лица Берил, и Мирабель, и Лорин. – Что вы сделали со мной… Вы меня мучаете… как муху…
Вместо ответа Кэссиди вновь отправили на Землю. Его вернули исполинским городам и грохочущим дорогам, дому удовольствий на 485-й улице, одиннадцати миллиардам людей. Его послали жить среди них, и страдать, и передавать свои страдания далеким наблюдателям.
Наступит время, когда они его отпустят. Но не сейчас.
Вот Кэссиди:
распят на кресте.
Послесловие
Один из моих первых фантастических рассказов – беспросветно мрачный портрет Нью-Йорка, опустившегося до каннибализма. Он оказался настолько реалистичным, что его никто не брал четыре года, и только увлеченные усилия редактора данной антологии довели его до печати.
Теперь, двенадцать-тринадцать лет спустя, я отошел от буквальных изображений каннибализма к символическим отображениям вампиризма – пожалуй, своего рода здоровый прогресс мрачности. Все писатели, когда им дают свободу, возвращаются к своим одержимостям, и все их придуманные ситуации, даже самые гротескные, что-то говорят о человеческих взаимоотношениях. Если кажется, что я говорю, будто мы пожираем друг друга, буквально или фигурально, – что мы высасываем друг из друга силы, что мы практикуем вампиризм и каннибализм, – быть по сему. Под гротеском кроется его противоположность; за мрачностью каннибализма кроется видеосентиментальность: «Люди нуждаются в людях». Пусть и хотя бы чтобы пожирать.
Никаких извинений. Никаких оправданий. Просто рассказ, выдумка, фантазии о будущих временах и других мирах. Не больше.
«День марсиан»
Предисловие
О Фредерике Поле говорить либо ничего, либо начать и уже не останавливаться. Это сам редактор журнала Galaxy; это он в 1953-м задумал и редактировал заслуженно известную серию оригинальных антологий Star Science Fiction Stories; это он в соавторстве с Сирилом Корнблатом написал «Торговцев космосом»; это он составил антологию 1952 года «Дальше конца времени» (Beyond the End of Time), которая спасла от забвения «Сканнеры живут напрасно» Кордвайнера Смита; это он та гончая, что выследила доктора Лайнбергера – то есть Кордвайнера Смита – и вернула в область спекулятивной литературы; это он тот искатель талантов, что задал планку для всей фантастики от Ballantine Books; это он лектор, что рыщет по Соединенным Штатам, рассказывает о последних достижениях науки и между тем служит послом доброй воли от спекулятивной литературы; это он редактор, безжалостно зарезавший мой недавний блестящий рассказ на том основании, будто слова «контрацептив» и «гениталии» оскорбительны. Ну, никто не идеален.
Фред Пол – чрезвычайно высокий человек лет сорока пяти, проживает в пути между редакцией Galaxy на Хадсон-стрит и Ред-Банком, штат Нью-Джерси, – домом его семьи. В первом он думает о мире, что мы создаем для себя, а во втором исследует телепередачи, несущие семена этого будущего мира. Очевидно, его тревожит то, что он видит. О чем и говорит нижеследующий рассказ.
Всего пару слов о рассказе. В нем с самым элементарным, практичным подходом затрагивается ужасно сложная проблема: здесь иррациональная человеческая реакция сводится к как можно более общему знаменателю, чтобы увидеть в ней бессмыслицу, которой она и является. Это без пяти минут журналистика, но не дайте внешней простоте ввести себя в заблуждение: Пол бьет наповал.
День марсиан[32]
Фредерик Пол
Мотель был переполнен. Управляющий – мистер Мандала – к тому же превратил в мужское общежитие заднюю часть вестибюля. Этого, однако, было мало, и он велел цветным коридорным освободить чулан.
– Мистер Мандала, пожалуйста, – взмолился старший коридорный, перекрывая стоявший шум, – вы же знаете: мы сделаем все, что скажете. Но так нельзя, потому что, во-первых, у нас нет другого места для старых телевизоров, и, во-вторых, все равно больше нет коек.
– Ты споришь со мной, Эрнст. Я запретил тебе спорить со мной! – сказал мистер Мандала.
Он забарабанил пальцами по столу и обвел сердитым взглядом фойе. Там разговаривали, играли в карты и дремали по меньшей мере сорок человек. Телевизор бубнил сводки НАСА, на экране застыло изображение одного из марсиан, плакавшего в камеру крупными студенистыми слезами.
– Прекрати! – повысил голос мистер Мандала, повернувшись как раз вовремя, чтобы перехватить взгляд коридорного. – Я плачу тебе не за то, чтобы ты смотрел телевизор. Поди узнай, не нужно ли помочь на кухне.
– Мы были на кухне, мистер Мандала. Нас там не хотят.
– Иди, когда я тебе велю! И ты тоже, Берзи.
Он проводил взглядом удаляющиеся спины. Если бы и от собравшейся толпы можно было так легко отделаться!.. Сидели на каждом стуле, сидели даже на подлокотниках кресел; те, кому не хватило места, подпирали стены и переполняли бар, в соответствии с законом закрытый уже два часа. Судя по записям в регистрационной книге, здесь были представители почти всех газет, информационных агентств, радио и телевизионных компаний – ждали утренней пресс-конференции на мысе Кеннеди. Мистер Мандала мечтал о скорейшем наступлении утра. Ему претил сумасшедший муравейник в фойе, тем более – он не сомневался – что многие не были даже зарегистрированы.
Телеэкран теперь показывал возвращение Девятой станции с Марса. Никто не обращал внимания – запись повторяли уже третий раз после полуночи, и все ее видели. Но когда на экране появилась очередная фотография марсианина, один из игроков в покер оживился и рассказал «марсианский» анекдот.
Никто не рассмеялся, даже мистер Мандала, хотя некоторые шутки были отменны. Все уже порядком от них устали. Или просто устали.
Первые сообщения о марсианах мистер Мандала пропустил – он спал. Разбуженный звонком дневного управляющего, мистер Мандала подумал сперва, что это розыгрыш, а потом решил, что сменщик спятил – в конце концов, кому есть дело до того, что Станция-9 вернулась с Марса с какими-то тварями? Даже если это не совсем твари… Но когда выяснилось, сколько поступило заявок на места, он понял, что кому-то, оказывается, дело есть. Сам мистер Мандала такими вещами не интересовался. Прилетели марсиане? Что ж, чудесно! Теперь мотель полон, как, впрочем, все гостиницы вокруг мыса Кеннеди. Никак иначе мистера Мандала марсиане не волновали.
Экран потемнел, и тут же пошла заставка выпуска новостей. Игра в покер немедленно прекратилась.
Незримый диктор стал читать информационное сообщение:
– Доктор Хьюго Бейч, известный техасский ветеринар из Форт-Уэрта, прибывший поздно вечером для обследования марсиан на военно-воздушную базу Патрик, подготовил предварительный отчет, который только что передал нам представитель НАСА полковник Эрик Т. Уингертер…
– Добавьте звук!
К телевизору потянулись руки. Голос диктора на миг совсем пропал, затем оглушительно загремел:
– Марсиан, вероятно, можно отнести к позвоночным теплокровным млекопитающим. Осмотр выявил низкий уровень метаболизма, хотя доктор Бейч полагает это в некоторой степени следствием длительного пребывания в камере для забора проб. Никаких признаков инфекционных заболеваний нет, тем не менее обязательные меры предосторожности…
– Черта с два! – крикнул кто-то, скорее всего непоседа из «Си-Би-Эс». – Уолтер Кронкайт побывал в клинике…
– Заткнись! – взревела дюжина голосов, и телевизор вновь стал слышен:
– …завершает полный текст отчета доктора Хьюго Бейча, переданного полковником Уингертером.
Наступило молчание; затем диктор стал повторять предыдущие сообщения. Игра в покер возобновилась, когда он дошел до интервью с Сэмом Салливаном, лингвистом из Университета Индианы, и его выводов, что издаваемые марсианами звуки являются своего рода речью.
Что за чепуха? – подумал одурманенный и полусонный мистер Мандала. Он выдвинул табурет, сел и задремал.
Его разбудил взрыв смеха. Мистер Мандала воинственно расправил плечи и, призывая к порядку, затряс колокольчиком:
– Дамы! Господа! Пожалуйста! Четыре утра! Мы мешаем отдыхать другим гостям!
– Да, конечно, – сказал представитель «Си-Би-Эс», нетерпеливо подняв руку. – Еще только одну минутку. Вот, послушайте мой. Что такое марсианский небоскреб? Ну, сдаетесь?
– Что же? – спросила рыжая девица из «Лайф».
– Двадцать семь этажей подвальных квартир!
– У меня тоже есть загадка, – сказала девица. – Почему вера предписывает марсианке закрывать глаза во время полового акта? – Она выдержала паузу. – Упаси Господь увидеть, что мужу хорошо!
– Так мы играем в покер или нет?! – простонал один из картежников, но его жалоба осталась без внимания.
– Кто победил на марсианском конкурсе красоты?.. Никто! Как заставить марсианку забыть про секс?.. Жениться на ней!
Тут мистер Мандала громко рассмеялся и, когда подошедший репортер попросил спички, с легким сердцем протянул коробок.
– Долгая ночка, а? – заметил репортер, раскуривая трубку.
– Да уж! – с чувством согласился мистер Мандала. Всем этим радиокорреспондентам, журналистам и операторам, ждущим утреннюю пресс-конференцию, с удовольствием подумал он, еще предстоит сорокамильная поездочка по болотам. И зря. Потому что там они увидят не больше того, что показывают сейчас.
Один из картежников рассказывал длинный нудный анекдот о марсианах, носящих шубы в Майами. Мистер Мандала смотрел на гостей неприязненно. Если бы хоть некоторые ушли к себе спать, он мог бы попробовать выяснить, все ли присутствовавшие зарегистрированы. Хотя на самом деле никого уже все равно не разместить. Мистер Мандала зевнул и безучастно вперил взгляд в экран, пытаясь представить себе, как во всем мире люди смотрят телевизор, читают о марсианах в газетах, думают о них… На вид они не заслуживали никакого внимания – неуклюжие вялые твари с тусклыми глазками, еле ползающие на слабых плавниках, задыхающиеся от непривычных усилий в земном тяготении.
– Тупорылые увальни, – сказал один из репортеров курильщику трубки. – Знаете, что я слышал? Я слышал, будто космонавты держали их в заднем отсеке взаперти из-за вони.
– На Марсе вонь, должно быть, почти не ощущается, – рассудительно заметил курильщик. – Разреженная атмосфера.
– Не ощущается? Да они в восторге от нее! – Репортер кинул на стойку доллар. – Не дадите мелочь для автомата?
Мистер Мандала молча отсчитал десятицентовики. Самому ему не приходило в голову, что марсиане воняют, но лишь потому, что он об этом не задумывался. Если бы он поразмыслил хорошенько, то мог бы и догадаться.
Взяв монетку для себя, мистер Мандала подошел с журналистами к автомату с кока-колой. На экране показывали сделанную космонавтами расплывчатую фотографию низких угловатых зданий – по утверждению НАСА, «самый крупный марсианский город».
– Не знаю… – проговорил репортер, потягивая из бутылки. – Думаете, они разумны?
– Трудно сказать. Жилища строят, – пожал плечами курильщик трубки.
– Гориллы тоже.
– Безусловно. Безусловно. – Курильщик просиял. – О, кстати, это мне напоминает… У нас дома его рассказывают об ирландцах. Летит следующий корабль на Марс, и вдруг выясняется, что какая-то кошмарная земная болезнь уничтожила марсиан. Всех до единого. Эти тоже сдохли. Осталась только одна марсианка. Ну, все жутко расстроены, в ООН идут дебаты, заключают пакт против геноцида, а Америка выделяет двести миллионов долларов компенсации. В общем, чтобы раса совсем не вымерла, решают свести эту марсианку с человеком.
– Боже!
– Вот именно. Искали-искали, наконец нашли бедолагу Падди О’Шонесси и говорят ему: «Ступай в клетку к той марсианке. Тебе и дел-то, чтоб она забеременела». О’Шонесси отвечает: «А что я с этого буду иметь?» – и ему обещают… ну, золотые горы. Конечно, он соглашается. Но потом открывает дверь клетки, видит эту дамочку и давай скорей оттуда пятиться. – Курильщик поставил бутылку в ящик и состроил гримасу, показывая охватившее Падди отвращение. – «Святые угодники! – причитает он. – Мне такое и привидеться не могло!» – «Тысячи фунтов, Падди!» – уговаривают его. «Ну ладно, – вздыхает тот. – Но при одном условии». – «Каком же?» – «Вы должны пообещать, что дети будут воспитаны во Христе».
– Да, я слышал, – вяло сказал репортер. Ногой он случайно задел штабель и повалил четыре ящика пустых бутылок.
Этого мистер Мандала уже вынести не мог. Его терпение лопнуло. Он судорожно вздохнул и затряс колокольчиком:
– Эрнст! Берзи! Бегом сюда! – А когда из двери показался оливковокожий Эрнст с перекошенным от ужаса лицом, мистер Мандала яростно закричал: – Сто раз вам твердил, бестолочи, не оставлять полные ящики!
Коридорные убирали битое стекло, украдкой поднимая черные лица и боязливо поглядывая на мистера Мандала, а тот стоял над ними и трясся от злости, чувствуя, что журналисты смотрят на него с неодобрением.
Утром, когда гости с шумом и гамом грузились в автобусы, мистер Мандала, сдав дела дневной смене, с двумя бутылками охлажденной кока-колы подошел к Эрнсту.
– Тяжелая ночь, – сказал он, и Эрнст кивнул. Они сели, прислонились к стене, отгораживающей бассейн от дороги, и принялись смотреть на отъезжающих репортеров. Большинство из них так и не сомкнули глаз. Мистер Мандала критически покачал головой – столько суматохи из-за какой-то ерунды!
Эрнст щелкнул пальцами и улыбнулся:
– Мне рассказали марсианскую шутку, мистер Мандала. Как вы обратитесь к гигантскому марсианину, который мчится на вас с копьем?
– О черт, Эрнст! – вздохнул мистер Мандала. – Я обращусь к нему «сэр». Этому анекдоту сто лет. – Он зевнул, потянулся и задумчиво произнес: – Казалось бы, должны появиться новые… А все, что я слышал, были с бородой. Только вместо католиков или евреев – марсиане.
– И я заметил, мистер Мандала, – поддакнул Эрнст.
Мистер Мандала встал.
– Пожалуй, лучше идти спать, – посоветовал он. – Вечером эта орава может вернуться. Не понимаю зачем… Знаешь, что я думаю, Эрнст? Что через полгода о марсианах никто и не вспомнит. Их появление ни для кого ничего не меняет.
– Вы меня простите, мистер Мандала, – кротко сказал Эрнст, – но я не могу с вами согласиться. Для некоторых людей это меняет очень многое. Это чертовски многое меняет для меня.
Послесловие
Моим убеждением было и остается, что рассказ должен говорить сам за себя и что любые слова, которые автор прибавляет после завершения, – слабость, ложь или ошибка. Но одно я бы все-таки хотел сказать о причине, почему этот рассказ написан. Не для того, чтобы убедить, что причина хороша или что рассказ достигает задуманной цели, – это вы уже решили сами, как и положено. Но чтобы показать, насколько точно реальность повторяет искусство.
После написания рассказа я встретил священника из небольшого алабамского городка. Как и во многих церквях – не только в Алабаме, – он ломает голову над вопросом интеграции. И считает, что придумал, как решить – или хотя бы сгладить – эту проблему среди белых подростков в своей пастве: он рекомендует им читать фантастику в надежде, что они научатся, во-первых, сопереживать хотя бы зеленокожим марсианам, если не чернокожим американцам, и, во-вторых, тому, что все люди – братья… по крайней мере, перед лицом огромной вселенной, где, весьма вероятно, обитают существа, совсем на людей не похожие.
Мне нравится, как этот человек служит своему Богу. Хороший план. Должен сработать. Лучше бы ему сработать – или помоги Господь нам всем.
«Наездники пурпурных пособий, или Великий гаваж»
Предисловие
Филип Хосе Фармер – один из редких действительно хороших людей, что я встречал. Добрый человек в тех смыслах этого слова, что означают силу, справедливость и человечность. Еще он неубиваем. Его громили мастера – а он каким-то чудом всегда выходит из заварушек непобежденным. Его обманывали второсортные издатели, преступно подводили никчемные агенты, позорно игнорировали высокомерные критики, терзали Фурии Случая и Неудачи – и все равно, все равно он сумел выпустить пятнадцать книг такого выдающегося качества, что считается «писателем для писателей» в жанре, где зависть и ехидный крис под ребра – дело житейское.
Филу Фармеру уже около пятидесяти, это учтивый человек и ходячий кладезь знаний обо всем на свете – от археологии до ночных привычек сэра Ричарда Бертона[33] (не актера). Он гуляет по улицам, пьет кофе, курит сигареты, любит внуков. Но самое главное – пишет истории. Такие истории, как «Любящие», которые ворвались в область фантастики в выпуске Startling Stories 1952 года, как взрыв на фабрике свежего воздуха. До того как к этой теме примерился Фил Фармер, секс не выходил за рамки обложек Берги[34], где позировали юные дамы с пышными телесами и тугими корсетами. Он исследовал, кажется, все грани аномальной психологии, и с таким взрослым и экстраполирующим подходом, какой в 1951 году большинство редакторов и вообразить не могли. А тем, кто посмеет принизить это достижение – и это в жанре-то, где редакторов и знатоков никогда не смущало отсутствие гениталий у Кимбола Киннисона[35], – пусть примут к сведению, что до появления Фармера с его страстным творчеством все психологические исследования, какими мог похвастаться наш жанр, ограничивались рассказами доктора Дэвида Г. Келлера[36], – а они, прямо скажем, чуточку не дотягивают до уровня, скажем, Достоевского или Кафки.
Редактору запрещено проявлять фаворитизм. И все-таки мое восхищение рассказом, который вы сейчас прочитаете, мое изумление всеми пиротехническими экзерсисами, моя зависть перед богатством мысли и превосходством структуры вынуждают сказать просто: это не только самый длинный рассказ в книге – где-то 30 тысяч слов, – но и, по-моему, с большим отрывом самый лучший. Нет, давайте лучше скажем «самый мастерский». Это такая яркая жемчужина, что перечитывания и переосмысления раскрывают грань за гранью, вывод за выводом, радость за восторгом, которые в первый раз проглядывают лишь отчасти. Основы рассказа подробно разбирает сам Фил Фармер в своем блестящем послесловии, и пытаться изображать тут оригинального и глубокомысленного комментатора было бы нелепо. Он умеет прекрасно говорить сам за себя. Но все же воспользуюсь случаем, чтобы обратить внимание на три элемента творчества Фармера, которые, как мне кажется, надо развернуть дополнительно.
Во-первых, его смелость. Получая отказы от редакторов, недостойных даже носить за ним пенал, он все равно писал произведения, требовавшие немалого ума и разрушения предыдущих образов мышления. Хотя его творчество уже встречали непонимающими взглядами читатели, привыкшие к рассказам про пушистых розовых и беленьких зайчиков, он упрямо стремился к одному опасному видению за другим. Зная, что может порядочно зарабатывать на макулатуре, зная, что на глубокие и пугающие темы ответят только враждебностью и глупостью, он по-прежнему не предавал свой стиль, свои задумки – свою музу, если угодно.
Во-вторых, его неспособность поставить точку. Малейшая искорка концепции заводит его все дальше и дальше к таким выводам и следствиям, из которых писатели похуже выжимали бы тетралогии. Фармер наследует великой традиции оригинальных мыслителей. Для него нет слишком трудных загадок. Нет слишком причудливых мыслей, к которым он бы побоялся подступить с инструментарием логики. Нет слишком больших рассказов, слишком малопонятных персонажей, слишком далеких для исследования вселенных. Какая же трагедия, что, хотя Фармер на световые годы обгоняет второстепенные таланты, бесконечно созерцающих блох в своих бородатых репутациях, тот самый жанр, который он решил удостоить своим даром, его практически не замечает.
В-третьих, его стиль. Который никогда не повторяется. Который растет в геометрической прогрессии с каждым новым произведением. Который требует от читателя интеллектуальных челюстей, с какими вгрызаются в лучшее в литературе. Его творчество – это стейк, который надо тщательно прожевать и переварить; не пудинг из тапиоки, который можно выхлебать без труда.
Я уже вижу, что заболтался. Пусть читатель отнесет это на счет воодушевления редактора из-за нижеследующего рассказа. Рассказ, разумеется, прислан по личному заказу, как и все в книге. Но Фармер, закончив на 15 тысячах слов, обратился к редактору и спросил, нельзя ли его переписать, расширить – бесплатно, потому что идеям нужно вздохнуть свободнее. Естественно, он и получил доплату, и переписал рассказ. Но доплату слишком маленькую. Учтите оригинальность, дерзость и недрогнувший взгляд в завтрашний день. Дальнейшие выплаты должны быть в виде читательских отзывов. Не говоря уже о премиях «Хьюго», штучках шести, что будут отлично смотреться на каминной полке его квартиры в Беверли-Хиллз, будто для нее и отлиты. Умному достаточно.
Наездники пурпурных пособий, или Великий гаваж
Филип Хосе Фармер
Если бы Жюль Верн правда заглянул в будущее – скажем, в 1966 год н. э., – он бы испачкал свои штанишки. А уж 2166-й – о чем говорить!
Из неопубликованной рукописи Дедули Виннегана «Как я поимел Дядю Сэма и другие частные излияния»
Великаны Бес и Под мелют его на хлеб.
Его ломаные кусочки всплывают в терпком вине сна. Огромные ноги давят глубинные виноградины ради инкубского причастия.
Он, как Саймон-простофиля[37], рыбачит в своей душе, будто левиафана – ведром.
Стонет в полусне, мечется, потеет темными океанами и стонет опять. Бес и Под, принимаясь за дело, ворочают каменные жернова пучинной мельницы, бормоча свое «Фи-фай-фо-фум». Глаза поблескивают рыже-красным, как кошачьи, зубы – тускло-белые цифры в мутной арифметике.
Бес и Под, сами простофили, деловито мешают метафоры, несамоосознанно.
Навозная куча и петушиное яйцо: поднимается василиск и издает первое кукареканье из трех, в милом приливе крови от зари – времени «Я-есмь-возбуждение-и-жесть»[38].
Оно растет и растет, пока вес и длина не объединяют силы, чтобы его изогнуть: еще не плачущая ива, сломанный тростник. Одноглазая красная головка свешивается за край кровати. Кладет свою челюсть без подбородка, а затем, когда набухает тело, соскальзывает вниз. Единооко поглядывает туда и сюда, архаически пошмыгивает по полу и направляется за дверь, оставленную открытой из-за ляпсуса сачкующих стражей.
Из-за громкого ржания из середины комнаты оно возвращается. Это игогочет трехногий осел, мольберт Баалов. На мольберте – «полотно»: неглубокий овальный таз из облученной пластмассы, особо обработанной. Полотно – семь футов[39] в высоту и восемнадцать дюймов в глубину. Внутри картины – сцена, которую надо завершить к завтрашнему дню.
И скульптура, и картина: фигуры рельефны, закруглены, одни расположены глубже других. Они горят светом изнутри – и из-за самосияющей пластмассы самого «полотна». Свет словно входит в фигуры, пропитывает их, а потом вырывается дальше. Свет бледно-красный – цвета зари, разбавленной слезами крови, гнева, чернил в колонке расходов в гроссбухе.
Эта – из его Собачьей серии: «Апёстол», «Схватка воздушных псов», «Собачья жизнь», «Псолнце», «Пес наоборот», «Филандрийский пес», «Песнь псин», «Охотник на псов», «Лежащий песик», «Пес под прямым углом» и «Импровизации на тему пса»[40].
Сократ, Бен Джонсон, Челлини, Сведенборг, Ли Бо и Гайавата пируют в таверне «Русалка». За окном видно, как Дедал на кносских валах запихивает ракету в задницу своему сыну Икару, чтобы запустить в знаменитый полет. В углу присел Ог, Сын Огня[41]. Он гложет кость саблезуба и рисует бизонов и мамонтов на заплесневелой штукатурке. Наклонилась над столиком барменша Афина – подает видным гостям нектар и крендельки. Позади пристроился Аристотель с козьими рогами. Он задрал ей юбку и кроет сзади. Пепел с сигареты, висящей в его ухмыляющихся губах, падает ей на юбку – и та начинает дымить. В дверях мужского туалета пьяный Бэтмен поддается давно подавлявшейся страсти и пытается уестествить своего Чудо-Мальчика. За другим окном – озеро, где по воде идет человек с позеленевшим от патины нимбом над головой. Позади него из воды торчит перископ.
Хватательный пенизмей обхватывает кисточку и начинает творить. Кисточка – это маленький цилиндр, насадка на шланге, который уходит в куполообразную машину. На другом конце цилиндра – отверстие. Ширину струи можно настраивать, подкручивая большим пальцем колесико на цилиндре. Цвет и оттенок краски, которую он выпускает мелкодисперсным туманом, или густой струей, или как угодно, настраиваются другими колесиками.
В ярости, хоботно, слой за слоем выстраивает он новую фигуру. Затем вдыхает густой аромат, роняет кисточку – и шасть за дверь и вдоль стены овального зала, выписывая каракули безногих созданий, надпись на песке: прочтут все, а поймут – немногие. Кровь кач-качается в одном ритме с жерновами Беса и Пода, подкармливая и бодря эту теплокровную рептилию. Но стены, заметив постороннюю массу и потустороннее желание, вдруг светятся.
Он стонет, и тогда половой полоз приподнимается и покачивается под флейту его желания о трахе без страха. Да не будет свет! Ночи будут его клоакой. Мчит мимо материной комнаты, ближайшей к выходу. Ах! Тихо вздыхает от облегчения, но свистит уж воздух в вертикальных упругих губах, объявляя об отбытии секспресса в Дезидерат.
Дверь стала архаичной – в ней появилась замочная скважина. Скорей! По наклону и прочь из дома через замочную скважину, на улицу. А на улице – дивиться девице: юная дева с фосфоресцентными серебристыми волосами что наверху, что внизу.
Быстрей на улицу, оплестись вокруг ее лодыжки. Она опускает взгляд с удивлением и потом – страхом. Ему это нравится: слишком желающих слишком много. Нашел одну на миллион на мили он.
Вверх по ее ноге, мягкой, как ушко котенка, и поперек межножного дола. Уткнуться в нежные крученые волоски и затем – сам себе Тантал – в обход легкого выгиба живота, поздоровавшись с пупком и нажав, чтобы позвонить выше, кружок-другой вдоль талии, застенчиво и украдчиво чмокнуть каждый сосок. И снова вниз, выступить в поход на венерин холм, дабы вонзить там флаг.
О, табу наслаждения, покущунство! Там младенец – уже рвется в действительность эктоплазма. Капля, яйцо – и залп по половым проходам плоти, готовой выхлебать счастливчика Микро – Моби Дика, который обгонит миллион миллионов братьев, – вжизньвливание сильнейшего.
Зал заполняется зычным хрипом. Жаркое дыхание холодит кожу. Он потеет. Набухший фюзеляж покрывается сосульками, провисает под весом льда, и катится вокруг туман, свистит мимо распорок, и скованы льдом элероны и элеваторы, и он быстро теряет вставоту. Выше, все выше! В тумане где-то впереди – Венерин городок; о Тангейзер, шли шлюх, бей в фанфароны, кричи карнавал, – я в крутом пике.
Материна дверь раскрылась. Жаба жирно жлобится в яйцеобразном дверном проеме. Словно меха, поднимает и опадает подгрудок; раззявлена беззубая пасть. Гиннунгагап. Раздвоенный язык выстреливает и сворачивается вокруг его уда-ва. Он вскрикивает обоими ртами и самотыкается туда-сюда. Пробегают волны отказа. Две перепончатые лапы вяжут дрыгающееся тельце узлами – сопливая бесформа.
Женщина дефилирует своими филеями дальше. Подожди меня! Наружу ревет поток, упирается в узел, ревет обратно, отлив сталкивается с потоком. Слишком много – и выход только один. Засим кончает, рушится водосвод, не видать Ноева ковчега или Евина ночлега; он сверхновит – прорыв миллионов поллюминисцентных ползучих метеоров, буря в стакане бытия.
Прошло царство межножье. Пах и живот замкнуты в затхлую броню, а сам он холодный, мокрый и дрожащий.
…дальнейшее произнес Альфред Мелофон Гласнарод, передача «Час отжиманий и кофе Северного сияния», канал 69В. Текст записан во время 50-й ежегодной демонстрации и конкурса Центра народного искусства. Беверли-Хиллз, уровень 14. Стихи Омара Вакхилида Руника – экспромт, если сделать скидку на размышления предыдущим вечером в непубличном доме «Личная вселенная», а отчего бы ее не сделать, если Руник из того вечера ничего не помнит. Несмотря на это, награжден Первым Лавровым Венком «А», учитывая, что Второго, Третьего и т. д. нет, венки классифицируются от «А» до «Я», боже, благослови нашу демократию.
- Серо-розовый лосось плещет вверх по водопадам ночи
- В нерестовый пруд завтрашнего дня.
- Заря – красный рев лучезарного быка,
- Что мчится за горизонт.
- Фотонная кровь истекающей ночи,
- Зарезанной солнцем-убийцей.
– и тому подобное, еще пятьдесят строк, перемежавшихся и прорежавшихся ликованием, аплодисментами, освистыванием, шипением и вскриками.
Чайб почти проснулся. Щурится в сужающуюся тьму, пока сон ревет прочь в подземный туннель. Щурится через едва приоткрытые веки на другую реальность: бодрствование.
– Отпусти детород мой! – стонет он в паре с Моисеем и, с мыслями о длинных бородах и рогах (с подачи Микеланджело), вспоминает прапрадеда.
Домкрат воли поднимает вежды. Он видит, как фидо покрывает стену напротив и изгибается на полпотолка. Рассвет, сей паладин солнца, бросает ему свою серую перчатку.
Канал 69В, ВАШ ЛЮБИМЫЙ КАНАЛ, местный лос-анджелесский, приносит вам рассвет. (Обман глубины. Ложный рассвет природы тенится благодаря электронам, образованными устройствами, образованными образованными людьми.)
Проснись с солнцем в сердце и песнью на губах!
Встрепенись под трогательные строки Омара Руника! Узри рассвет, как птиц на деревьях, как Бога, узри!
Гласнарод тихо читает строки под нарастающую «Анитру» Грига. Старый норвежец и не мечтал о такой публике – и слава богу. Молодой человек, Чайбиабос Эльгреко Виннеган, печалится своему липкому концу – спасибо недавнему гейзеру на нефтяных полях подсознательного.
– С седалища в седло, – говорит Чайб. – Сегодня мчит Пегас.
Он говорит, думает, живет в самом что ни на есть настоящем времени.
Чайб вылезает из кровати и поднимает ее в стену. Оставить кровать торчащей, мятой, как язык забулдыги, – нарушить эстетику комнаты, уничтожить тот изгиб, что есть отражение основ вселенной, повредить собственному творчеству.
Комната – большой овоид, а в углу – овоид малый: туалет и душ. Оттуда он выходит с видом гомеровского богоподобного ахейца: о массивных ногах, могучих руках, злато-бронзовой коже, голубых глазах, рыжих волосах – хотя безбородый. Телефон симулирует набат южноамериканской древесной лягушки, что он однажды слышал по Каналу 122.
– Сезам, откройся!
По фидо расползается лик Рекса Лускуса, поры кожи его подобны кратерам на поле боя Первой мировой войны. На левом его глазу черный монокль, вырванный с боем у худкритиков во время цикла лекций «Я люблю Рембрандта», канал 109. Ему хватает влияния подняться в списке ожидания на замену глаза, но он отказывается.
– Inter caecos regnat luscus, – говорит он, когда спрашивают, и часто – когда нет. – Перевод: «Среди слепых одноглазый – король». Вот почему я переименовался в Рекса Лускуса – то есть Одноглазого Короля.
Есть слух – порожденный самим Лускусом, – что, увидев произведение достаточно великого мастера, которое оправдывает фокальное зрение, он разрешает биослугам вставить ему искусственное белковое око. Еще ходят слухи, что скоро так он и сделает – открыв Чайбиабоса Эльгреко Виннегана.
Лускус смотрит жадно (он потеет наречиями) на пушок и выступающие края Чайба. Чайба в ответ распирает – не от похоти, а от гнева.
Лускус ласково улещает:
– Милый, я просто хотел убедиться, что ты уже встал и взялся за чрезвычайно важное дело дня. Ты обязан быть готов к премьере, обязан! Но теперь, увидев тебя, я вспоминаю, что еще не ел. Не хочешь ли со мной позавтракать?
– И что едим? – спрашивает Чайб. Он не ждет ответа. – Нет. Сегодня слишком много дел. Сезам, закройся!
Лик Рекса Лускуса угасает – лик козий, или, как он сам предпочитает выражается, лик Пана, фавна от мира искусств. Он даже истончил кончики своих ушей. Ну очень мило.
– Бе-е-е-е! – блеет гаснущему фантому Чайб. – Бе! Шарлатанство! В жизни не собираюсь лизать тебе жопу, Лускус, или позволять тебе лизать мою. Даже если лишусь гранта!
Снова звонит телефон. Появляется темное лицо Руссо Красного Ястреба. Нос орла, а глаза – осколки черного стекла. Широкий лоб стянут полоской красной ткани, что обхватывает прямые черные волосы, которые ниспадают на плечи. Рубашка – из оленьей кожи; на шее висят бусы. Он похож на индейца равнин, хотя Сидячий Бык, Бешеный Конь или самый благородный Римский Нос из них всех выставили бы его из племени взашей. Не потому, что были антисемитами – просто не смогли бы уважать воина, который впадает в ужас при виде лошади.
Рожденный Джулиусом Эпплбаумом, в День Именования он законно стал Руссо Красным Ястребом. Только что вернувшись из леса заново опервобыченным, теперь он наслаждается проклятыми притонами упадочной цивилизации.
– Как ты, Чайб? Все наши уже гадают, когда ты сюда приедешь?
– К вам? Я еще не завтракал, и у меня еще тысяча дел до выставки. Увидимся в полдень!
– Ты пропустил веселье вчера вечером. Какие-то чертовы египтяне щупали наших девок, но мы из них сделали ас-салями алейкум.
Руссо пропал, как последние краснокожие.
Стоит Чайбу подумать о завтраке, как свистит интерком. Сезам, откройся! Он видит свою гостиную. Клубится дым, слишком густой и яростный, чтобы с ним управился кондиционер. На дальнем конце овоида спят на плоске его сводные брат и сводная сестра. Заснули, заигравшись в маму-с-другом, рты раскрыты в блаженной невинности – прекрасны, как бывают прекрасны только спящие дети. Напротив их закрытых глаз – недреманное око, словно у монгольского циклопа.
– Разве они не милые? – говорит мама. – Дорогуши так умаялись, что тут и остались.
Стол круглый. Вокруг него собрались престарелые рыцари и леди – для очередной эпопеи туза, короля, королевы и валета. Их доспехи – лишь жир, слой на слое. Мамины брыли свисают, аки стяги в безветренный день. Ее груди расползаются и подрагивают на столе, по ним ходят волны и рябь.
– Жир транжир, – произносит он вслух, глядя на лоснящиеся лица, титанические титьки, завидные зады. Они воздевают брови. Какого черта теперь несет этот безумный гений?
– Твой сынок и правда отсталый? – спрашивает один из маминых друзей, и они смеются и дальше пьют пиво. Анджела Нинон, не желая упустить момент и решив, что Мама все равно скоро включит опрыскиватель, ссытся. Они смеются и над этим, и Вильгельм Завоеватель говорит:
– Я открываюсь.
– А я всегда открыта, – говорит Мама, и они визжат от смеха.
Чайба тянет плакать. Он не плачет, хотя с детства его приучали плакать, когда хочется.
От этого легче на душе – и посмотри на викингов, какими они были мужиками, а все равно рыдали, как дети, когда хочется
Цитата из популярной передачи «Что сделала мать?», канал 202
Он не плачет, потому что чувствует себя человеком, который только вспоминает мать, которую он любил и что скончалась в далеком прошлом. Его мать давно погребена под оползнем плоти. В шестнадцать лет у него была замечательная мать.
А потом она оставила его без денег.
СЕМЬЯ, ЧТО ДЕНЬГИ ЖЖЕТ, – ЭТО СЕМЬЯ, ЧТО РАСТЕТ
Из поэмы Эдгара Э. Гриста, канал 88
– Сынок, мне от этого выгоды нет. Я это делаю только потому, что люблю тебя.
И вдруг – жир, жир, жир! Куда она пропала? В сальные пучины. Исчезала, увеличиваясь в размерах.
– Сыночек, ты бы хоть со мной ссорился иногда.
– Ты лишила меня денег, мам. Но это ничего. Я уже большой мальчик. Просто ты не имеешь права думать, будто я захочу опять к этому вернуться.
– Ты меня больше не любишь!
– Что на завтрак, мам? – спрашивает Чайб.
– У меня хорошие карты, Чайби, – говорит мама. – Как ты сам не раз говорил, ты уже большой мальчик. Хотя бы сегодня приготовь себе завтрак сам.
– Зачем позвонила?
– Забыла, когда начинается твоя выставка. Хотела выспаться перед тем, как пойти.
– 14:30, мам, но идти не обязательно.
Накрашенные зеленые губы раскрываются, как гангрена. Она чешет нарумяненный сосок.
– О, но я сама хочу сходить. Не хочу пропускать художественные свершения родного сыночка. Как думаешь, тебе дадут грант?
– Если нет, нас ждет Египет, – говорит он.
– Эти вонючие арабы! – говорит Вильгельм Завоеватель.
– Виновато Бюро, а не арабы, – говорит Чайб. – Арабы переезжают сюда по той же причине, почему придется переехать нам.
Из неизданной рукописи Дедули:
«Кто бы мог подумать, что Беверли-Хиллз станет антисемитским?»
– Не хочу в Египет! – канючит мама. – Получи грант, Чайби. Не хочу отсюда уезжать. Я здесь родилась и выросла – ну, на десятом уровне, а когда переехала я, со мной перебрались и все мои друзья. Я не хочу уезжать!
– Не плачь, мам, – говорит Чайб, занервничав вопреки себе. – Не плачь. Правительство не может тебя заставить, ты же знаешь. У тебя есть права.
– Если хочешь дальше иметь плюшки, поедешь, – говорит Завоеватель. – Если только Чайб не выиграет грант. И я бы не стал его винить, если бы он даже не старался. Он не виноват, что ты не можешь отказать Дяде Сэму. У тебя есть и пурпур, и навар с картин Чайба. А тебе все мало. Ты тратишь быстрее, чем получаешь.
Мама яростно вопит на Вильгельма, и оба забывают о Чайбе. Он отключает фидо. К черту завтрак – поест потом. Последнюю картину на Праздник нужно закончить к полудню. Он нажимает на панель, и голая яйцеобразная комната открывается тут и там, оборудование выезжает, будто дар электронных богов. Зевксис бы психанул, а у Ван Гога началась бы трясучка, если б они только видели, по какому полотну, с какими палитрой и кистью работает Чайб.
В процессе рисования надо гнуть и складывать тысячи кусочков проволоки в разных формах на разной глубине картины. Проволока такая тонкая, что разглядеть ее можно только с увеличителями, а гнуть – исключительно тонкими пассатижами. Отсюда и его очки-консервы, и длинный, почти невидимый инструмент на первой стадии творения. После сотен часов кропотливого и терпеливого труда (любви) проволока на месте.
Чайб снимает очки, чтобы оценить общее впечатление. Затем покрывает проволоку из пульверизатора красками и оттенками по своему выбору. Краска высыхает в считаные минуты. Чайб подключает электрические проводники и нажимает на кнопку, пуская по проволочкам небольшой разряд. Те сияют под краской и – лилипутские фитили – пропадают в голубом дыме.
Результат – трехмерное произведение, твердые оболочки краски в несколько слоев. Оболочки разной толщины, но все такие тонкие, что, когда картину поворачивают под светом, свет доходит через верхний до внутреннего. Некоторые оболочки – лишь отражатели для усиления света, для заметности глубинных изображений.
На выставке картина будет на вращающемся пьедестале, вращаясь на 12 градусов левее и на 12 градусов от центра.
Вновь набат фидо. Чайб, матерясь, хочет его отключить. Это хотя бы не истерический зов интеркома от его матери. По крайней мере пока. Если она проиграется в покер, то скоро позвонит.
Сезам, откройся!
Дедуля пишет в «Личных измышлениях»: «Двадцать пять лет после того, как я сбежал с двадцатью пятью миллиардами долларов, а потом якобы скончался от сердечного приступа, а меня снова выследил Фалько Аксипитер. Детектив НБ, звавшийся Фальконом Ястребом, когда только пришел в профессию. Что за эготист! И все-таки глаз как у орла, хватка хищника, и я бы содрогнулся, если бы не был уже слишком стар, чтобы бояться простых смертных. Кто ослабил путы и снял шлем? Как он напал на древний остывший след?»
Лик Аксипитера – как у страдающего от излишней подозрительности сапсана, который глядит всюду, когда воспарит, который заглядывает и в собственный анус, чтобы точно знать, что там не угнездилась скрывающаяся утка. Бледно-голубые глаза мечут взгляды, как ножи из рукава по мановению кисти. Глаза с шерлоковским вниманием не упускают ни пустячных, ни важных деталей. Голова вертится то туда, то сюда, уши подрагивают, ноздри расширяются и сужаются – весь сплошь радар, сонар и одар.
– Мистер Виннеган, прошу прощения за ранний звонок. Я вас не разбудил?
– Очевидно, что нет! – говорит Чайб. – Не трудитесь представляться. Я вас знаю. Вы ходите за мной хвостом уже три дня.
Аксипитер не краснеет. Мастер самоконтроля – если надо покраснеть, он это делает в глубине кишок, где никто не увидит.
– Если вы меня знаете, может, скажете, и почему я вам звоню?
– За дурака меня принимаете?
– Мистер Виннеган, я бы хотел поговорить о вашем прапрадедушке.
– Он мертв уже двадцать пять лет! – восклицает Чайб. – Забудьте вы его. И хватит беспокоить меня. Даже не пытайтесь получить ордер на обыск. Его не выдаст ни один судья. Мой дом – моя нелепость… я хотел сказать, крепость.
У него на уме только мама и как пройдет день, если Аксипитер скоро не уйдет. Но сначала надо закончить картину.
– Исчезните, Аксипитер, – говорит Чию. – Пожалуй, пожалуюсь на вас в BPHR. У вас наверняка есть фидо в вашей дурацкой шляпе.
Лицо Аксипитера невозмутимо и неподвижно, словно гипсовый рельеф бога-сокола Гора. Возможно, его кишки слегка пучит от газов. Если и так, он и от него избавится незаметно.
– Ну хорошо, мистер Виннеган. Но так просто вы от меня не отделаетесь. Ведь все-таки…
– Исчезните!
Интерком свист трижды. Три раза – значит, Дедуля.
– Я подслушивал, – произносит голос стодвадцатилетнего старика, слабый и глубокий, как эхо из гробницы фараона. – Хочу повидаться с тобой перед уходом. Если можешь уделить несколько минут Ветхому Деньгами[44].
– Всегда могу, Дедуля, – отвечает Чайб, преисполняясь любовью к старику. – Принести еды?
– Да, и для разума тоже
Der Tag. Dies Irae. Götterdammerung[45]. Армагеддон. Все и сразу. Пан или пропал. Да или нет. Столько звонков – и предчувствие, что будут еще. Что готовит конец дня?
ПАСТИЛКА СОЛНЦА СОСКАЛЬЗЫВАЕТ В БОЛЬНОЕ ГОРЛО НОЧИ
Из Омара Руника
Чайб идет к выпуклой двери, которая сдвигается в щели между стенами. Центр дома – овальная комната для семейных собраний. В первом квадранте, по часовой стрелке, – кухня, отделенная от семейной комнаты шестиметровыми ширмами-гармошками, расписанными сценами из египетских гробниц рукой Чайба – его слишком тонкий комментарий на качество современной еды. Границы семейной комнаты и коридора размечают семь тонких столбов по кругу. Между столбами – еще высокие ширмы-гармошки, написанные Чайбом в его период увлечения америндской мифологией.
Коридор тоже овального очертания; в него выходят все комнаты в доме. Всего их семь – сочетания «шесть спален – мастерская – студия – туалет – душ». Седьмая – кладовая.
Маленькие яйца внутри яиц побольше внутри великих яиц внутри мегамонолита на планетарной груше внутри овоидной вселенной (новейшая космогония указывает, что у бесконечности форма куриного плода). Господь созерцает бездну и хохочет где-то каждый триллион лет.
Чайб идет через коридор, проходит между двумя колоннами, вырезанными им же в стиле кариатид-нимфеток, и попадает в семейную комнату. Мама косится на сына, который, на ее взгляд, на всех парах мчится к безумию, если уже не примчался. А отчасти виновата она сама: не стоило поддаваться отвращению и по прихоти лишать его всего. А теперь она толстая и некрасивая – о боже, какая же она толстая и некрасивая. Какие уж тут большие или даже малые шансы начать заново.
Ничего удивительного – твердит она себе, вздыхая, с обидой, в слезах, – что Чайб отказался от любви к матери ради чужих, упругих, фигуристых удовольствий молодых девушек. Но отказаться и от них?.. Он же не педик. Эти глупости он бросил в тринадцать. Так откуда вдруг целомудрие? Он не любит даже форниксатор, что она могла бы понять, если и не одобрить.
О боже, где же я ошиблась? И затем: со мной-то все в порядке. Это он сходит с ума, как его отец – кажется, звали его Рэли Ренессанс, – и его тетушка, и его прапрадед. Это все искусство и радикалы, Юные Редисы, с которыми он так носится. Он слишком творческий, слишком чувствительный. О боже, случись что с моим мальчиком – и мне придется отправляться в Египет.
Чайб знает, о чем она думает, – потому что она часто повторяла это вслух и не способна думать больше ни о чем другом. Он огибает круглый стол, не сказав ни слова. Рыцари и леди нафталинного Камелота взирают на него из-за пивной завесы.
На кухне он открывает овальную дверку в стене. Берет поднос с едой в накрытых чашечках и тарелках; все завернуто в пластик.
– Не поешь с нами?
– Не ной, мам, – отвечает он и возвращается к себе, за сигарами для Дедули. Дверь засекает, усиливает и передает зыбкий, но узнаваемый эйдолон эпидермальных электрических полей в механизм активации, поражается. Чайб слишком расстроен. Поверх его кожи бушуют магнитные мальстремы, искажая спектральную конфигурацию. Дверь чуть окатывается, задвигается, снова передумывает, катается туда-сюда.
Чайб пинает дверь – и ее заедает окончательно. Он решает, что придется отправить видео- или голосовой сезам. Беда в том, что у него маловато юнитов и купонов, на стройматериалы не хватит. Он пожимает плечами и идет по изгибающемуся одностенному коридору, останавливается перед дверью Дедули, скрытой от гостиной кухонными ширмами.
- Ибо пел он о свободе,
- Красоте, любви и мире,
- Пел о смерти, о загробной
- Бесконечной, вечной жизни,
- Воспевал Страну Понима
- И Селения Блаженных.
- Дорог сердцу Гайаваты
- Кроткий, милый Чайбайабос[46].
Чайб читает пароли нараспев; дверь отодвигается.
Полыхает свет – желтоватый свет с красным отливом, творение Дедули. Заглянуть в выпуклую овальную дверь – как заглянуть в глазное яблоко безумца. У Дедули – посреди комнаты – белая борода, ниспадающая до бедер, и белые волосы, льющиеся до тыльной стороны колен. Хоть его наготу могут скрыть борода и волосы – и сейчас он не на людях, – он в шортах. Дедушка старомоден, что простительно человеку недюжинной дюжины десятков лет.
Как и Рекс Лускус, он одноглаз. Улыбается он своими зубами, выращенными из пересаженных тридцать лет назад корней. Из уголка полных красных губ торчит большая зеленая сигара. Нос широкий и расплющенный, словно на него тяжело наступили. Лоб и щеки широкие – возможно, из-за примеси оджибве в крови, хотя он рожден Финнеганом и даже потеет по-кельтски, с ароматом виски. Голову держит высоко, а его серо-голубой глаз – словно озеро на дне допотопной ямы, остаток растаявшего ледника.
В общем и целом у Дедули лицо Одина, когда тот возвращается от Источника Мимира, гадая, не слишком ли высокую цену заплатил. Или же лицо обветренного, обтесанного Сфинкса в Гизе.
– На тебя глядят сорок столетий истерии, если перефразировать Наполеона, – говорит дедушка. – Скала веков. «А что такое человек?» – вопрошает новый Сфинкс, когда Эдип разгадывает вопрос старого, но ничего не меняет, потому что уже породил другого из своего рода – умника с вопросом, на который еще никто не нашел ответ. И может, даже к лучшему.
– Ты говоришь странно, – замечает Чайб, – но мне нравится.
Улыбается Дедуле, любит его.
– Ты сюда прокрадываешься каждый день не столько из любви, сколько ради знаний и мудрости. Я видел все, слышал все и передумал тоже немало. Я долго путешествовал перед тем, как найти прибежище в этой комнате четверть века назад. И все же именно заточение стало величайшей одиссеей.
– зову я себя. Маринад мудрости, пропитанный уксусом пересоленного цинизма и затянувшейся жизни.
– Ты так улыбаешься, будто у тебя только что была женщина, – поддразнивает Чайб.
– Нет, мальчик мой. Силу своего стержня я утратил уж тридцать лет назад. И благодарю за это бога, ведь он избавил меня от искушения блуда – не говоря уже о мастурбации. Однако у меня осталась другая сила, а значит, место для других грехов, причем даже тяжелее.
Не считая греха полового совокупления, парадоксально включающего в себя грех полового извержения, у меня хватало и других причин не просить Древнюю Черную Магическую Науку об уколах, чтобы преисполниться жизнью вновь. Я был слишком стар, чтобы привлекать молодых девушек чем-то, кроме денег. И еще слишком поэт, любитель красоты, чтобы любоваться морщинистыми опухолями своего поколения или нескольких до моего.
Так-то, сын мой. Мой язычок вяло болтается в колоколе секса. Динь-дон, динь-дон. Многовато дона, но плоховато с динем.
Дедуля смеется глубоким смехом – львиный рев со вспорхом голубей.
– Я лишь посланник древних, стряпчий давно скончавшихся клиентов. Не славить пришел я Цезаря, а хоронить[48], и мое чувство справедливости вынуждает признать и грехи прошлого. Я заскорузлый старик, в узилище, как Мерлин в его дереве. Залмоксис, тракийский бог-медведь, в спячке в пещере. Последний из Семи Спящих.
Дедуля идет к торчащей из потолка тонкой пластиковой трубе и опускает складные рукоятки окуляра.
– Перед нашим домом завис Аксипитер. Учуял что-то неладное в Беверли-Хиллз, 14-й уровень. Неужто Великан Виннеган еще жив? Дядя Сэм – как диплодок, которого пнули под зад. Сигнал доходит дот мозга двадцать пять лет.
На глаза Чайба наворачиваются слезы.
– О боже, Дедуль, – говорит он, – не хочу, чтобы с тобой что-то случилось.
– А что может случиться со стодвадцатилетним стариком, не считая отказа мозга или почек?
– Со всем уважением, Дедуль, – говорит Чайб, – но ты еще коптишь небо.
– Зови меня жерновами Ид, – отвечает дедушка. – Мука из нее печется в странной печи моего эго – хоть о ней уже никто и не печется.
Чайб улыбается сквозь слезы.
– В школе учат, что каламбуры – это примитивно и вульгарно.
– Что хорошо Гомеру, Аристофану, Рабле и Шекспиру, то хорошо и для меня. К слову о примитивном и вульгарном: встретил тут намедни вечером твою матушку в коридоре, до начала их игры в покер. Я как раз выходил из кухни с бутылкой. Она чуть не упала в обморок. Но быстро оправилась и сделала вид, что меня не заметила. Может, решила, что увидела привидение. Но сомневаюсь. Она бы уже трепалась об этом по всему городу.
– Она могла рассказать своему врачу, – говорит Чайб. – Она видела тебя и несколько недель назад, помнишь? Могла и упомянуть к слову, когда жаловалась на свои так называемые головокружения и галлюцинации.
– А старые костоправы, зная семейную историю, позвонили в НБ. Возможно.
Чайб заглядывает в окуляр перископа. Поворачивает его, вращает колесики настройки на рукоятках, опускает циклопов на конце трубы снаружи. Аксипитер рыщет у скопления семи яиц, где каждое стоит на широкой тонкой изогнутой ветви-мостике, торчащей от центрального пьедестала. Аксипитер поднимается по ступенькам к мостику, ведущему к двери миссис Эпплбаум. Дверь открывается.
– Видимо, подловил ее вне форниксатора, – говорит Чайб. – А ей-то наверняка одиноко; по фидо она с ним говорить не захочет. Боже, она толще мамы!
– Отчего бы и нет? – говорит дедушка. – Мистер и миссис Обыватели сидят на заду день напролет, пьют, едят и смотрят фидо: мозги разжижаются, а тела расплываются. В наше время Цезарь без труда окружил бы себя толстыми друзьями. И ты ешь, Брут?
Впрочем, комментарий Дедули не подходит к миссис Эпплбаум. У нее дырка в голове, а люди с зависимостью от форниксатора толстеют редко. Они сидят или лежат весь день и часть ночи, пока иголка в форниксе мозга производит небольшие электрические разряды. С каждым разрядом тела захватывает неописуемый экстаз – удовольствие намного выше, чем от еды, питья или секса. Это незаконно, но правительство не тревожит пользователей, если только не хочет от него чего-то еще: у форниксов редко бывают дети. У двадцати процентов ЛА в черепе просверлены дырки для доступа иголок. Зависимость – у пяти процентов; они чахнут, редко едят, из растянутых мочевых пузырей сочится яд в кровоток.
– Мои брат с сестрой наверняка замечают тебя, когда ты прокрадываешься на церковную службу, – говорит Чайб. – Они не могли?..
– Они тоже принимают меня за привидение. В наше-то время! Впрочем, уже неплохо, что они верят хоть во что-то, пусть и в суеверие.
– Тебе лучше больше не ходить в церковь.
– Церковь да ты – вот и все, что еще поддерживает во мне жизнь. Но грустный был день, когда ты сказал, что не можешь уверовать. Из тебя бы вышел хороший священник – со своими изъянами, конечно, – а у меня была бы своя служба и исповедальня прямо в этой комнате.
Чайб молчит. Он ходил на уроки и службы, чтобы порадовать дедушку. Церковь была яйцевидной морской раковиной, в которой, если поднести к уху, слышался только отдаленный рев бога, уходящий, как отливная волна.
ДРУГИЕ ВСЕЛЕННЫЕ МОЛЯТ О БОГАХ,
и все же Он слоняется в поисках работы у этой.
Из рукописи Дедули
За перископ встает Дедуля. Смеется:
– Налоговое бюро! Я-то думал, его давно распустили! У кого еще остался такой доход, чтобы о нем стоило сообщать? Как думаешь, не работают ли они только ради меня одного? Не удивлюсь.
Он подзывает Чайба обратно, наставив перископ в центр Беверли-Хиллз. Чайб смотрит между семияйцевыми кладками на разветвленных пьедесталах. Видит часть центральной площади, гигантские овоиды ратуши, федеральные бюро, Народный центр, часть массивной спирали, где установлены культовые сооружения, и дору (от слова «пандора»), где люди на пурпурном пособии получают продукты по делу, а люди с дополнительным доходом – безделицы. Виден конец большого искусственного озера: на нем плавают лодки и каноэ, рыбаки.
Облеченный пластиковый купол, накрывший кладки Беверли-Хиллз, – небесно-голубой. Взбирается к зениту электронное солнце. Видна пара белых и реалистичных картинок облаков, даже клин гусей в миграции на юг, слабо слышится их перекличка. Довольно реалистично – для тех, кто ни разу не был за стенами ЛА. Но Чайб провел два года в Корпусе всемирной реабилитации и сохранения природы – КВРСП – и знает разницу. Он чуть было не решил дезертировать вместе с Руссо Красным Ястребом и влиться к неоамериндам. Потом хотел стать егерем. Но тогда бы ему в конце концов пришлось застрелить или арестовать Красного Ястреба. К тому же просто не хотелось быть сэмщиком. А еще больше всего на свете хотелось рисовать.
– А вот и Рекс Лускус, – говорит Чайб. – У него берут интервью перед Народным центром. Ну и толпа.
Вторым именем Лускуса должно было быть Конкурент. Человек великой эрудиции и пронырливости Улисса, с привилегированным доступом к Библиотеке компьютера Большого ЛА, – он всегда обходил своих коллег.
Он же учредил школу критики «Движуха».
Когда Лускус объявил название своей новой философии, Прималюкс Рескинсон, его главный соперник, провел обширное исследование. И торжествующе объявил, что Лускус перенял выражение из устаревшего сленга середины двадцатого века.
На следующий же день Лускус заявил в фидо-интервью, что Рескинсон – неглубокий исследователь, но чего от него еще ожидать.
На самом деле слово «движуха» пришло из языка готтентотов. У них это значило «исследовать» – то есть наблюдать, пока что-нибудь да не заметишь в своем объекте; в данном случае – в художнике и его произведениях.
Критики выстроились к новой школе в очередь. Рескинсон подумывал покончить с собой, но взамен обвинил Лускуса, что он поднялся по лестнице успеха через постель.
Лускус ответил по фидо, что его личная жизнь – личная, а Рескинсон – на грани нарушения ее тайны. Впрочем, Рескинсон заслуживал усилий не больше, чем нужно, чтобы прихлопнуть комара.
– Что это еще за «комар»? – вопрошали миллионы зрителей. – Вот бы этот яйцеголовый говорил попроще, чтобы мы понимали.
Голос Лускуса на минуту становится тише, пока переводчики объясняют слово, только что получив записку от наблюдателя, раскопавшего его в энциклопедии фидо-станции.
Лускус еще два года ездил на новизне школы «движухи».
А затем вновь утвердил свой пошатнувшийся престиж благодаря философии Абсомогущего Человека.
И стала она такой популярной, что Бюро культурного развития и досуга потребовало на полтора года ежедневный час для вступительной программы абсомогущества.
Комментарий Дедули Виннегана в «Личных измышлениях»:
Что сказать об Абсомогущем Человеке, этом апофеозе индивидуальности и полного психосоматическоого развития, демократическом уберменше в том виде, как его рекомендует Рекс Лускус, сексуально одностороннем? Бедный старый Дядя Сэм! Старается втиснуть переменчивость своего народа в единую стабильную форму, чтобы ими управлять. И в то же время поощряет всех и каждого развивать врожденные способности – будто они есть! Бедный старый длинноногий, хлипкобородый, мягкосердый, твердолобый шизофреник! Воистину левая рука не знает, что творит правая. На самом деле и правая рука не знает, что делает правая.
«Что сказать об Абсомогущем Человеке? – ответил Лускус председателю на четвертой сессии „Лусковских лекций“. – Как он противоречит современному цайтгайсту? А он не противоречит. Абсомогущий Человек – императив нашего времени. Он должен явиться, чтобы воплотить Золотой мир. Как можно иметь Утопию без утопийцев, Золотой мир без людей со стальной волей?»
Лускус дал речь о Пеллюсидарном прорыве в Памятный день и прославил Чайбайабоса Виннегана. И заодно сильнее всего посрамил своих конкурентов.
– Пеллюсидарный? Пеллюсидарный? – бормочет Рескинсон. – О боже, что теперь выдумала наша фея Динь-Динь?
– В двух словах не объяснишь, почему я зову гениальный подход Виннегана именно так, – продолжает Лускус. – Для начала позвольте зайти издалека.
– Итак, однажды Конфуций сказал, будто медведь на Северном полюсе не может пёрнуть, не подняв бурю в Чикаго.
Под этим он имел в виду, что все события, все люди взаимосвязаны нерушимой паутиной. Что делает один, пусть самое незначительное, отдается по нитям и затрагивает каждого.
Хо Чун Ко, сидя перед своим фидо на 30-м уровне Лхасы, Тибет, говорит жене:
– Этот белый дурень все перепутал. Конфуций в жизни такого не говорил. Сохрани нас Ленин! Еще позвоню ему и устрою головомойку.
Жена отвечает:
– Давай переключим канал. Сейчас идет «Пай-Тинг-Плейс» и…
Нгомбе, 10-й уровень, Найроби:
– Здешние критики – кучка черных сволочей. А вот возьми Лускуса – он бы вмиг разглядел мой гений. Завтра же с утра подаю на эмиграцию.
Жена:
– Хоть меня бы спросил, хочу я ехать или нет! А как же дети… мама… друзья… собака?.. – и так далее всю безльвиную ночь самосиятельной Африки.
– …бывший президент Радинов, – продолжает Лускус, – назвал наше время «Веком Подключенного Человека». Немало вульгарных насмешек прозвучало по поводу этого, по моему мнению, проницательного оборота. Но Радинов не имел в виду, что наше общество – это некая «человеческая гирлянда». Он имел в виду, что электрический ток современного общества бежит по цепи, к которой подключены все мы. Это Век Полной Взаимосвязи. Провиснет хоть один провод – и закоротит нас всех. И все ж неоспоримо: жизнь без индивидуальности не стоит того, чтобы ее проживать. Каждый человек должен быть гапакс легоменон…[50]
Рескинсон вскакивает с кресла и кричит:
– А я знаю этот оборот! В этот раз ты попался, Лускус!
От волнения он падает в обморок – симптом распространенного наследственного порока развития. А когда приходит в себя, уже и лекции конец. Он подскакивает к устройству записи, чтобы послушать, что пропустил. Но Лускус аккуратно избежал определения Пеллюсидарного прорыва. До него он дойдет в другой лекции.
Дедуля у окуляра присвистывает.
– Чувствую себя астрономом. Планеты на орбите нашего дома – солнца. Вот Аксипитер, ближайший, – Меркурий, хоть он и не бог воров, а их заклятый враг. Далее Бенедиктина – твоя нервная Венера. Жесткая, жесткая, жесткая! Сперматозоиды размозжат свои белые головушки об эту каменную яйцеклетку. Уверен, что она беременна?
Вон и твоя Мама в убийственном наряде – вот бы уже кто-нибудь взял и убил. Мать-Земля, что движется к перигею правительственной лавочки тратить твои накопления.
Дедушка упирается потверже, будто на палубе во время качки, черно-голубые вены на его ногах толстые, как удушающие лозы на стволе древнего дуба.
– Краткое отступление от роли герра доктора Штерншайсдрекшнуппе[51], великого астронома, к роли дер унтерзеебут-капитана Залпен фон Пли. А! Фнофь фижу дас пароход, дайн Мама, виляет, качается, волнуется в морях алкоголя. Утрачен курс; пасует компас. Колеса вращаются в воздухе. Кочегары орудуют в поте лица, разжигая беспечно печи беспокойства; топят, пока она топится в вине. Винты запутаны в неводах невроза. И большой белый кит – проблеск в черных пучинах, но быстро всплывает, намерен пробить ее корму – велика, не промахнешься. Обреченная посудина – как не оплакать. И не сблевать в отвращении.
Первая торпеда – огонь! Вторая торпеда – огонь! Бабах! Мама дает крен; рваная пробоина в корпусе, но не та, о которой ты подумал. И пошла на дно, опускается носом, как и подобает хорошей фелляционистке, а огромная корма вздымается в воздух. Буль-буль! На семь литров накилялась!
Засим вернемся из-под воды в открытый космос. Из таверны только что показался твой лесной Марс, Красный Ястреб. И Лускус – Юпитер, одноглазый Всеотец Искусств, если простишь смешение скандинавской и римской мифологий, – окруженный роем спутников.
Лускус говорит фидо-журналистам:
– Под этим я имею в виду, что Виннеган, как и любой творец, будь то великий или нет, творит искусство, которое есть в первую голову самобытная секреция, а также экскреция. Экскреция в первоначальном смысле: избавление от лишнего. Творческая экскреция, личная экскреция. Знаю, мои уважаемые коллеги еще посмеются над такой аналогией, а потому вызываю их на фидо-дебаты, когда им будет удобно.
Доблесть же в том, что творец осмеливается показать общественности, что он произвел из себя. Горечь же в том, что в свое время творца могут отвернуть или неверно понять. А также в страшной войне бессвязных или хаотичных элементов внутри самого творца, часто взаимопротиворечащих, которые он обязан объединить в уникальную сущность. Поэтому я и говорю – «личная экскреция».
Фидо-репортер:
– Правильно ли мы понимаем, что все – это огромная куча говна, но искусство неожиданно его преображает во что-то золотое и просвещающее?
– Не совсем. Но уже тепло. Я уточню и разовью свою мысль на следующей лекции. Сейчас я хочу поговорить о Виннегане. Иные творцы показывают нам только поверхность: они фотографы. Но поистине великие показывают внутреннюю суть объектов и существ. Однако Виннеган первым проявил больше одной внутренности в одном произведении искусства. Его изобретение – высотно-рельефная многоуровневая техника – прозревает подземные слои за слоями.
Прималюкс Рескинсон, громко:
– Великая чистка лука живописи!
Лускус – спокойно, когда улегается смех:
– В каком-то отношении метко сказано. Великое искусство, как и лук, повергает в слезы. Однако ж свет в картинах Виннегана – не просто отражение: свет всасывается, переваривается и затем преломляется далее. Каждый ломаный луч показывает не аспекты фигур в глубинах, а цельные фигуры. Я бы даже сказал – миры.
Я зову это Пеллюсидарным прорывом. Пеллюсидар – полый центр нашей планеты, описанный в ныне позабытом романтическом фэнтези писателя двадцатого века, Эдгара Райса Берроуза, создателя бессмертного Тарзана.
Рескинсон стонет и снова едва не лишается сознания:
– Пеллюсидарный! От слова «пеллюцид»! Лускус, каламбурящий ты эксгуматор!
– Герой Берроуза проник под кору Земли и открыл внутри другой мир. В некоторых отношениях он противоположность внешнего: континенты там, где на поверхности – моря, и наоборот. Точно так же Виннеган открыл внутренний мир – аверс общественного образа, что излучает Обыватель. И, как герой Берроуза, он вернулся с ошеломительной историей о психических угрозах и исследованиях.
И как литературный герой обнаружил Пеллюсидар, заселенный людьми каменного века и динозаврами, так и мир Виннегана, хоть совершенно современный, с одной стороны, архаичный – с другой. Кромешно чистый. И все же в сиянии виннегановского мира мы видим зло и непостижимое пятно черноты – в Пеллюсидаре ему параллельна крошечная застывшая луна, отбрасывающая леденящую и неподвижную тень.
И я не просто включаю «пеллюцид» в слово «Пеллюсидар». Однако «пеллюцид» означает «отражающий свет всеми поверхностями одинаково» или же «пропускающий свет без рассеивания или искажения». Картины Виннегана делают ровно наоборот. Но – под ломаным и перекошенным светом – внимательный наблюдатель увидит первобытную ясность, размеренную и понятную. Этот свет объединяет все разрывы и многие уровни, этот свет я имел в виду в предыдущей лекции об «эпохе подключенного человека» и полярном медведе.
При ближайшем рассмотрении зритель это заметит – почувствует, так сказать, фотонную дрожь сердцебиения виннегановского мира.
Рескинсон едва не падает в обморок. С улыбкой и черным моноклем Лускус похож на пирата, только что захватившего груженный золотом испанский галеон.
Дедушка, все еще за окуляром, продолжает:
– А вот и Мариам ибн Юсуф, египетская крестьянка, о которой ты рассказывал. Это твой Сатурн – отдаленный, царственный, холодный – и в парящей и вращающейся разноцветной шляпе, что сейчас в моде. Кольца Сатурна? Или нимб?
– Она прекрасна, и из нее выйдет замечательная мать моих детей, – говорит Чайб.
– Шик Аравийский. Вокруг твоего Сатурна ходит две луны – матушка и тетушка. Спутницы! А ты говоришь, из нее получится хорошая мать! Хорошая жена! Она хоть умная?
– Не глупее Бенедиктины.
– Значит, тупая как пробка. Умеешь ты выбирать. Откуда знаешь, что ты в нее влюблен? За последние полгода ты был влюблен раз двадцать.
– Я люблю ее. И точка.
– Это пока новая не появится. Ты вообще можешь любить что-то кроме своих картин? Бенедиктина ведь сделает аборт, да?
– Не сделает, если я ее отговорю, – говорит Чайб. – По правде говоря, она мне уже даже не нравится. Но у нее мой ребенок.
– Покажи-ка, что там у тебя между ног. Да вроде мужик. А я уж засомневался – такое безумие хотеть детей.
– Ребенок – это чудо, чтобы потрясти секстиллионы неверных.
– Уж точно лучше мыши. Но ты разве не знаешь, что размножение вызывает у Дяди Сэма раздражение? Пропустил всю пропаганду? Ты где был всю жизнь?
– Мне пора, Дедуля.
Чайб целует старика и возвращается к себе, заканчивать картину. Дверь по-прежнему отказывается его признавать – и он звонит в правительственный ремонт, только чтобы узнать, что все мастера – на Народном фестивале. Из дома он выходит, пылая от ярости. Колышутся и покачиваются стяги и воздушные шарики на искусственном ветру, поднятом специально по случаю, а у озера играет оркестр.
Дедуля провожает его взглядом из перископа.
– Бедолага! Болею его болью. Хочет ребенка – вот у него все внутри переворачивается от того, что бедолага Бенедиктина хочет сделать аборт. Часть его боли – хоть он и сам не замечает – отождествление с обреченным младенцем. Его мать делала аборт бессчетное число раз – ну или как минимум много. Кабы не милость божья, быть ему одним из них – очередным ничем. Он хочет, чтобы и у этого ребенка был шанс. Но ничего не может поделать, ничего.
И вот еще одно его ощущение, общее с большей частью человечества. Он знает, что запорол свою жизнь – или что-то ее поломало. Это знает любой мыслящий человек. Это подсознательно осознает даже самый самовлюбленный недоумок. Но ребенок, прелестное создание, безупречный чистый лист, несуществующий ангел – это новая надежда. Вдруг он не запорет ее. Вдруг ребенок вырастет и станет здоровым-уверенным-рассудительным-добродушным-самоотверженным-любящим мужчиной или женщиной. «Не то что я или сосед», – клянется гордый, хоть и опасливый родитель.
Чайб все это думает и клянется, что этот ребенок будет другим. Но, как и все, только себя обманывает. Отец и мать у ребенка одни, но дядь и теть – триллионы. И не только современники – но и покойные. Даже если Чайб сбежит в глушь и самолично воспитает дитя, он вложит ему в голову свои подсознательные убеждения. Малыш вырастет с мнением и мировоззрением, о которых сам отец и не подозревает. К тому же при воспитании в одиночестве человек из ребенка получится совсем уж необычный.
А если Чайб вырастит его в этом обществе, тот неизбежно переймет хотя бы часть мнений своих друзей, учителей и так далее и тому подобное.
Так что выкинь из головы желание сделать нового Адама из своего чудесного, распираемого от потенциала дитяти, Чайб. Если он вырастет хотя бы сколько-то разумным, то только благодаря твоей любви и дисциплине, и кругу общения, и благословлению при рождении нужным сочетанием генов. То есть теперь твой сын или дочь – и воин, и любовник.
Дедуля говорит:
– Беседовал тут недавно с Данте Алигьери – и он рассказывал, каким адом глупости, жестокости, извращений, атеизма и откровенного зла был шестнадцатый век. А после девятнадцатого он и вовсе лепетал, не в силах подобрать подходящую брань.
А уж от нашего века у него подскочило давление, пришлось подсыпать ему успокоительное и отправить на машине времени с медсестрой. Она внешне напоминала Беатриче и сама по себе могла быть для него лучшим лекарством – кто знает.
Дедуля хихикает, вспоминая, как Чайб в детстве верил, когда он рассказывал о своих гостях из машины времени – таких звездах, как Навуходоносор, царь травоедов[52]; Самсон, мастер загадок бронзового века и бич филистимлян; Моисей, укравший бога у своего кенийского зятя и всю жизнь боровшийся с обрезанием; Будда, Первый Битник; трудолюбивый Сизиф, в отпуске от катящихся камней; Андрокл и его приятель – Трусливый Лев из страны Оз; барон фон Рихтгофен, красный барон Германии; Беовульф; Аль Капоне; Гайавата; Иван Грозный и сотни других.
Пришло время, когда Дедуля заволновался и решил, что Чайб стал путать фантазию с действительностью. Сердце кровью обливалось от мысли о признании мальчишке, что все эти чудесные истории выдуманы – главным образом, чтобы учить его истории. Это же как сказать, что Санта-Клауса не бывает.
А потом, признаваясь внуку, Дедуля заметил, что Чайб с трудом прячет улыбку, и понял, что теперь его черед стать жертвой розыгрыша. Чайб ни разу не верил в россказни или же поумнел без большой травмы. И тогда оба посмеялись, а Дедуля так и продолжал рассказывать о своих визитерах.
– Машин времени не бывает, – говорит Дедуля. – Нравится или нет, мой дорогой Минивер Чиви[53], а жить надо в своем времени.
Машины работают на фабричных уровнях, в тишине, которая прерывается только болтовней махаутов. Огромные трубы на дне морей засасывают воду и ил. Те автоматически летят по трубопроводу на десять производственных уровней ЛА. Неорганические элементы преобразуются в энергию, а потом в вещества для питания, питья, лекарств и артефактов. Вне городских стен осталось немного земледелия или скотоводства, но людям всего хватает в избытке. Искусственные, но при этом точные копии органики – кто отличит?
Больше нигде не бывает голода и нужды, разве что у добровольных изгнанников, скитающихся в лесах. А еду и вещи доставляют в пандоры и распределяют между получателями пурпурных пособий. Пурпурные пособия. Рекламный эвфемизм, намекающий на королевские семьи и божественное право. Заслуживаешь его уже только тем, что родился.
Другие эпохи приняли бы нашу за горячечный сон, но зато у нашей есть преимущества, неизвестные другим. Для борьбы с переселением и безродностью мегалополис поделился на маленькие сообщества. Человек может всю жизнь прожить на одном месте, потому что ни в чем не нуждается. А с этим приходит провинциализм, мелкий патриотизм и враждебность к посторонним. Отсюда кровавые межгородские драки подростковых банд. Зловредные и повсеместные сплетни. Конформизм и соблюдение местных нравов.
Зато у граждан мелких городков есть фидо, чтобы видеть, что творится в любом уголке мира. Вперемешку с мусором и пропагандой, которые правительство считает полезными для людей, хватает сколько угодно превосходных передач. Можно получить эквивалент докторской степени, не переступая порог.
Настал новый Ренессанс, расцвет искусств, сравнимый с расцветами в Афинах времен Перикла и городах-государствах в Италии времен Микеланджело или Англии времен Шекспира. Парадокс. Сейчас больше безграмотных, чем в любой момент человеческой истории. Но и больше грамотных. И знатоков латыни больше, чем во времена Цезаря. Мир эстетики приносит чудесные плоды. И чудесных чудил, разумеется.
Чтобы разбавить провинциализм и заодно предотвратить международные войны, ввели мировую политику гомогенизации. Это добровольный обмен частями населения между странами. Заложники во имя мира и братской любви. Граждан, которые не довольствуются пурпурным пособием или считают, что найдут счастливую долю в другом месте, поощряют к эмиграции денежными выплатами.
В одних отношениях – Золотой мир, в других – кошмар. А что тут нового? Такова любая эпоха. Нашей пришлось иметь дело с перенаселением и автоматизацией. Как еще было решать задачу? Все тот же буриданов осел (хотя в нашем случае осел тот еще козел), что и всегда. Буриданов осел умирал с голоду, потому что не мог выбрать, какую из двух одинаковых куч еды съесть.
История: pons asinorum[54], где люди – ослы на мосту времен.
Нет, эти два сравнения неправильные и несправедливые. Это Гобсонов конь, единственный выбор – животное в ближайшем стойле. Цайтгайст скачет вперед, и дьявол заберет отстающих!
Авторы манифеста Тройной революции в середине двадцатого века угадали многое. Но умолчали о том, что сделает с обывателем отсутствие работы. Они-то верили, что все люди равны в развитии творческих склонностей, что все смогут заняться искусством, ремеслами, хобби или образованием ради образования. Те авторы не увидят «недемократичную» действительность: только десяти процентам населения – и это с натяжкой – от рождения дано создавать что-то стоящее или хотя бы отдаленно интересное. Ремесло, хобби, пожизненные исследования – все это быстро бледнеет, и человек возвращается к выпивке, фидо и разврату.
Отцы, оставшись без самоуважения, оторвались от семьи – кочевники в степях секса. Главной фигурой в семье становится мать – с большой буквы «М». Она тоже может развлекаться, но заботится о детях; почти все время рядом. А при отце с маленькой буквы – отсутствующем, слабом или равнодушном – дети часто становятся извращенцами.
Отдельные черты нашего времени можно было спрогнозировать. К примеру, сексуальная вседозволенность – хотя никто не мог представить, насколько далеко она зайдет. Но никто не предвидел и секту панаморитов, хоть Америка всегда плодила безумные маргинальные секты, как жаба – головастиков. Вчерашний мономан – сегодняшний мессия, и Шетли с его учениками пережил годы гонений, а их учения теперь неотъемлемы от нашей культуры.
Дедуля вновь наставляет перекрестье перископа на Чайба.
– Вот он, мой прекрасный внук, несет дары грекам. До сих пор сему Геркулесу не удалось очистить свои психические авгиевы конюшни. И все же он еще может преуспеть, это раздолбайский Аполлон, этот «Эдипус Бес». Ему повезло больше, чем многим его современникам. У него был отец, пусть и тайный – чудной старикашка, скрывающийся от так называемого правосудия. В сем чертоге он познал любовь, дисциплину и великолепное образование. Еще ему повезло иметь профессию.
Но Мама слишком много тратит и зависима от азартных игр – этот грешок лишает ее гарантированного дохода. Я считаюсь мертвым, поэтому не получаю пурпурное пособие. Чайбу приходится все это наверстывать, продавая или выменивая свои картины. Лускус помог ему с известностью, но так же легко может и предать. Да и денег от картин все равно не хватает. В конце концов, деньги – не основа нашей экономики, это редкое вспомогательное средство. Чайбу нужен грант – но он ничего не получит, если не согласится спать с Лускусом.
Но Чайб отвергает Лускуса из принципа. Не хочет ложиться под первого встречного ради карьеры. К тому же Чайб замечает кое-что неправильное и глубоко заложенное в нашем обществе. Прав он или нет, но для него это важно.
А значит, Чайб может отправиться в Египет. Но что тогда будет со мной?
Не задумывайся обо мне или матери, Чайб. Что бы ни случилось. Не поддавайся Лускусу. Помни предсмертные слова Синглтона, директора Бюро переселения и реабилитации, который застрелился, так и не свыкнувшись с новыми временами.
«Что, если человек обретет весь мир, но лишится собственной задницы?»
И тут Дедуля видит, как его сын, шагавший понурив голову, вдруг распрямился. И видит, как Чайб пускается в пляс – короткий импровизированный шафл и затем несколько оборотов. Очевидно, что Чайб радостно вопит. Прохожие довольно улыбаются.
Дедуля стонет, а потом смеется:
– О боже, задорная сила молодости, непредсказуемые перепады от черной тоски к ярко-рыжей радости! Пляши, Чайб, пляши до упаду! Будь безумно счастлив – хоть на миг! Ты еще молод, еще клокочет в тебе необоримая надежда! Так пляши, Чайб, пляши!
Он смеется и утирает слезу.
– такая увлекательная книга, что доктор Йесперсен Джойс Бафименс, психолингвист Бюро групповой реконфигурации и интеркоммуникабельности, никак не может оторваться. Но долг зовет.
– Редис необязательно «красный», – наговаривает он в диктофон. – Юные Редисы назвались так потому, что редис – это радикула, а значит, радикален. Есть тут отсылки и к корням, и к тому, что хрен редьки не слаще. И несомненно, «бредис» – диалектизм Беверли-Хиллз для отвратительного, мятежного и социально невоспитанного человека.
И все же я бы не назвал Юных Редисов левыми: они олицетворяют нынешнее неприятие текущей Жизни в Целом и при этом не предлагают свою радикальную политику реконструкции. Они орут на то, Как Все Устроено, будто обезьяны на деревьях, но от них не дождешься конструктивной критики. Они хотят разрушать, не задумываясь о том, что делать после разрушений.
Короче говоря, они символизируют нытье и ворчание среднего гражданина, а отличаются разве что организованностью. Таких групп, как они, тысячи в одном ЛА и наверняка миллионы – по всему миру. У них было нормальное детство. Вообще-то они родились и выросли в одной кладке – это одна из причин, почему я отобрал их для исследования. Что за явление создало десять творческих людей, которые воспитаны в семи домах Зоны 69–14 примерно в одно время, практически росли вместе, поскольку их отправляли вместе в ясли в кладке, где матери присматривали за детьми по очереди, что… на чем я остановился?
Ах да, нормальная жизнь, одна школа, друзья-приятели, обычные несерьезные сексуальные отношения между собой, вступали в подростковые банды и участвовали в довольно кровавых сражениях с вествудской и другими бандами. Однако все десятеро отличались интеллектуальным любопытством и проявили себя в творчестве.
Предполагалось (и может быть правдой), что отец одного из них – это таинственный незнакомец, Рэли Ренессанс. Это возможно, но недоказуемо. В то время Рэли Ренессанс проживал в доме миссис Виннеган, но при этом проявлял необычную активность во всей кладке и, собственно, во всех Беверли-Хиллз. Откуда он, кем был и куда пропал – до сих пор не известно, несмотря на тщательный розыск нескольких агентств. У него не было ни удостоверения, никаких других документов, и все же долгое время его не трогали. Похоже, у него что-то было на начальника полиции Беверли-Хиллз, а то и на кого-то из местных федеральных агентов.
Два года он прожил с миссис Виннеган, а потом пропал из виду. По слухам, он уехал из ЛА в племя белых неоамериндов, иногда зовущихся индейцами-осеменолами.
Но вернемся к Юным (а нет ли здесь каламбура с Юнгом?) Редисам. Они бунтуют против отцовского образа Дяди Сэма, которого и любят, и ненавидят. «Дядя» («unkle») в их подсознании, разумеется, связан с «unco» – это шотландское слово означает «странное», «необыкновенное», «причудливое», указывая нам, что их отцы были для них непонятными чужаками. Все родом из семей, где отец отсутствовал или был малозаметен, – увы, очень распространенное явление в нашей культуре.
Я и сам не знал родного отца… Туни, это потом сотри. Также «unco» означает «вести» или «предчувствие», и это указывает, что несчастные молодые люди с нетерпением ждут новостей о возвращении своих отцов и, возможно, надеются на примирение с Дядей Сэмом – то есть, опять же, их отцами.
Дядя Сэм. Сэм – сокращение от «Сэмюэль», от «Шмуэль» на иврите, то есть «имя Божье». Все Редисы – атеисты, хотя отдельные – в особенности Омар Руник и Чабайабос Виннеган – получали религиозное образование в детстве (панаморитское и римско-католическое соответственно).
Восстание юного Виннегана против Бога и против католической Церкви наверняка усугублено тем, что в детстве мать заставляла его пить из-за хронического запора сильные слабительные – катартики. Наверняка он ненавидел учить катехизис, когда рвался пойти играть. И конечно, то чрезвычайно значительное и оставившее глубокую травму происшествие, когда ему вставляли катетер. (Его детский отказ испражняться будет проанализирован в следующем отчете.)
Дядя Сэм, Фигура Отца. «Фигура» – каламбур такой очевидный, что не буду и утруждаться его толкованием. А еще, пожалуй, есть связь с фигой, в смысле, «фигу тебе!» – это можно найти в «Аду» Данте, какой-то итальянец в Аду говорит: «Фигу тебе, Господи», закусив большой палец в древнем жесте непокорности и неуважения. Хм-м? Кусать большой палец – инфантильная черта?
«Сэм» – тоже многослойный каламбур с участием фонетически, орфографически и полусемантически связанных слов. Важно отметить, что юный Виннеган не терпит, когда его называют «дорогим» – «dear»; заявляет, что мать называла его «дорогим» так часто, что его уже тошнило. И все-таки для него это слово имеет глубокое значение. Например, замбар – азиатский олень («deer»!) с рогами, у которых по три отростка. (Отметим и сходство «зам» – «сэм».) Очевидно, три отростка для него символизируют манифест Тройной революции – историческое начало нашей эпохи, которую Чайб, по его словам, так ненавидит. Также три отростка – архетип Святой троицы, против которой Юные Редисы часто кощунствуют.
Следует отметить, что в этом данная группа отличается от других исследованных. Остальные кощунствуют нечасто и слабо, в соответствии с превалирующим сегодня слабым, даже бледным религиозным духом. Еретики сильны, только когда сильны верующие.
А еще «сэм» говорит о «самостоятельности», которую Редисы провозглашают на поверхности, внутреннее желая соответствовать нравам.
Возможно – хотя в этом данный анализ может ошибаться, – «Сэм» связан с самехом, пятнадцатой еврейской буквой (Сэм! Эх!). По старой английской традиции, которую Редисы могли усвоить в детстве, пятнадцатая буква латинского алфавита – это «о». В алфавитной таблице в моем словаре (новый учебный словарь Вебстера, 128-е издание) латинская «о» находится в той же строке, что и арабский «дад». А также еврейский «мем». Так мы имеем двойную связь с отсутствующим и вожделенным Отцом (дад – «dad» – папа) и давящей Матерью (или «мем»).
С греческим омикроном в той же горизонтальной строке что-то ничего не придумывается. Но только дайте срок, тут нужен научный подход.
Омикрон. Да это же маленькая «о»! У строчного омикрона яйцевидная форма. Маленькое яйцо – это оплодотворенная сперма их отца? Утроба? Базовый элемент современной архитектуры?
«Сэм Хилл» – архаическое англоязычное название Ада. Дядя Сэм – это Сэм Хилл от отцов? Лучше вычеркни, Туни. Может, эти высокообразованные юнцы и читали об этом устаревшем обороте, но подтвердить это невозможно. Не хочу говорить о связях, из-за которых меня потом поднимут на смех.
Посмотрим-посмотрим. Сямисен. Японский музыкальный инструмент с тремя струнами. Снова Манифест Тройной революции и троица. Троица? Отец, Сын и Дух Святой. Мать – презренная фигура; не Дух, а Духота? А может, и нет. Убери, Туни.
Сямисен. Сын Сэма?[56] А это естественным образом перетекает к Самсону, который обрушил храм на филистимлян и себя. Эти ребята говорят о том же. Смешно. Напоминает меня самого в их возрасте, пока я не повзрослел. Последнее вычеркни, Туни.
Самовар. Русское слово, «сам варит». Нет никаких сомнений, что Редисы варятся в своем кружке и кипят от революционного пыла. И все-таки в глубине своей больной психики понимают, что Дядя Сэм – их любящий Отец-Мать, что он о них печется. Но заставляют себя его ненавидеть – то есть «сами варят себя».
«Сэмлет» – молодой лосось. Вареный лосось – желтовато-розового или бледно-красного цвета, почти цвета редиса – по крайней мере, в их подсознании. «Сэмлет» равен Юным Редисам; они считают, что варятся в великой скороварке современного общества.
Как тебе такая фрилая мраза – то есть милая фраза, Туни? Прослушай, внеси указанные правки, пригладь шероховатости – сама знаешь как – и шли начальнику. А мне уже пора. Опаздываю на ужин с мамой, она очень огорчается, если я не прихожу вовремя.
А, и постскриптум! Рекомендую установить за Виннеганом пристальное наблюдение. Его друзья выпускают психический пар в болтовне и выпивке, но он вдруг изменил характер поведения. Впадает в долгое молчание, бросил курить, пить и секс.
даже в эти времена. У верхушки нет возражений против баров в частной собственности у граждан, которые оплатили все лицензии, прошли все проверки, вывесили все предупреждения и подкупили местных политиков и начальника полиции. Поскольку для баров нет ни подходящих условий, ни больших сдающихся зданий, устраиваются они в домах самих хозяев.
«Личная вселенная» – любимое местечко Чайба, отчасти потому, что незаконное. Когда Дионис Гобринус не смог прорваться через заслоны, рогатки, колючую проволоку и ловушки официальных процедур, он махнул рукой на лицензию.
Он открыто пишет название поверх математических уравнений, украшавших фасад дома ранее. (Этот профессор математики в Университете Беверли-Хиллз – 14, Аль-Хорезми Декарт Лобачевский, ушел с работы и снова сменил имя.) Атриум и несколько спален переделаны для выпивки и веселья. Египетских посетителей не бывает – возможно, из-за сверхчувствительности к тем красочным сантиментам, которыми завсегдатаи расписывают внутренние стены.
АТУ АБУ
МУХТАР – СЫН НЕПОРОЧНОЙ СОБАКИ
СФИНКС – СВИН
КРАСНОЕ МОРЕ – НЕ ЗАБУДЕМ, НЕ ПРОСТИМ!
У ПРОРОКА ФЕТИШ – ВЕРБЛЮДЫ
У кое-кого из авторов отцы, деды и прадеды и сами подвергались схожим оскорблениям. Но их потомки целиком ассимилировались: беверли-хиллзцы до мозга костей. Такова природа человека.
Гобринус, кряжистый куб с ножками, стоит за стойкой – квадратной в протесте против овоидов. Над ним – большая табличка:
Гобринус тысячу раз расшифровывал этот каламбур, не всегда к удовлетворению слушателя. Достаточно сказать, что Пуассон – математик и что распределение Пуассона близко к биномиальному распределению, когда число испытаний растет, а вероятность успеха в отдельном испытании мала.
Когда посетитель напивается так, что ему больше не наливают, его вышвыривают из бара на фоне свирепой вспыльчивости и губительности Гобринуса, который кричит: «Пуассон! Пуассон!»
Друзья Чайба, Юные Редисы, сидят за восьмиугольным столом, приветствуют его, и его слова подсознательно перекликаются с оценкой их недавнего поведения федеральным психолингвистом.
– Чайб монах! Чайбовый, как никогда! Наверняка пришел на чашечку чайба! Выбирай!
Встречает его и Мадам Трисмегиста, сидящая за столиком в форме печати Соломоновой. Она уже два года жена Гобринуса – рекорд потому, что если он бросит и ее, то она его зарежет. А еще он верит, будто она может своими картами влиять на его судьбу. В наш век просвещения гадалки и астрологи процветают. Наука идет вперед, а невежество и суеверие скачут по флангам и кусают науку за зад своими большими темными зубищами.
Сам Гобринус – этот доктор наук, светоч знаний (по крайней мере, до недавней поры) – в Бога не верит. Но уверен, что звезды сложатся для него пагубно. По странной логике он считает, будто женины карты управляют звездами; ему неизвестно, что гадание по картам и астрология – области совершенно разные.
А чего еще ждать от человека, который заявляет, будто вселенная асимметрична?
Чайб машет Мадам Трисмегисте и идет к другому столику. Там сидит
– Бенедиктина Серинус Мельба. Высокая, худая, с узкими лемурьими бедрами и стройными ногами, но большой грудью. В волосах – черных, как зрачки ее глаз, – пробор посередине, а сами они приклеены надушенным спреем к черепу и заплетены в две длинные косы. Косички лежат на голых плечах и сцеплены под горлом золотой брошкой. После брошки (в форме музыкальной ноты) косы снова расходятся, окружая каждую грудь. Затем их закрепляет очередная брошка, и они расстаются, чтобы встретиться под брошкой за спиной и вернуться для встречи на животе. Там их снова держит брошка, а двойной водопад черно ниспадает на ее юбку, у которой форма колокола.
Лицо густо накрашено зеленым и аквамариновым, с родинкой в виде четырехлистного клевера и топазовыми блестками. На ней желтый лифчик с искусственными розовыми сосками; с лифчика свисают кружевные ленточки. Талию окружает ярко-зеленый полукорсет в черных розочках.
Поверх корсета, скрывая его наполовину, – проволочное сооружение, покрытое розовой тканью. Оно тянется назад, образуя этакий полуфюзеляж или длинное птичье оперенье: на нем даже есть длинные желтые и алые искусственные перья.
Колышется ее прозрачная юбка в пол. Юбка не прячет ни трусики в желтую и темно-зеленую полоску, с подвязками и кружевными оборками, ни белые бедра, ни черные сетчатые чулки с зелеными узорами в форме музыкальных нот. Туфли – ярко-голубые, с топазными каблуками.
Бенедиктина одета для пения на Народном празднике; не хватает только шляпки. Но она все-таки пришла сегодня пожаловаться, среди прочего, на то, что Чайб заставил ее отменить выступление и утратить шанс на великую карьеру.
Она с пятью девушками, от шестнадцати до двадцати одного, и все пьют Би (сокращение от «бормотучки»).
– Можем поговорить наедине, Бенни? – спрашивает Чайб.
– Зачем? – Ее голос – прелестное контральто, изуродованное интонацией.
– Ты меня сюда вызвала, чтобы устроить публичную сцену, – говорит Чайб.
– Господи, а какие еще бывают сцены? – визжит она. – Вы на него посмотрите! Хочет поговорить со мной на- едине!
Тут-то он и понимает, что она боится остаться с ним наедине. Больше того – в принципе, не в состоянии быть наедине. Теперь он понял, почему она требовала оставлять дверь спальни открытой, когда ее подружка Бела была в пределах слышимости. Обоюдной.
– Ты обещал только пальцем! – кричит она. Показывает на чуть округлившийся живот. – У меня будет ребенок! Ты, поганая сладкоречивая извращенная сволочь!
– Это неправда, – говорит Чайб. – Ты говорила, что не против, что ты меня любишь.
– «Люблю»! «Люблю», говорит! Я будто понимала, что несу, когда перевозбудилась! Но я точно не говорила, что ты мне можешь присунуть! Никогда не говорила, никогда! А потом что ты сделал?! Что ты сделал! Боже мой, да я неделю ходить не могла, сволочь!
Чайб обливается потом. Не считая бетховенской «Пасторали» из фидо, в баре тихо. Его друзья лыбятся. Гобринус стоит к ним спиной и хлещет скотч. Мадам Трисмегиста тасует карты и пердит слезоточивым коктейлем пива и лука. Подружки Бенедиктины смотрят на свои флуоресцентные ногти, длинные, как у мандаринов, или прожигают его взглядами. Ее боль и негодование – их боль и негодование, и наоборот.
– Я не могу принимать таблетки. Мне от них плохо, и глаза болят, и месячные задерживаются! И ты это знаешь! И я терпеть не могу механические утробы! И в любом случае ты мне соврал! Ты сказал, что сам на таблетках!
Чайб понимает, что она себе противоречит, но урезонивать ее было бесполезно. Она в ярости, потому что беременна; сейчас она не хочет утруждать себя абортом – и жаждет мести.
Но как, гадает Чайб, как ее угораздило забеременеть в ту ночь? Это бы не удалось ни одной женщине, даже самой фертильной. Наверняка она залетела до или после. И все же клянется, что это случилось в ту ночь, в ночь, когда он был
– Нет, нет! – плачет Бенедиктина.
– Почему нет? Я люблю тебя, – говорит Чайб. – Я хочу на тебе жениться.
Бенедиктина кричит, а ее подруга Бела отзывается из коридора:
– Что такое? Что случилось?
Бенедиктина не отвечает. Ее трясет от гнева, как в ознобе, она выбирается из кровати, оттолкнув Чайба. Бежит в маленькое яйцо ванной комнаты в углу, он – за ней.
– Надеюсь, ты не сделаешь то, о чем я думаю?.. – говорит он. Бенедиктина стонет:
– Ты пронырливый никчемный сукин сын!
В ванной она опускает часть стены, которая становится полкой. На полке примагничены донышком флакончики. Она достает длинную тонкую банку сперматоцида, присаживается и вставляет ее себе. Нажимает на кнопку на дне – и та пенится с шипящим звуком, который не заглушить даже телу.
На миг Чайб парализован. Затем орет.
Бенедиктина кричит:
– Не приближайся, бредис!
Из двери в спальню доносится робкое:
– У тебя все нормально, Бенни?
– Я ее сейчас отнормалю! – ревет Чайб.
Он подскакивает и срывает с полки банку темпоксидного клея. На него Бенедиктина укладывает парики – и он может выдержать все, если его не размягчить особым растворителем.
Бенедиктина и Бела вопят хором, когда Чайб подхватывает Бенедиктину и опускает на пол. Она борется, но он все же покрывает клеем банку, кожу и волосы вокруг.
– Ты что творишь? – кричит она.
Он зажимает кнопку на донышке до упора и заливает дно клеем. Бенедиктина вырывается, но он крепко прижимает ее руки к телу и не дает откатиться от него и сдвинуть банку внутрь или наружу. Чайб считает про себя до тридцати – а потом еще раз до тридцати, чтобы клей точно застыл. Отпускает.
Пена клокочет между ее ног, и сбегает по ногам, и расползается по полу. Жидкость в неразрушимой и непробиваемой банке находится под огромным давлением, а в контакте с воздухом пена невероятно расширяется.
Чайб снимает с полки растворитель и сжимает в руке, чтобы она не отняла. Бенедиктина вскакивает и замахивается на него. Хохоча, как гиена в палатке с веселящим газом, Чайб закрывается от удара и отталкивает ее. Поскользнувшись на пене – уже по лодыжку, – Бенедиктина падает и скользит на заду из ванной, позвякивая банкой по полу.
Она поднимается на ноги и только тогда осознает, что наделал Чайб. Из нее вырывается крик – и она следует за ним. Она приплясывает, вырывая из себя банку, крики растут в громкости с каждой попыткой и итоговой болью. Затем Бенедиктина разворачивается и выбегает из комнаты – ну или пытается. Она поскальзывается; на пути – Бела; они сцепляются и выезжают из спальни вместе, разворачиваясь в дверях, как в пируэте. Плещется пена, и они напоминают Венеру с подругой, выходящих из пузырящихся волн Кипрского моря.
Бенедиктина отталкивает Белу, но только лишившись плоти под длинными и острыми ногтями подруги. Бела отлетает спиной обратно в дверь, навстречу Чайбу. Она старается удержать равновесие, как конькобежец-новичок. Без толку – и она скользит мимо Чайба с воплями, на спине, задрав ноги.
Чайб осторожно скользит босиком по полу, задерживается у кровати забрать свою одежду, но одеться все-таки мудро решает снаружи. Он выходит в круглый зал как раз вовремя, чтобы увидеть, как Бенедиктина ползет мимо одной из колонн, отделяющих коридор от атриума. Ее родители – два бегемота средних лет – все еще сидят на плоске с пивными банками в руках: глаза распахнуты, рты разинуты, тела мелко дрожат.
Чайб с ними даже не прощается. Но тут зацепляется краем глаза за их фидо и понимает, что родители переключились с ВНЕШ. на ВНУТР. – и на спальню Бенедиктины. Отец и мать наблюдали за Чайбом с их дочерью, и по не совсем улегшемуся состоянию отца очевидно, что ему ужасно интересно это шоу – лучше чего угодно по внешнему фидо.
– Ах вы извращенцы! – ревет Чайб.
Бенедиктина уже рядом с ними, на ногах, и лепечет, рыдает, показывает на банку и тычет пальцем в Чайба. В ответ на его рев родители вздымаются с плоска, будто два левиафана из пучин. Бенедиктина бежит на него – руки вытянуты, пальцы с длинными ногтями изогнуты, лик – горгоны Медузы. За ней остается след взбешенной ведьмы, спешат по пене отец с матерью.
Чайб врезается в столб, рикошетит и скользит, не в силах остановить свой поворот во время маневра. Но все-таки удерживается на ногах. А вот мама с папой падают с грохотом, сотрясающим даже этот прочный дом. Они вскакивают, вращают глазами и ревут, как всплывающие гиппопотамы. Бросаются на него по отдельности: мать теперь визжит, ее лицо, хоть и заплывшее жиром, – лицо Бенедиктины. Папа обходит колонну с одной стороны, мама – с другой. Бенедиктина выруливает из-за другой колонны, придерживаясь за нее рукой, чтобы не упасть. Она оказывается между Чайбом и выходом.
Чайб врезается в стену коридора там, где еще нет пены. Бенедиктина бежит на него. Он бросается на пол и перекатывается между колоннами в атриум.
Мама с папой сталкиваются. «Титаник» встречает свой айсберг – и оба идут ко дну. Скользят к Бенедиктине на лицах и брюхах. Она их перескакивает, роняя на них пену.
Уже очевидно: уверения правительства, что банки хватает на сорок тысяч доз смерти для спермы, или на сорок тысяч сношений, оправданны. Пена – всюду, по лодыжку, местами по колено, и продолжает хлестать.
Бела распростерлась на спине на полу атриума, воткнувшись головой в мягкие складки плоска.
Чайб медленно поднимается и ненадолго замирает, озирается: колени подогнуты, готов отскочить от угрозы, но надеется, что не придется, потому что ноги обязательно подведут.
– Стоять, грязный ты сукин сын! – ревет папаша. – Я тебя убью! Как ты мог так поступить с моей дочерью!
Чайб следит, как тот переворачивается, будто кит в бурном море, и пытается подняться на ноги. И вновь отправляется вниз, ухнув, словно раненный гарпуном. У мамы получается не лучше.
Увидев, что путь открыт – Бенедиктина уже успела где-то пропасть, – Чайб скользит через атриум до незапененного пятачка у выхода. С одеждой, накинутой на руку, и все еще не выпустив из рук растворитель, он свободно шагает к двери.
И вот тут Бенедиктина зовет его по имени. Он оглядывается и видит, как она выскальзывает из кухни. В ее руке – высокий стакан. Что это она удумала? Уж точно не угостить выпивкой.
Затем она семенит на сухой участок пола и с криком шлепается. Но содержимое стакана все-таки находит свою цель.
Чайб кричит, почувствовав кипяток: больно, будто его обрезают без анестезии.
Бенедиктина смеется на полу. Чайб подскакивает и вопит, уронив банку и одежду, схватившись за ошпаренное, но наконец берет себя в руки. Прекращает свою пляску, хватает Бенедиктину за правую руку и тащит на улицы Беверли-Хиллз. Этим вечером там хватает людей – и все следуют за двоицей. Чайб останавливается, только когда доходит до озера и окунается, чтобы остыть, – заодно прихватив с собой Бенедиктину.
Когда они наконец выползают из озера и сбегают домой, толпе еще долго есть о чем поговорить. Люди болтают и смеются, глядя, как санэпидем очищает озеро и улицы от пены.
– Я потом месяц ходить не могла! – кричит Бенедиктина.
– А ты заслужила, – говорит Чайб. – Тебе не на что жаловаться. Ты сказала, что хочешь от меня ребенка, и не шутила.
– Да я была не в себе! – отвечает Бенедиктина. – Нет, я была в себе! Но я такого не говорила! Ты меня обманул! Ты меня заставил!
– Я бы никого не стал заставлять, – говорит Чайб. – И ты это знаешь. Завязывай ныть. Ты самостоятельный человек, и ты дала согласие по своей воле. У тебя же есть свобода воли.
Встает со своего стула Омар Руник, поэт. Это высокий и стройный бронзовокожий юнец с орлиным носом и очень полными красными губами. Его кудри подстрижены в форме «Пекода» – легендарного судна, что несло безумного капитана Ахава, его безумную команду и единственного выжившего после встречи с белым китом – Измаила. У куафюры есть бушприт, борта, три мачты, нок-реи, даже свисает с балок шлюпка.
Омар Руник аплодирует и кричит:
– Браво! Философ! Свобода воли есть: свобода воли искать Вечные Истины – если они существуют – или же Погибель и Проклятье! Я выпью за свободу воли! Тост, господа! Встаньте, Юные Редисы, тост за нашего предводителя!
И так начинается
– Я предскажу тебе будущее, Чайб! – зовет Мадам Трисмегиста. – Узнай, что говорят тебе в картах звезды!
Он усаживается за ее стол, его друзья торопятся сгрудиться вокруг.
– Ну ладно, Мадам. Как мне теперь расхлебывать эту кашу?
Она тасует колоду и переворачивает верхнюю карту.
– Господи! Туз пик!
– Долгая дорога!
– Египет! – восклицает Руссо Красный Ястреб. – О нет, туда тебе не стоит, Чайб! Отправляйся лучше со мной туда, где бродят бизоны…
И следующая карта:
– Скоро ты встретишь смуглую красавицу.
– Чертова арабка! О нет, Чайб, этого не может быть!
– Скоро ты заслужишь великие почести.
– Чайб получит грант!
– Если я получу грант, то мне не придется ехать в Египет, – замечает Чайб. – Мадам Трисмегиста, при всем уважении – это все какая-то чушь.
– Не насмехайтесь, молодой человек. Я не компьютер. Я чувствую спектр психических вибраций.
Карта.
– Тебя ждет большая опасность, физическая и моральная.
– Это и так минимум раз в день, – отвечает Чайб.
Карта.
– Близкий тебе человек умрет дважды.
Чайб бледнеет, берет себя в руки и говорит:
– Трус умирает тысячу раз.
– Ты будешь путешествовать во времени, отправишься в прошлое.
– Чума! – восклицает Красный Ястреб. – Вы сегодня превзошли саму себя, Мадам. Осторожней! У вас так будет психическая грыжа, придется носить эктоплазменный бандаж.
– Глумитесь сколько хотите, придурки, – говорит Мадам. – Миров больше, чем один наш. Карты не врут – только не когда их раскладываю я.
– Гобринус! – зовет Чайб. – Еще кувшин пива для Мадам.
Юные Редисы возвращаются за свой стол – диск без ножек, висящий на гравитационном поле. Бенедиктина обжигает их взглядом и возвращается к шушуканью с остальными интимейджерами. За другим столиком – Пинкертон Легран, правительственный агент: он сидит лицом к ним, чтобы снимать на фидо под его односторонним пиджаком. Они знают, что он делает. Он знает, что они знают, и уже доложил об этом начальству. Он хмурится при виде входящего Фалько Аксипитера. Леграну не по душе, когда в его дело влезает агент из другого департамента. Аксипитер даже не глядит на Леграна. Заказывает чайник и делает вид, что бросает в него таблетку, которая в химической реакции с танином дает Би.
Руссо Красный Ястреб подмигивает Чайбу и говорит:
– Правда думаешь, что весь ЛА можно парализовать одной бомбой?
– Тремя! – громко заявляет Чайб, чтобы его отчетливо слышало леграновское фидо. – Одна – для контрольной панели завода по опреснению воды, вторая – для запасной панели, а третья – для узла труб, по которым вода идет в водохранилище на 20-м уровне.
Пинкертон Легран бледнеет. Осушает свой стакан виски и просит еще, хотя и так уже перебрал. Нажимает на кнопку на своем фидо, послав код угрозы тройного уровня. В штабе мигают красные огоньки; гремит гонг; начальник просыпается так резко, что падает с кресла.
Аксипитер тоже все слышит, но сидит неподвижно, мрачно и задумчиво, как диоритовый рельеф фараоновского сокола. Истинного мономана не отвлечь болтовней о затоплении ЛА, даже если слова перейдут в действия. Он напал на след Дедули и пришел сюда, чтобы воспользоваться Чайбом как ключом к дому. Одна «мышка» – так он называет про себя преступников, – одна мышка забежит в норку другой.
– И когда мы перейдем к действию? – спрашивает Хьюга Уэллс-Эрб Гейнстербери, писательница-фантастка.
– Недели через три, – говорит Чайб.
Шеф в штабе костерит Леграна за то, что он его разбудил. Молодежь постоянно чешет языками о разрушении, убийстве и восстании. Он не понимает, чего этим охламонам неймется, когда им все подносят на блюдечке с голубой каемочкой. Если бы спросили его, он бы всех засадил в кутузку да поучил бы их уму-разуму самую малость – а может, и не малость.
– Когда мы это сделаем, придется сбежать на волю, – говорит Красный Ястреб. Его глаза блестят от слез. – Серьезно, парни, нет ничего лучше, чем быть в лесу, на свободе. Там ты настоящий человек, а не один из безликой толпы.
Красный Ястреб верит в заговор по разрушению ЛА. Он счастлив, потому что, хоть вслух он это не признавал, в лоне Природы он страдал без интеллектуального общества. Дикари могут услышать оленя за сто ярдов[59], разглядеть гремучую змею в кустах – но глухи к поступи философии, нытью Ницше, ржанию Рассела, гоготу Гегеля.
– Невежественные свиньи! – произносит он вслух.
– Чего? – спрашивают остальные.
– Ничего. Слушайте, вы и сами знаете, как там чудесно. Вы же служили в КВРСП.
– Я непригодный, – говорит Омар Руник. – Сенная лихорадка.
– Я писал вторую магистерскую, – говорит Гиббон Тацит.
– Я был в оркестре КВРСП, – говорит Сибелиус Амадей Иегуди. – Мы выбирались на природу, только когда выступали в лагерях, и то нечасто.
– Чайб, ну ты-то служил в Корпусе. Тебе же там понравилось, да?
Чайб кивает, но говорит:
– Когда ты неоамеринд, все время уходит на выживание. Когда мне было успевать писать? И кто бы увидел мои картины, даже если бы я успевал? К тому же это не жизнь для женщины или ребенка.
Красный Ястреб с обиженным видом заказывает виски, смешанный с Би.
Пинкертон Легран не хочет прерывать наблюдение, но уже не может выдержать давление мочевого пузыря. Он идет к помещению, где посетители избавляются от жидкостей. Красный Ястреб, будучи в скверном настроении из-за непризнания, ставит ему подножку. Легран спотыкается, но не падает, а пробегает вперед. Тогда подножку ставит Бенедиктина. Легран шлепается ничком. Ему уже не надо в туалет – разве только чтобы помыться.
Все, кроме Леграна и Аксипитера, смеются. Легран подскакивает, сжимая кулаки. Бенедиктина не обращает на него внимания, направляясь к Чайбу со свитой своих подружек. Чайб напрягается всем телом.
– Сволочь озабоченная! – говорит она. – Ты обещал только пальцем!
– Ты повторяешься, – говорит Чайб. – Самое главное – что будет с ребенком?
– А тебе какая разница? – спрашивает Бенедиктина. – Откуда тебе знать, может, он даже не твой!
– Это было бы большое облегчение, – отвечает Чайб, – если бы не мой. И все равно у ребенка есть право слова. Вдруг он захочет жить, даже если его матерью будешь ты.
– В этом паршивом мире! – восклицает она. – Да я ему одолжение сделаю. Я собираюсь в больницу, чтобы от него избавиться. Из-за тебя я упустила свой шанс на Народном празднике! Там будут агенты со всех концов света – а я не смогу для них спеть!
– Ты врешь, – говорит Чайб. – Ты же одета для пения.
Лицо Бенедиктины красное; глаза раскрыты; ноздри распахнуты.
– Ты испортил мне все веселье! – Она кричит на весь зал: – Эй, хотите прикол? У этого великого художника, этого мужицкого мужика, божественного Чайба, не встает, если он сначала не отлижет!
Друзья Чайба переглядываются. Да о чем эта сучка развопилась? Что тут нового?
Из «Личных излияний» Дедули:
Отдельные черты религии панаморитов, столь поносившиеся и ненавистные в XXI веке, в современности стали житейским делом. Любовь, любовь, любовь – физическая и духовная! Я бы мог написать целую книжку об этой стороне жизни в середине XXII века – и, скорее всего, напишу.
Легран выходит из туалета. Бенедиктина дает Чайбу пощечину. Чайб дает ей пощечину в ответ. Гобринус откидывает крышку стойки и торопится наружу, крича:
– Пуассон! Пуассон!
По пути он сталкивается с Леграном, который врезается в Белу, которая вскрикивает, разворачивается и дает пощечину Леграну, а тот дает сдачи. Бенедиктина опустошает стакан Би в лицо Чайбу. Взвыв, он подскакивает и замахивается, но Бенедиктина уворачивается – и удар проходит мимо плеча, в грудь ее подруги.
Красный Ястреб вскакивает на стол и начинает декламировать:
– Я настоящий тигр, наполовину аллигатор и наполовину…
Стол висит на гравитационном поле и не выдерживает большого веса. Он переворачивается и катапультирует поэта в девушек – и получается куча-мала. Они кусают и царапают Красного Ястреба, а Бенедиктина стискивает за яйца. Он кричит, вырывается и ногами отбрыкивает Бенедиктину на стол. Тот уже вернулся на обычную высоту, но теперь переворачивается вновь, швыряя ее на другую сторону. Достается Леграну, который крался через толпу в поисках выхода. Ударившись о чью-то коленку, Легран остается без нескольких передних зубов. Отплевываясь от крови и осколков, он вскакивает и отоваривает постороннего.
Гобринус стреляет из орудия маленьким, но ярким огоньком. Он задуман, чтобы ослеплять драчунов и те остывали, пока восстанавливается зрение. Нынешний залп завис в воздухе, сияя, как
Начальник полиции говорит по фидо с человеком в будке. Тот выключил видео и маскирует голос:
– В «Личной вселенной» побоище.
Шеф стонет. Праздник только начался – а они уже за свое.
– Благодарю. Парни скоро будут. Как вас зовут? Могу представить вас к Гражданской медали.
– Что? Чтобы потом получить по голове? Я не стукач; просто исполняю свой долг. К тому же мне не нравится ни Гобринус, ни его клиенты. Кучка снобов.
Начальник раздает приказы отряду для подавления бунта, откидывается на спинку и попивает пиво, наблюдая за операцией по фидо. И что с ними не так? Вечно из-за чего-то бесятся.
Вопят сирены. Хотя болгани[61] давно ездят на бесшумных электротрициклах, они по-прежнему цепляются за вековую традицию – извещать преступников о своем появлении. Перед открытой дверью «Личной вселенной» останавливаются пять трайков. Полиция спешивается и совещается. Их двухэтажные цилиндрические шлемы – черные, с алым оперением. Они почему-то носят очки-консервы, хотя их транспорт не превышает скорость в 25 километров в час. Их мундиры черные и пушистые, как шкура плюшевого мишки, а плечи украшены широкими золотыми эполетами. Шорты – цвета электрик и тоже пушистые; сапоги – глянцево-черные. Они вооружены электродубинками и пистолетами, которые стреляют снарядами с удушающим газом.
Гобринус загораживает вход.
– Брось, впусти нас, – говорит сержант О’Хара. – Нет, у меня нет ордера. Но я получу.
– Если войдете, я вас засужу, – отвечает Гобринус. И улыбается. Бюрократическая волокита и правда такая непроходимая, что он бросил и пытаться получить разрешение на бар, – но правда и то, что правительство его защитит. Вторжение в частную собственность – тяжелое обвинение для полиции.
О’Хара заглядывает в дверь, видит два тела на полу, видит людей, которые держатся за головы и бока и утирают кровь, Аксипитера, усевшегося за столом, как стервятник, замечтавшийся о падали. Одно тело поднимается на четвереньки и выползает на улицу между ног Гобринуса.
– Сержант, арестуйте этого человека! – заявляет Гобринус. – Он пришел с незаконным фидо. Я обвиняю его в нарушении частной жизни.
О’Хара тут же сияет. Хоть один арест на его счету. Леграна сажают в автозак, который прибывает сразу после кареты «Скорой помощи». Красного Ястреба выносят к дверям его друзья. Он открывает глаза, когда его тащат на носилках в «Скорую», и бормочет.
– Что-что? – склоняется над ним О’Хара.
– Однажды я пошел на медведя с одним ножом – и то справился с ним легче, чем с этими суками. Я обвиняю их в нападении и побоях, убийстве и членовредительстве.
Попытка О’Хары уговорить Красного Ястреба написать заявление ничем не заканчивается, потому что Красный Ястреб уже без сознания. О’Хара чертыхается. Когда Красный Ястреб придет в себя, он откажется подписывать что угодно. Кому захочется, чтобы тебя подкараулили девчонки и их парни, если у тебя есть какое-никакое соображение.
Легран вопит из-за зарешеченного окошка автозака:
– Я правительственный агент! Меня нельзя арестовывать!
Полиция получает срочный вызов в Народный центр, где драка между местной молодежью и вествудскими грозит перелиться в волнения. Бенедиктина уходит из бара. Несмотря на несколько тумаков в плечи и живот, пинок под зад и подзатыльник, никаких признаков преждевременных родов нет.
Чайб – и грустный, и радостный – провожает ее взглядом. Он чувствует глухую тоску при мысли, что ребенку не позволят жить. Он уже понимает, что отчасти возражал против аборта из-за того, что отождествлялся с плодом; он знает то, чего, как думает Дедуля, он не знает. Он понимает, что и его роды были случайностью, счастливой или нет. Сложись все по-другому – и он бы не родился. Мысль о небытии – ни картин, ни друзей, ни смеха, ни надежды, ни любви – его ужасает. Его мать, забывавшая под мухой о предохранении, делала несколько абортов, и он легко мог стать одним из них.
Глядя, как Бенедиктина спокойно уходит прочь (несмотря на рваную одежду), он гадает, что такого в ней нашел. Жизнь с ней – даже с ребенком – была бы непростой.
- В гнездо уст, устланное надеждой,
- Любовь влетает вновь, садясь,
- Воркует, ослепляет опереньем
- И улетает прочь, насрав,
- Чтобы ускориться для старта:
- Таков обычай птичий.
Чайб возвращается домой, но все еще не может пойти к себе в комнату. Он идет в кладовую. Картина закончена на семь восьмых, но он ею недоволен. Теперь он уносит ее из дома к Рунику, который живет в одной кладке с ним. Руник сейчас в Центре, но никогда не запирает дверь. У него есть все нужное оборудование, чтобы Чайб дописал картину – с теми уверенностью и напором, которых ему не хватало, когда он только начинал. Покидает он дом Руника уже с большим овальным полотном, держа его над головой.
Он шагает мимо пьедесталов и под их изгибающимися ветвями, с овоидами на концах. Обходит стороной несколько зеленых парков с деревьями, проходит под новыми домами и через десять минут оказывается в сердце Беверли-Хиллз. Здесь порывистый Чайб видит
на каноэ в озере Иссус. Мариам ибн Юсуф, ее мать и тетя уныло держат удочки и поглядывают на развеселые краски, музыку и шумную толпу перед Народным центром. Полиция уже разогнала драку молодежи и теперь дежурит неподалеку на случай, если кому-то еще захочется устроить неприятности.
Все три женщины – в одежде мрачной расцветки, покрывающей тело с головы до пят: одежда фундаменталистской ваххабитской секты. Лица не закрыты – этого сейчас не требуют даже ваххабиты. Их египетская братия на берегу носит все современное, позорное и грешное. Несмотря на это, дамы пялятся.
На краю толпы – их мужчины. Бородатые, разодетые, как шейхи в фидо-сериале об Иностранном легионе, сдавленно бормочут клятвы и шипят при виде неправедной демонстрации оголенной женской кожи. Но пялятся.
Эта группка прибыла из зоологического заповедника Абиссинии, где их поймали за браконьерством. Их правительство дало им три варианта на выбор. Заключение в центре реабилитации, где их бы лечили, пока они не станут хорошими гражданами, даже если на это уйдет вся жизнь. Эмиграция в израильский мегалополис Хайфу. Или эмиграция в Беверли-Хиллз, ЛА.
Что? Пребывать средь проклятых израильских евреев? Они оплевались и выбрали Беверли-Хиллз. Увы, Аллах насмеялся над ними! Теперь их окружали Финкельштейны, Эпплбаумы, Сигелы, Вейнтраубы и прочие из неверных племен Исаака. Хуже того: в Беверли-Хиллз даже не было мечети. Они либо проезжали каждый день сорок километров до мечети на 16-м уровне, либо молились дома.
Чайб спешит к кромке озера, окаймленного пластиком, ставит свою картину и низко кланяется, смахнув с головы довольно помятую шляпу. Мариам улыбается, но ее улыбка тут же гаснет, когда ее укоряют старшие спутницы.
– Йа кельб! Йа ибн кельб![63] – кричат они ему.
Чайб им ухмыляется, машет шляпой и говорит:
– Аншанте, мадам! О, прелестные дамы, вы напоминаете мне три грации.
А затем восклицает:
– Я люблю тебя, Мариам! Я люблю тебя! Ты подобна розе Шарона! Прекрасна, волоока, девственна! Оплот невинности и силы, наполнена материнской силой и преданностью лишь единственной любви! Я люблю тебя, только ты свет в черном небе мертвых звезд! Тебя я зову чрез бездну!
Мариам знает мировой английский, но ветер уносит его слова прочь. Она жеманничает, и Чайб не может не ощутить на миг отвращение, приступ гнева, словно она его предала. И все-таки он берет себя в руки и кричит ей:
– Я приглашаю тебя на выставку! Ты, твоя мать и твоя тетя будете моими гостьями. Ты увидишь мои картины, мою душу, и ты поймешь, что за человек умчит тебя на своем Пегасе, горлица моя!
Нет ничего нелепей, чем словоизлияния влюбленного юного поэта. Ужасные вычурности. Я посмеиваюсь. Но все же я тронут. Хоть я и стар, а помню свои первые любовь, огонь, бурные потоки слов, одетые в молнии, окрыленные томлением. Дражайшие девы, многие из вас уже скончались, прочие зачахли. Я шлю вам всем воздушный поцелуй.
Дедуля
Мать Мариам встает в каноэ. На секунду Чайб видит ее сбоку и замечает намек на тот хищный облик, который Мариам обретет в ее возрасте. Сейчас у Мариам нежный орлиный профиль: «изгиб меча любви», прозвал ее нос Чайб. Дерзкий, но прелестный. Однако мать больше напоминает старого чумазого орла. А в чертах тети орлиного мало, но зато есть что-то верблюжье.
Чайб гонит прочь эти нелестные, даже крамольные сравнения. Но не может прогнать прочь собравшихся вокруг троих бородатых и немытых мужчин в балахонах.
Чайб улыбается, но говорит:
– Не помню, чтобы вас приглашал.
Они смотрят отсутствующе, потому что для них скорострельный лос-анджелесский диалект английского – тарабарщина. Абу (самое распространенное имя египтян в Беверли-Хиллз) хрипло произносит столь древнюю клятву, что ее знали даже мекканцы времен до Мохаммеда. Сжимает кулак. Другой араб подходит к картине и заносит ногу, чтобы пнуть.
И тут мать Мариам на себе узнает, что стоять в каноэ так же опасно, как на спине верблюда. Даже хуже, потому что все трое не умеют плавать.
Как не умеет и араб среднего возраста, напавший на Чайба, только чтобы обнаружить, что его жертва уворачивается, а потом отправляет его в озеро пинком под зад. Один молодой человек бросается на Чайба; второй пинает картину. Но оба замирают, услышав верещанье трех женщин и увидев их в воде.
Затем оба подбегают к берегу озера, где тоже оказываются в воде не без помощи Чайба, толкнувшего их обоих в спину. Болгани поблизости слышит, как все шестеро кричат и барахтаются, и подбегает к Чайбу. Тот уже начинает волноваться, потому что Мариам с трудом остается над водой. Ее ужас – неподдельный.
Чего Чайб не понимает, так это зачем они продолжают спектакль. Их ноги наверняка стоят на дне, здесь глубина – им до подбородка. И несмотря на это, кажется, что Мариам вот-вот утонет. Как и остальные, но они-то его не волнуют. Он должен спасти Мариам. Но тогда придется переодеваться перед тем, как пойти на выставку.
При этой мысли он громко смеется – и еще громче, когда за женщинами в воду бросается болгани. Чайб забирает свою картину и уходит хохоча. Но раньше, чем добирается до Центра, мрачнеет.
– И почему Дедуля всегда прав? Почему так хорошо меня знает? Неужели я ветреный, слишком поверхностный? Нет, я не раз был влюблен по уши. Что поделать, если я люблю Красоту – а всем красам, которых я люблю, Красоты не хватает? Слишком уж у меня взыскательный глаз; слишком глух к зову сердца.
Вестибюль (один из двенадцати), куда входит Чайб, спроектировал Дедуля Виннеган. Посетитель попадает в длинную изгибающуюся трубу с зеркалами, установленными под разными углами. В конце коридора он видит треугольную дверь. Сначала кажется, она такая маленькая, что в нее не пролезет никто старше девяти лет. Из-за иллюзии посетитель чувствует себя так, будто поднимается по стене. В конце трубы он уже уверен, что стоит на потолке.
Но дверь все растет, пока не становится огромной. Комментаторы предполагали, что этот коридор – символическое представление архитектора о вратах в мир искусства. Надо встать на голову, прежде чем проникнуть в страну эстетических чудес.
Войдя, сначала посетитель думает, что гигантский зал вывернут наизнанку или перевернут. Голова кружится все больше. Пока не сориентируешься, дальняя стена кажется ближней. Многие не могут привыкнуть и сбегают, пока их не стошнило или они не упали в обморок.
По правую руку – вешалка для шляп с надписью: СВОЮ ГОЛОВУ ОСТАВЛЯЙТЕ ЗДЕСЬ. Каламбур Дедули, который всегда заводит шутку слишком далеко, на вкус большинства. Если Дедуля заходит за границы словесного хорошего вкуса, то его праправнук перегибает палку в картинах. Выставлялись тридцать из его творений, включая последние три из Собачьей серии: «Собачья звезда», «Пёс-чанка» и «Песья пьеса». Рескинсон с его последователями грозятся, что их вырвет. Лускус со свитой восхваляет, но сдержанно. Лускус велел им не торопиться, пока он не переговорит с юным Виннеганом. Фидо-репортеры снимают и интервьюируют обоих, стараясь разжечь склоку.
Главный зал – огромная полусфера со светлым потолком, который сменяет весь спектр цветов каждые девять минут. Пол – огромная шахматная доска, а в центре каждого поля – лица корифеев разных искусств. Микеланджело, Моцарт, Бальзак, Зевксис, Бетховен, Ли Бо, Твен, Достоевский, Фармисто, Мбузи, Купель, Кришнагурти и так далее. Десять полей оставлены безликими, чтобы будущие поколения вписали своих кандидатов на бессмертие.
Нижняя часть стены расписана фресками, изображающими важные события в жизни творцов. Вдоль изгибающейся стены стоят девять сцен, каждая посвящена своей музе. На выступе над каждой сценой – гигантская статуя соответствующей богини. Все они обнаженные и фигуристые: огромные груди, широкие бедра, прочные ноги, словно скульптор воображал их богинями земли, а не уточненными интеллектуалками.
Лица исполнены в духе гладких безмятежных ликов классических древнегреческих статуй, но у губ и глаз тревожное выражение. Губы улыбаются так, будто того гляди оскалятся. Глаза – глубокие и зловещие. «Не продавай меня, – говорят они. – А иначе…»
Все сцены накрыты полусферами из прозрачного пластика с такой акустикой, что люди вне нее не слышат того, что творится внутри, и наоборот.
Чайб пробирается через шумную толпу к сцене Полигимнии – музы, в чью власть входит живопись. Он минует сцену, где стоит Бенедиктина, изливая свое свинцовое сердце в алхимии золотых нот. Она видит Чайба и умудряется обжечь его взглядом, одновременно улыбаясь своим слушателям. Чайб не обращает на нее внимания, но замечает, что она сменила платье, порванное в баре. Еще он видит множество полицейских вокруг здания. Вроде бы посетители не во взрывном настроении. Скорее счастливом, пусть и бурном. Но полиция знает, как обманчив этот вид. Одна искра…
Чайб минует сцену Каллиопы, где импровизирует Омар Руник. Доходит до Полигимнии, кивает Рексу Лускусу, который машет в ответ, и ставит на сцену свою картину. Она называется «Избиение младенцев» (подпись: «Собака на сене»).
На картине изображается хлев.
Этот хлев – грот со сталактитами любопытной формы. Свет, преломляющийся (или дробящийся) в пещере, – чайбовский красный. Он пронизывает все в картине, удваивает мощность и зазубренно лучится наружу. Зритель, двигаясь вдоль картины, чтобы окинуть взглядом ее всю, может разглядеть на ходу множество слоев света, проблески фигур за внешними фигурами.
На заднем плане в хлеву – коровы, овцы и лошади. Кое-кто из них в ужасе смотрит на Марию и младенца. У других разинуты рты – похоже, они пытаются предупредить Марию. Чайб обратился к легенде, согласно которой в ночь рождения Христа звери в яслях заговорили друг с другом.
Иосиф, усталый старик, развалился в углу с таким видом, словно у него вовсе нет хребта. У него два рога, но над каждым – нимб, так что все в порядке.
Мария сидит спиной к постели из соломы, где должен лежать младенец. Мужчина подкладывает на постель большое яйцо из люка в полу. Он прячется в пещере под пещерой, одет во все современное, со хмельным лицом и, как Иосиф, сутулится, будто беспозвоночный. Позади него – ожирелая баба, удивительно похожая на мать Чайба, и это ей мужчина передал ребенка перед тем, как подбросить яйцо-найденыша.
У младенца удивительно красивое лицо, омытое белым сиянием его нимба. Баба сняла нимб с его головы и разделывает младенца острым краем.
У Чайба глубокие познания человеческой анатомии, ведь он препарировал немало трупов в докторантуре Университета Беверли-Хиллз. Тело младенца – не противоестественно вытянутое, как обычно получается у Чайба. Реализм почти фотографический – он похож на настоящего ребенка. Из кровавой зияющей дыры тянутся внутренности.
До самого нутра же поражаются зрители, словно это не картина, а настоящий младенец, раскромсанный и выпотрошенный, которого они нашли у себя на пороге.
У яйца полупрозрачная скорлупа. В мутном желтке плавает мерзкий бесенок – с рогами, копытами, хвостом. Его размытые черты напоминают нечто среднее между Генри Фордом и Дядей Сэмом. Сдвигаясь из стороны в сторону, зрители видят, как проступают и другие лица: важные персоналии в развитии современного общества.
У окна теснятся дикие животные, которые пришли полюбоваться, но остались беззвучно кричать в ужасе. На первом плане – те, которые вымерли по вине человека или живут только в зоопарках и заповедниках. Додо, голубой кит, странствующий голубь, квагга, горилла, орангутанг, полярный медведь, пума, лев, тигр, медведь гризли, калифорнийский кондор, кенгуру, вомбат, носорог, белоголовый орлан.
Позади них – другие животные, а на холме – темные силуэты присевших тасманского аборигена и гаитянского индейца.
– Поделитесь вашим просвещенным мнением об этой весьма примечательной картине, доктор Лускус? – спрашивает фидо-репортер. Лускус улыбается и отвечает:
– Вы сможете услышать мое просвещенное мнение через несколько минут. Вам, пожалуй, сначала лучше поговорить с доктором Рескинсоном. Кажется, он сделал выводы сразу же. В его духе.
Красное лицо и яростные вопли Рескинсона транслируются по фидо.
– Эту хрень слышит весь мир! – громко замечает Чайб.
– ОСКОРБЛЕНИЕ! ПЛЕВОК! ПЛАСТМАССОВОЕ ГОВНО! ПОЩЕЧИНА ИСКУССТВУ И ПИНОК ПОД ЗАД ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ! ОСКОРБЛЕНИЕ! ОСКОРБЛЕНИЕ!
– Почему это оскорбление, доктор Рескинсон? – спрашивает фидошник. – Потому что насмехается над христианской и заодно панаморитской верой? Мне так не кажется. Мне кажется, Виннеган пытается сказать, что люди извратили христианство, а то и вообще все религии, все идеалы, ради собственных корыстных и саморазрушительных интересов; что человек в сущности своей убийца и извращенец. По крайней мере, это мой вывод, хотя я-то, конечно, простой обыватель и…
– Пускай анализом занимаются критики, молодой человек! – гаркает Рескинсон. – Вот у вас есть два докторских диплома, по психиатрии и искусству? Правительство выдало вам лицензию критика?
Этот Виннеган, у кого нет ни капли таланта – не говоря уже о гении, о котором рассуждают некоторые самовлюбленные пустозвоны, – это ничтожество из Беверли-Хиллз выставляет здесь мусор, сборную солянку, заслуживающую внимание только лишь новаторской техникой, которую мог бы изобрести любой электрик, – да я возмущен, что эта пустая игрушка, эта красивая безделица вводит в заблуждение не только отдельных зрителей, но и таких высокообразованных и лицензированных критиков, как доктор Лускус, – хотя, конечно, всегда будут ученые ослы, ревущие так громко, напыщенно и нечленораздельно, что…
– А правда ли, – говорит фидошник, – что многие художники, которых мы сейчас зовем великими – например, Ван Гог, – в свое время осуждались или игнорировались критиками? И…
Фидошник, мастер разжигать гнев ради интереса зрителей, замолкает. Рескинсон раздувается, вся его голова – один сплошной кровяной сосуд перед аневризмой.
– Я вам не какой-то невежественный обыватель! – кричит он. – Если в прошлом были лускусы, что вы теперь хотите от меня? Я-то знаю, о чем говорю! Виннеган – лишь микрометеорит в небесах Искусства, не достойный даже чистить туфли великих светочей живописи. Его репутацию раздула одна конкретная клика, чтобы просиять в отраженном свете его славы, – гиены, что кусают руку, которая их кормит, аки бешеные псы…
– Вы не путаете ли метафоры? – спрашивает фидошник.
Лускус ласково берет Чайба за руку и отводит в сторонку, пока фидошники не остаются в стороне.
– Дорогой мой Чайб, – воркует он, – пришло время заявить о себе. Ты знаешь, как непомерно я тебя люблю – не только как художника, но и как человека. Ты наверняка не в силах устоять перед теми глубоко сокровенными вибрациями, что несдержанно гудят меж нами. Боже, знал бы ты, сколько я о тебе мечтал, мой славный богоподобный Чайб, и…
– Если ты думаешь, что я соглашусь только потому, что ты можешь создать или разрушить мою репутацию, отказать мне в гранте, то ты ошибаешься, – говорит Чайб. И отдергивает руку.
Здоровый глаз Лускуса вспыхивает.
– Так я тебе отвратителен? Не может быть, чтобы это было только из-за морали…
– Это дело принципа, – говорит Чайб. – Даже если бы я тебя любил – а я не люблю, – я бы не согласился заняться любовью. Меня будут судить по моим достоинствам – и точка. А если подумать, мне вообще плевать на чужие мнения. Я не хочу, чтобы меня хвалили или разносили ты или кто угодно другой. Смотрите на мои картины и обсуждайте, шакалы. Но не подгоняйте меня под свои жалкие представления обо мне.
Омар Руник уже сошел со сцены своей музы и теперь стоит перед картинами Чайба. Он кладет руку на обнаженную грудь слева, где набито лицо Германа Мелвилла, тогда как честь занимать правую грудь принадлежит Гомеру. Омар громко кричит, его черные очи – распахнутые взрывом дверцы печи. Как уже бывало не раз, при виде картин Чайба на него нашло вдохновение.
- Зовите меня Ахав, не Измаил.
- Ибо я поймал Левиафана.
- Я жеребец дикого осла и человека.
- Внемлите: мои очи видели всё!
- Моя грудь – как вино, которому некуда излиться.
- Я – море с дверьми, но двери заело.
- Берегись! Кожа треснет; распахнутся двери.
- «Ты Нимрод», – говорю я Чайбу, другу своему.
- И настал тот час, когда Бог говорит ангелам,
- Что если такое может сделать для начала, то
- Для него нет ничего невозможного.
- Он протрубит в свой горн
- Пред валами Рая, требуя
- Луну в заложницы, Богоматерь – в жены,
- И прибылью делиться обязуя
- Великую Блудницу Вавилонскую.
– Остановите этого сукина сына! – кричит директор праздника. – Он же поднимет бунт, как в прошлом году!
Начинают стягиваться болгани. Чайб следит, как Лускус говорит с фидо-репортером. Он их не слышит, но уверен, что комплиментов не дождется.
- Мелвилл писал обо мне задолго до моего рождения.
- Я тот, кто хочет постичь
- Вселенную, но лишь на своих условиях.
- Я Ахав, чья ненависть пробьет, разрушит
- Все препоны Времени, Пространства или Субъективной
- Смертности, вонзит мое свирепое
- Сияние в Утробу Творения,
- Потревожив в берлоге те Силы или
- Неведомую Вещь в Себе, что кроется там
- Далекая, отдаленная, непроявленная.
Директор велит полиции жестами убрать Руника. Рескинсон все еще вопит, хотя камеры снимают Руника или Лускуса. Одна из Юных Редисов – Хьюга Уэллс-Эрб Гейнстербери, писательница-фантастка, – трясется в истерике, навеянной голосом Руника и жаждой мести. Он подкрадывается к фидо-репортеру из «Тайм». «Тайм» давно уже не журнал, потому что журналов больше нет, а новостное бюро, существующее при правительственной поддержке. «Тайм» – пример политики Дяди Сэма, политики левой руки, правой руки, без рук, по которой он предоставляет новостным бюро все, что нужно, и в то же время дозволяет им определять собственную политику. Так встречаются правительственные ограничения и свобода слова. И это есть хорошо – по крайней мере в теории.
Кое-что из прежней политики «Тайм» сохранилось до сих пор – то есть решение жертвовать истиной и объективностью во имя остроумия и что фантастику нужно критиковать. «Тайм» высмеял все произведения Гейнстербери до единого, и она ищет сатисфакции за боль, нанесенную несправедливыми рецензиями.
- Quid nunc? Cui bono?[64]
- Время? Пространство? Материя? Случай?
- Когда умираешь – Ад? Нирвана?
- О ничем и думать нечего.
- Грохочут пушки философии.
- Их ядра – пустышки.
- Взрываются горы снарядов теологии,
- Подпаленные диверсантом-Разумом.
- Зовите меня Ефраим, ибо меня остановили
- Пред Бродом Божьим, и я не смог произнести
- Шипящий звук, что пропустил бы меня.
- Что ж, не могу произнести «шибболет»[65],
- Зато еще как – «вшивый бред»!
Хьюга Уэллс-Эрб Гейнстербери пинает фидошника «Тайм» по яйцам. Он всплескивает руками – и камера формы и размера футбольного мяча вылетает из его рук и падает на голову юнцу. Тот юнец – Юный Редис, Людвиг Эвтерп Мальцарт. Он весь кипит из-за осуждения его тонической поэмы «То, что я вливаю в них сегодня, станет будущим адом»[66], и камера – та последняя капля масла в его огонь, от которой он несдержанно вспыхивает. Он с размаху бьет главного музыкального критика в живот.
От боли кричит не фидошник, а Хьюга. Она попала босыми пальцами ноги по твердой пластмассовой броне, которой журналист «Тайма» – цель не одного такого пинка – защищает свои гениталии. Хьюга скачет на одной ноге, схватившись за ушибленную обеими руками. Так она влетает в девушку – и происходит цепная реакция. Мужчина падает на фидошника «Тайма», который как раз наклонился за своей камерой.
– А-а-а! – кричит Хьюга, срывает с фидошника шлем, седлает бедолагу и бьет по лбу объективом камеры. Поскольку прочная камера еще пишет, она шлет миллиардам зрителем весьма интригующую, хотя и головокружительную картинку. Половина кадра залита кровью, но не настолько, чтобы было не видно. А потом зрителей ждет очередная новаторская съемка, когда камера вновь, кувыркаясь, взлетает в воздух.
Это ей в спину сунул электродубинку болгани, отчего Хьюга застыла, а камера вырвалась из ее рук по высокой дуге. С болгани сцепился нынешний любовник Хьюги – они катаются по полу; дубинку подхватывает вествудский юнец и развлекается, гоняя взрослых, пока на него не налетает местный подросток.
– Бунт – опиум для народа, – стонет начальник полиции. Он вызывает все патрули и шлет запрос начальнику вествудской полиции, у кого своих забот полон рот.
Руник колотит себе в грудь и воет:
- Господь, я существую! И не говори,
- Как говорил Крейну, будто это
- Не делает тебя обязанным предо мной.
- Я человек; я уникален.
- Я швырнул Хлеб в окно,
- Нассал в Вино, выдернул пробку
- Из дна Ковчега, срубил Древо
- На растопку, а если б был Святой
- Дух, я бы его освистал.
- Но я знаю, что все это
- Ни черта не значит,
- Что ничто не значит ничего.
- Что «есть» есть «есть», а «не» – не «не»,
- Что роза это роза это,
- Что мы здесь и не будем здесь,
- И это все, что мы можем знать!
Рескинсон видит, что Чайб идет к нему, взвизгивает и пытается улизнуть. Чайб хватает полотно «Пса песней» и бьет Рескинсона по голове. Лускус в ужасе возмущается – не из-за вреда здоровью Рескинсона, а из-за целости картины. Чайб разворачивается и таранит Лускуса краем ее овала.
- Земля вздымается, как тонущий корабль,
- Ее хребет почти переломлен потоком
- Экскрементов из небес и пучин,
- Что Бог в своей страшной щедрости
- Даровал, услышав крик Ахава:
- Дерьмо собачье! Дерьмо собачье!
- Рыдаю при мысли, что это Человек,
- А это – его конец. Но погодите!
- На гребне потопа – трехмачтовик
- Старинного вида. «Летучий голландец»!
- И вновь Ахав за штурвалом.
- Смейтесь, Мойры, глумитесь, Норны!
- Ибо я Ахав и я – Человек,
- И хоть не пробить мне дыру
- В стене Видимого,
- Чтобы выхватить пригоршню Существующего,
- Я все же буду бить.
- И мы с моей командой не сдадимся,
- Хоть палуба трещит под ногами
- И мы тонем, растворяясь
- Во всеобщих экскрементах.
- В миг, что будет вечно
- Гореть в Божьем оке, стоит Ахав
- На фоне пылания Ориона:
- Сжат кулак – кровавый фаллос,
- Как Зевс, демонстрирующий итог
- Кастрации своего отца Крона.
- А затем он и вся команда
- Ныряют сломя голову
- За край света.
- И как я слышал, до сих пор они
- П
- а
- д
- а
- ю
- т
Чайб превращен в дрожащую кучку разрядом электродубинки болгани. Приходя в себя, он слышит голос Дедули из передатчика в своей шляпе:
– Чайб, скорей! Аксипитер вломился в дом и пытается пробиться ко мне в комнату!
Чайб вскакивает и с боем проталкивается к выходу. Примчавшись к дому, он, запыхавшись, видит дверь в комнату Дедули открытой. В коридоре стоят налоговики и техники. Чайб врывается к Дедуле. Посреди комнаты стоит Аксипитер, бледный и дрожащий. Нервный камень. Он видит Чайба и отшатывается:
– Я не виноват. Мне пришлось вломиться. Только так я мог узнать наверняка. Я не виноват – я его не трогал.
У Чайба спирает дыхание. Он не может вымолвить ни слова. Присаживается и берет руку Дедули. На голубых губах того – слабая улыбка. Теперь он сбежал от Аксипитера раз и навсегда. В его руке – последняя страница его рукописи.
Большую часть жизни и я видел лишь горстку истинно преданных и великое множество истинно равнодушных. Но вот новый дух. Как много молодых людей воскресили – не любовь к Богу, а бешеную неприязнь. И это вселяет в меня радость и силы. Молодежь вроде моего внука и Руника святотатствует и тем сам почитает Его. Если б они не верили, они бы о Нем и не задумывались. Теперь у меня есть уверенность в будущем.
Чайб и его мать, во всем черном, входят в метро до уровня 13В. Оно освещается стенами, просторное и бесплатное. Чайб называет фидо-кассиру пункт назначения. За стеной производит вычисления белковый компьютер – не больше человеческого мозга. Из щели выскальзывает закодированный билет. Чайб забирает его – и они входят в док, большую плавную нишу, где он вставляет билет в другую щель. Выезжает новый билет, механический голос повторяет данные с него на мировом и лос-анджелесском английском – на случай, если они не умеют читать.
В док выстреливаются гондолы, постепенно останавливаются. Они без колес – плывут в постоянно подстраиваемом гравитонном поле. Части стены дока разъезжаются, пропуская пассажиров в гондолы. Пассажиры входят в предназначенные им шлюзы. Шлюзы сдвигаются вперед; их двери открываются автоматически. Пассажиры переходят в клети гондол. Садятся и ждут, когда над ними закроется защитная сетка из особого сплава. Из углублений корпуса выезжает прозрачный пластик и, смыкаясь, образует купола.
Гондолы дожидаются, когда путь будет свободен, – их автопилот подстраховывается белковыми компьютерами. Получив добро, они медленно передвигаются из дока в трубу. Замирают в ожидании очередного подтверждения, сверяясь три раза за считаные микросекунды. Затем они влетают в трубу.
Вжух! Вжух! Их обгоняют другие гондолы. Труба светится желтым, словно наполнена электрифицированным газом. Гондола мгновенно ускоряется. Некоторые их еще опережают, но скоро чайбовскую не может догнать никто. Округлая корма гондолы перед ними – блистающая добыча, которую не нагнать до самой стыковки в предназначенном доке. Гондол в метро не так уж много. Несмотря на стомиллионное население, движение на маршруте «север-юг» редкое. Большинство лос-анджелесцев не выходят из самодостаточных стен своих кладок. В трубах «восток-запад» движение оживленнее: небольшой процент предпочитает общественные океанские пляжи муниципальным бассейнам.
Гондола летит на юг. Через несколько минут труба начинает опускаться – и вдруг наклоняется под углом 45 градусов. Мимо мелькает уровень за уровнем.
За прозрачными стенами Чайб замечает жителей и архитектуру других городов. Интересен уровень 8 – Лонг-Бич. Здесь дома похожи на две кварцевые формы для пирога, одна поверх другой, дном в разные стороны, и стоит весь этот модуль на колонне с резными фигурами, а пандус въезда и выезда – аркбутан.
На уровне 3А труба выпрямляется. Теперь гондола пролетает мимо таких поселений, при чьем виде мама прикрывает глаза. Чайб сжимает ее ладонь и вспоминает своих сводного и двоюродного братьев, живущих за этим желтоватым пластиком. На этом уровне находится пятнадцать процентов населения – умственно отсталые, неизлечимые сумасшедшие, безобразные, чудовищные, склеротичные. Здесь они плавают: пустые или перекошенные лица прижимаются к стене трубы, глядя, как мимо проносятся красивые вагончики.
«Гуманная» медицина сохраняет жизнь младенцам, которые должны – по всем правилам Природы – умереть. С самого XX века люди с дефективными генами спасались от смерти. Отсюда постоянное распространение этих генов. Трагедия в том, что теперь наука умеет отличать и корректировать дефектные гены уже на этапе яйцеклетки и сперматозоидов. В теории все могут быть благословлены совершенно здоровыми телами и физически совершенными мозгами. Но заковыка в том, что у нас не хватает врачей и клиник, чтобы успевать за уровнем рождаемости. И это несмотря на его постоянное падение.
Медицина сохраняет жизнь до самого маразма. То есть – все больше и больше слюнявых безмозглых стариканов. А еще – растущее число умственно отсталых. Существуют терапии и препараты, чтобы вернуть большинство к «норме», но врачей и клиник не хватает. Может, однажды хватать и будет, но нынешних несчастных это не утешает.
И что делать? Древние греки бросали больных младенцев умирать в поле. Эскимосы отправляли своих стариков на льдины. Что, травить наших аномальных младенцев и маразматиков газом? Порой мне кажется, что так даже милосерднее. Но не могу же я просить другого повернуть рычаг, когда не могу сделать этого сам.
Я пристрелю первого, кто к нему потянется.
Из «Личных излияний» Дедули
Клеть прибывает к одному из редких перекрестков. Справа пассажиры видят широкое устье трубы. На них летит экспресс; все ближе. Столкновение неизбежно. Умом они понимают, что это не так, но не могут не вцепиться в свою проволочную сетку, стиснуть зубы и упереться ногами. Мама тихо вскрикивает. Экспресс пролетает над головой и пропадает, хлещущий вопль воздуха – словно душа на пути к суду в преисподней.
И снова труба ныряет, пока не выравнивается на 1-м уровне. Они видят под собой землю, массивные самонастраивающиеся колонны, на которых держится весь мегаполис. Мимо мелькает городишко – старомодный ЛА начала XXI века сохранен в качестве музея, один из множества под кубом.
Через пятнадцать минут после посадки Виннеганы прибывают на конечную. Лифт спускает их на землю, где уже ждет большой черный лимузин. Он предоставлен частным похоронным бюро – Дядя Сэм и правительство ЛА оплачивают кремацию, но не погребение. Церковь к погребению уже не обязывает, предоставляя верующим самим выбирать между развеянным прахом и подземными трупами.
Солнце на полпути к зениту. Маме становится трудно дышать, у нее краснеют и опухают руки и шея. Все три раза, когда она выходила за стены, ее мучила аллергия, несмотря на кондиционер в лимузине. Чайб поглаживает ее по руке, пока они трясутся по ухабистой дороге. Хотя этот древний автомобиль с электрическим мотором, выпущенный восемьдесят лет назад, «трясется» только в сравнении с гондолой. Десять километров до кладбища он покрывает в один миг, остановившись только раз – пропустить оленя, переходящего дорогу.
Их встречает отец Феллини. Он огорчен, потому что вынужден сообщить: по мнению Церкви, Дедуля совершил богохульство. Подменить свое тело на чужое, обманом провести по нему службу, похоронить в священной земле – это кощунство. Больше того, Дедуля умер нераскаявшимся преступником. По крайней мере, Церкви о его раскаянии перед смертью неизвестно.
Чайб ожидал отказа. Церковь Святой Марии в БВ-14 отказалась проводить по Дедуле службу в своих стенах. Но Дедуля часто говорил Чайбу, что хочет быть похороненным рядом с предками – и Чайб пойдет на все, чтобы его желание было исполнено.
– Да я сам его закопаю! – говорит Чайб. – Прямо на краю кладбища!
– Так нельзя! – говорят одновременно священник, работники похоронного бюро и федеральный агент.
– Еще как можно! Где у вас лопата?
Тогда он и замечает худое смуглое лицо и крючкообразный нос Аксипитера. Агент здесь надзирает за эксгумацией (первого) гроба Дедули. Поблизости по меньшей мере пятьдесят фидо-журналистов снимают на мини-камеры; их передатчики парят в нескольких декаметрах от них. Дедулю освещают все – как и подобает Последнему Миллиардеру и Величайшему Преступнику Века.
ФИДО-РЕПОРТЕР:
– Мистер Аксипитер, можно задать короткий вопрос? Я не преувеличу, если скажу, что за этим историческим событием наблюдает не меньше десяти миллиардов человек. В конце концов, даже школьники знают о Великане Виннегане.
Что вы по этому поводу чувствуете? Вы вели это дело двадцать шесть лет. Наверняка успешное раскрытие принесло вам огромное удовлетворение.
АКСИПИТЕР – не веселее диорита:
– Ну, на самом деле я не посвящал делу все свое время. Только около трех лет по общему счету. Но раз я уделял ему несколько дней каждый месяц, и впрямь можно сказать, что я шел по следу Виннегана двадцать шесть лет.
РЕПОРТЕР:
– Говорят, конец этого дела может принести конец и для НБ. Если мы не ошибаемся, НБ продолжало работу только из-за Виннегана. Конечно, за это время у вас хватало и других занятий, но выслеживание фальшивомонетчиков и игроков, не сообщающих о своем доходе, уже передали другим бюро. Это правда? И если да, чем вы планируете заняться?
АКСИПИТЕР; голос сверкает, как кристалл чувств:
– Да, НБ распускают. Но только когда будет закрыто дело против внучки Виннегана и ее сына. Они его укрывали, а значит, являются соучастниками.
Вообще-то хорошо бы судить все население 14-го уровня Беверли-Хиллз разом. Я уверен, просто еще не могу доказать, что все, включая и начальника полиции, отлично знали, что Виннеган укрывается в этом доме. Это знал даже семейный священник, потому что Виннеган часто ходил на службу и исповеди. Священник заявляет, что уговаривал его сдаться, отказываясь простить грехи.
Но Виннеган, матерая «мышь» – в смысле, преступник, – не прислушался к уговорам священника. Он заявлял, что не совершал преступлений, что преступник – хотите верьте, хотите нет – это Дядя Сэм. Только представьте себе дерзость, низость этого человека!
РЕПОРТЕР:
– Вы же не планируете всерьез арестовать все население Беверли-Хиллз—14?
АКСИПИТЕР:
– Мне рекомендовали этого не делать.
РЕПОРТЕР:
– Вы планируете уйти по завершении дела на покой?
АКСИПИТЕР:
– Нет. Я хочу перевестись в Бюро убийств Большого ЛА. Убийств из корысти почти не осталось, но, слава богу, еще есть убийства на почве страсти!
РЕПОРТЕР:
– Разумеется, если юный Виннеган выиграет против вас в суде – а он обвинил вас в нарушении права на частную жизнь, незаконном вторжении в дом и причинении смерти его прадедушке, – вы уже не сможете работать ни в Бюро убийств, ни в любом другом полицейском отделе.
АКСИПИТЕР – сверкнув сразу несколькими кристаллами чувств:
– Нет ничего удивительного, что нам, блюстителям закона, так трудно работать! Порой кажется, что на стороне правонарушителя не только большинство граждан, но и мои работодатели…
РЕПОРТЕР:
– Вы не могли бы закончить мысль? Наверняка ваши работодатели смотрят наш канал. Нет? Насколько я понимаю, по какой-то причине судебные слушания по делу Виннегана и по вашему пройдут в один день. Как вы планируете участвовать на обоих заседаниях? Хе-хе! Кое-кто из фидо-ведущих зовет вас Одновременным Человеком!
АКСИПИТЕР:
– Ну, э-э, насколько вам известно, это промашка клерка частной компании пятьдесят лет назад! Он неправильно загрузил данные в базу данных. Путаницу с датами исправляют только сейчас. Могу только добавить: существуют подозрения, что клерк совершил ошибку умышленно. Слишком уж много таких случаев…
РЕПОРТЕР:
– Вы не могли бы подытожить ход этого дела для наших зрителей? Самое главное, пожалуйста.
АКСИПИТЕР:
– Ну, э-э, насколько вам известно, пятьдесят лет назад все крупные частные предприятия стали правительственными бюро. Все, кроме строительной компании «Финнеган – Пятьдесят Три Штата», чьи президентом являлся Финн Финнеган. Это отец человека, которого похоронят – где-то – сегодня.
А также были либо распущены, либо стали правительственными все профсоюзы, кроме крупнейшего – строительного. Собственно, компания и профсоюз были едины, потому что девяносто пять процентов капитала, поделенные примерно поровну, принадлежали всем работникам. А старик Финнеган был как президентом компании, так и представителем и секретарем профсоюза.
Их фирма-профсоюз сопротивлялась неизбежному поглощению всеми правдами и неправдами – главным образом, подозреваю я, неправдами. Из-за методов Финнегана велись расследования: принуждение и шантаж сенаторов и даже верховных судей США. Но ничего доказать не удалось.
РЕПОРТЕР:
– Для тех наших слушателей, кто подзабыл историю: еще пятьдесят лет назад на деньги покупались только негарантированные товары. Другое применение денег, как в наше время, считалось признаком престижа и социального положения. Когда-то правительство даже подумывало целиком избавиться от денег, но исследования показали их высокую психологическую ценность. Сохранялся и подоходный налог, хотя деньги правительству не требовались: размер налога указывал на престиж человека, а также позволил правительству вывести из обращения большую часть валюты.
АКСИПИТЕР:
– Так или иначе, когда скончался старик Финнеган, федеральное правительство надавило опять, чтобы сделать строителей и представителей компании государственными служащими. Но молодой Финнеган оказался таким же упертым и хитроумным, как его отец. Я, конечно, не намекаю, что на успех молодого Финнегана могло как-то повлиять то, что президентом США тогда был его дядя.
РЕПОРТЕР:
– На момент смерти отца «молодому» Финнегану было семьдесят лет.
АКСИПИТЕР:
– В течение этой борьбы, растянувшейся на много лет, Финнеган решил переименоваться в Виннегана. Каламбур в связи с «Великаном». Похоже, каламбуры доставляли ему инфантильное, даже идиотское удовольствие – чего я, к счастью, не понимаю. Я имею в виду каламбуры.
РЕПОРТЕР:
– Ради наших слушателей вне Америки, которым может быть не известно о нашем национальном обычае – Дне Именования… он был зарожден панаморитами. По достижении совершеннолетия гражданин может когда угодно взять новое имя, лучше отвечающее его характеру или цели в жизни. Надо заметить, что Дядя Сэм, несправедливо обвиняющийся в том, что он требует конформизма от граждан, поощряет индивидуальный подход к жизни. И это несмотря на то, что правительству приходится следить за растущими архивами.
Отмечу и еще один интересный момент. Правительство заявляет, что Дедуля Виннеган был умственно неполноценным. Надеюсь, слушатели меня простят, если я займу немного вашего времени и объясню причины. Итак, если вы незнакомы с «Поминками по Финнегану», классикой начала XX века, – несмотря на стремление вашего правительства обеспечить вас бесплатным образованием в любой период жизни, – писатель Джеймс Джойс взял название из старой водевильной песни.
(Полузатемнение, пока кратко объясняется значение слова «водевиль».)
– Песня была о Тиме Финнегане, ирландском подносчике кирпичей, который напился, свалился с лестницы и якобы погиб. Во время ирландских поминок по Финнегану на труп случайно плещут виски. Финнеган, почувствовав «живую воду», встает из гроба пить и плясать со скорбящими.
Дедуля Виннеган всегда утверждал, что песня основана на том, что хорошего человека ничем не удержать, а первый Тим Финнеган – его предок. Это смехотворное заявление правительство и приводит в своем иске против Виннегана.
Однако Виннеган предоставил документы в поддержку своего заявления. Позже – слишком поздно – было доказано, что это фальшивки.
АКСИПИТЕР:
– Иск правительства против Виннегана поддержал народ. Граждане жаловались, что негосударственный профсоюз – это недемократичная и дискриминационная практика. Его работники зарабатывали сравнительно много, а многие граждане довольствовались гарантированным доходом. И тогда на Виннегана подали в суд по обвинению – разумеется, совершенно справедливому – в разных преступлениях, в том числе попрании демократии.
Завидев неизбежный конец, Виннеган завершил свою преступную карьеру. Он каким-то образом похитил двадцать миллиардов долларов из федерального хранилища. Это, кстати говоря, равняется половине валюты, ходившей тогда в Большом ЛА. Виннеган пропал с деньгами – не только их украв, но и не заплатив за них налог. Непростительно. Даже не знаю, за что столь многие романтизируют поступки этого злодея. Что там, я даже видел фидо-постановки, где он выступает героем – хоть и под другим именем, конечно.
РЕПОРТЕР:
– Да, народ, Виннеган совершил Преступление Века. И хотя в конце концов его нашли и сегодня похоронят – где-то, – дело еще не раскрыто. Федеральное правительство заявляет об обратном. Но где деньги – двадцать миллиардов долларов?
АКСИПИТЕР:
– Вообще-то деньги давно потеряли ценность и интересны разве что коллекционерам. Вскоре после кражи правительство отозвало всю валюту и выпустило новые купюры, чтобы их не путали со старыми. Правительство в любом случае давно это планировало, потому что считало, что валюты слишком много, так что перевыпустило только половину прежнего.
Я сам очень хочу знать, где деньги. И не успокоюсь, пока не узнаю. Буду искать их в свободное от работы время.
РЕПОРТЕР:
– И его у вас будет в достатке, если юный Виннеган победит в суде. Что ж, народ, как многим из вас известно, Виннеган был найден мертвым на нижнем уровне Сан-Франциско через год после исчезновения. Тело опознала его внучка; отпечатки пальцев, ушей, сетчатки, зубов, группа крови, волос и десятки других параметров совпадали.
Чайб, который все это время слушает, думает, что на это Дедуля наверняка потратил несколько миллионов из украденных денег. Точно он не знает, но подозревает, что какая-то исследовательская лаборатория вырастила его дубликат в пробирке.
Это случилось через два года после рождения Чайба. Когда Чайбу было пять, его дедушка вернулся. Он въехал в дом, не сказав маме ни слова. Доверял он только Чайбу. Конечно, Дедуля не мог оставаться совершенно незамеченным, но Мама все-таки говорила, что никогда его не видела. Чайб считал, что она хочет избежать обвинений в соучастии. Но наверняка не знал. Может, она и правда закрыла эти «явления» от остальной части мозга. Ей-то это не сложно, она и так никогда не знала, вторник сегодня или четверг, и не могла назвать год.
Чайб не обращает внимание на похоронных агентов, которые требуют ответить, куда деть тело. Он подходит к старой могиле. Уже видна верхушка овоидного гроба; длинный слоновий хобот копателя акустически крошит и всасывает почву. Аксипитер, теряя свой многолетний самоконтроль, ухмыляется репортеру и потирает руки.
– Ну ты еще спляши, сукин ты сын, – говорит Чайб: только гнев сдерживает нарастающие в нем слезы и плач.
Вокруг гроба расчищают место для хватательных манипуляторов. Те опускаются, подцепляют и поднимают на траву черный гроб из облученного пластика, в арабесках из фальшсеребра. Чайб, увидев, как налоговики вскрывают гроб, начинает было что-то говорить, но захлопывает рот. Он пристально наблюдает, подогнув колени, как для прыжка. Сгрудились фидо-репортеры, их камеры в форме глаз уставились на кружок вокруг гроба.
Крышка со стоном поднимается. Раздается большой взрыв. Клубится густой черный дым. Аксипитер с его людьми – почерневшими, с распахнутыми белыми глазами, – вываливается из облака, заходясь в кашле. Фидо-репортеры разбегаются кто куда или подбирают камеры. Те, кто стоял подальше, видят, что взрыв произошел на дне могилы. Только Чайб знает, что это открытие крышки гроба активировало устройство в могиле.
И он же первый смотрит в небо, на снаряд, вылетевший из могилы, потому что только он его ждал. Ракета забирается на сто пятьдесят метров, и фидошники наконец наводят на нее камеры. Она взрывается – и на ее месте между двумя круглыми объектами разворачивается лента. Объекты раздуваются и оказываются воздушными шарами, а лента – большой растяжкой.
А на ней – большие черные буквы:
Свирепо пылают зарытые под могилой двадцать миллиардов долларов. Ветер носит отдельные купюры, разбросанные в гейзере фейерверка, а налоговики, фидошники, работники похоронного бюро и чиновники их ловят.
Мама в шоке.
Аксипитер стоит с таким видом, будто его сейчас хватит удар.
Чайб плачет, потом смеется и катается по земле.
И снова Дедуля поимел Дядю Сэма и провернул свой величайший каламбур на глазах у всего мира.
– Ну и старик! – всхлипывает Чайб между приступами смеха. – Ну и старик! Как же я тебя люблю!
Катаясь по земле и хохоча так, что ребрам больно, он вдруг чувствует в руке бумажку. Перестает смеяться, встает на колени и зовет человека, который ее сунул. Тот отвечает:
– Ваш дедушка, когда его хоронили, заплатил, чтобы я передал это вам.
Чайб читает:
Надеюсь, никто не пострадал, даже налоговики.
Последний совет Мудреца в Пещере. Беги. Уезжай из ЛА. Уезжай из страны. Отправляйся в Египет. Пусть твоя мама дальше ездит на пурпурном пособии. У нее получится, если она будет экономить и врать самой себе. Если нет, ты в этом не виноват.
Тебе и правда повезло родиться если не гением, но с талантом и с силами на то, чтобы иметь желание оторваться от пуповины. Ну так вперед. В Египет. Окунись в древнюю культуру. Постой перед Сфинксом (а может, это на самом деле она, а не он). Задай Вопрос.
А потом отправляйся в заповедник к югу от Нила. Поживи в приблизительном факсимиле Природы, какой она была до того, как человечество ее обесчестило и обезобразило. И там, где гомо сапиенс (?) эволюционировал из обезьяны-убийцы, впитай дух тех древних мест и времен.
Ты рисовал членом – боюсь, твердым больше от желчи, чем от страсти к жизни. Научись рисовать сердцем. Только так ты станешь великим и честным.
Рисуй.
А потом отправляйся, куда пожелаешь. Я буду с тобой, сколько ты жив и помнишь меня. Цитируя Руника: «Я стану Северным Сиянием твоей души».
Держись за веру, что другие полюбят тебя так же, как я, если не больше. Что важнее, и ты должен любить их не меньше же, чем они – тебя.
Ну что, справишься?
Послесловие
Мне, на удивление, безынтересен полет человека на Луну. Я говорю «на удивление», потому что читаю фантастику с 1928 года, а продаю – с 1952-го. Более того, я ожидал – и надеялся, и молился, – что мы побываем на Марсе к сороковому. В восемнадцать я от такой ранней даты отказался, но все-таки знал, что однажды – может, в семидесятых – мы долетим.
А еще я с 1957-го писал для армии и о коммерческой электронике, а в настоящий момент работаю в компании, тесно связанной с космическими программами «Сатурн» и «Аполлон». Десять лет назад я был бы близок к экстазу, если бы работал на космическом проекте. Ракеты, высадки на Луне, шлюзы и все такое прочее.
Но в прошедшие восемь лет меня все больше интересовали – и волновали – проблемы земные. Демографический взрыв; контроль рождаемости; надругательство над матушкой-природой; «права» людей – и животных; международные конфликты; и особенно – психическое здоровье. Я бы и хотел посмотреть, как мы исследуем космос, но, думаю, это не так уж обязательно. Если США так хочется тратить свои (мои) деньги на космические ракеты – ладно. Я отлично понимаю, что однажды космические проекты окупятся больше чем сторицей. Сделанные по ходу дела технологические открытия, случайные находки плюс такие вещи, как управление погодой и так далее, – все это рано или поздно окупит вложенные усилия и затраты. Ну или хочется так думать.
Но давайте вкладывать хотя бы столько же денег и сил в исследования того, как работают (и нет) люди. Если встает выбор между двумя разными проектами – к черту космос. Если это похоже на крамолу – пусть так. Люди важнее ракет; нам никогда не быть в гармонии с Природой вне нашей атмосферы; ведь нам не дается гармония и со своей подлунной Природой.
Идея этого рассказа возникла, когда я был на лекции дома у Тома и Терри Пинкардов[67]. Лу Бэррон среди прочего рассказывал о манифесте «Тройная революция». В эту публикацию входят письмо о тройной революции, отправленное 22 марта 1964 года Специальным комитетом президенту Линдону Б. Джонсону, политически беззубый ответ зама специального советника президента и сам доклад «Тройная революция». Авторы знают, что человечество стоит на пороге эпохи, требующей фундаментального переосмысления существующих ценностей и основ. Три отдельных и взамообуславливающих революции – это (1) революция Кибернации, (2) революция вооружений и (3) революция прав человека.
Не буду углубляться в публикацию – даже краткий пересказ займет слишком много места. Но всем, кто интересуется кризисами наших времен, тем, что нужно планировать и делать, ближайшим и отдаленным будущим, – для вас этот манифест обязателен к изучению. Его можно получить, написав по адресу: Специальный комитет по Тройной революции, п/я 4068, Санта-Барбара, Калифорния.
Первым в моем присутствии Тройную революцию упомянул Лу Бэррон – и на данный момент последним. И все же этот манифест может стать вехой для историков, удобной отметкой, когда началась новая эпоха «спланированных обществ». Он может занять место в ряду таких важных документов, как Великая хартия вольностей, Декларация независимости, Манифест Коммунистической партии и так далее. С той лекции я встречал его упоминания в двух журналах, но без объяснений. А во время лекции Лу Бэррон сказал, что Тройная революция, несмотря на свою важность, до сих пор неизвестна даже некоторым экономистам и политологам в кампусе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
Лекция Бэррона подарила мне намек на рассказ об обществе будущего, выведенном из существующих тенденций. Пожалуй, я бы ничего с этим и не сделал, если бы несколько месяцев спустя Харлан Эллисон не попросил у меня рассказ для этой антологии. Стоило услышать, что здесь не будет никаких табу, как у меня загорелись глаза от одержимости, которую многие сочтут циничной, а не плодотворной. Из подсознания всплыл парафраз названия Зейна Грея – «Наездники пурпурных прерий» (Riders of the Purple Sage). По мере развития допущений вставали на свое место и другие идеи.
Хочу прояснить несколько моментов. Во-первых, этот рассказ – только один из дюжины, только один из миров будущего, что я мог бы написать. У Тройной революции слишком много следствий.
Во-вторых, в этом рассказе можно видеть только костяк того, что я хотел. В теории ограничений по объему не ставилось, но на практике где-то нужно было ставить точку. И тридцать тысяч слов этот рубеж переступили, но редакторы пошли навстречу. Вообще-то я написал и сорок тысяч слов, но заставил себя вырезать множество глав, а потом сократить и оставшиеся. Так получилось двадцать тысяч слов, из которых потом я опять сделал тридцать. У меня был еще ряд эпизодов и писем от разных президентов США разным бюро. Письма и ответы показали бы, как началось Великое удаление и как зародились замкнутые многоуровневые города. Вырезано подробное описание самого строительства общества ООГЕНЕЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ, УРОВЕНЬ 14, а также и муниципальные турниры подростковых банд на Народном празднике, сцена с Чайбом и его матерью, где глубже прорисованы их отношения, сцена из фидо-игры, основанной на первых днях секты панаморитов, и еще с десяток глав.
В-третьих, авторы манифеста «Тройная революция», кажется мне, заглядывали вперед лишь на пятьдесят лет. А я перескочил сразу в 2166-й, потому что уверен, что к тому времени нам уже будет доступно превращение энергии в материю и дупликация материальных предметов. Скорее всего, и раньше. Эта моя уверенность основана на текущем прогрессе в физике. (Упомянутые в рассказе белковые компьютеры уже предсказывались в недавнем Science News-Letter. Я это предвосхитил в своем рассказе уже в 1955-м. Насколько мне известно, мое предсказание – первое упоминание белковых компьютеров в литературе любого жанра – фантастической, научной и какой угодно другой.) Человечеству больше не придется полагаться на земледелие, животноводство, рыболовство, горную добычу. Более того, города будут совершенно независимы от своих национальных правительств, не считая вопроса международной войны. Борьба городов-государств с федеральным правительством в этом рассказе дана только намеком.
В-четвертых, авторы «Тройной революции» проявили скромность и здравомыслие, когда сказали, что еще не знают, как спланировать общество. Они настаивают на том, чтобы сперва провести всеохватное и глубокое исследование, а уже потом аккуратно следовать рекомендациям.
В-пятых, сомневаюсь, что у нас это получится всеохватно и аккуратно. Вопрос слишком насущный; нужда уже жарко дышит в затылок. К тому же подробные исследования человечества всегда переплетены с политикой, предубеждениями, бюрократией, эгоизмом, глупостью, ультраконсерватизмом и той чертой, что свойственна всем нам: откровенным невежеством.
В-шестых, несмотря на это, я понимаю, что спланировать наш мир нужно, – и желаю планировщикам удачи в их опасном деле.
В-седьмых, я могу ошибаться.
В-восьмых, надеюсь, что я ошибаюсь.
Этот рассказ – в первую очередь рассказ, а не проверка идей или пророчество. Я слишком увлекся персонажами. И хотя Лу Бэррон заложил основу, к самому рассказу он отношения не имеет. Вообще-то сомневаюсь, что рассказ ему понравится.
Как бы рассказ ни приняли, мне понравилось его писать.
«Система Мэлли»
Предисловие
В книге, почти агрессивно посвященной новым, молодым голосам в спекулятивной литературе, удивительно встретить рассказ от женщины, которая профессионально пишет дольше, чем я живу на свете! Это признак либо живительных свойств ее творчества, либо ее уникальности. Лично я бы выбрал последнее – как и вы, если бы встречали Мириам Дефорд. Она из тех, кто одарит взглядом, от которого чахнет спаржа, если хотя бы проронишь такую семантическую нелепицу, как «пожилой человек» или «солнечный город»[68]. Затем она, скорее всего, размажет тебя едким афоризмом из Шопенгауэра («Первые 40 лет нашей жизни составляют текст, а дальнейшие 30 лет – комментарий к этому тексту»[69]) или, например, Ортега-и-Гассета («У девушки пятнадцати лет обычно больше секретов, чем у старика, а у женщины тридцати лет больше тайных знаний, чем у главы государства»). А если и этого мало, как насчет быстренького фумикоми с правой ноги?
Мириам Аллен Дефорд мало того, что прославленный автор «Дела Овербери» (Overbury Affair) и «Каменных стен» (Stone Walls) – полуклассических исследований в области преступления и наказания, – так она написала еще десять, нет, даже одиннадцать исторических или биографических трудов. Она звездный светоч в сфере криминальных фактов и вымыслов. Она любимица читателей НФ и фэнтези. Она выпустила невероятное количество переводов с латыни, литературных биографий и критики, статей на политические и социологические темы; она много лет работала профсоюзным журналистом; она публикующаяся поэтесса и выпустила сборник стихов «Предпоследние» (Penultimates). Уроженка Филадельфии, она проживает – и проживала почти всю жизнь – там, где ее сердце: в Сан-Франциско. В личной жизни она миссис Мейнард Шипли, чей покойный муж (скончался в 1934 году) – известный в научной области писатель и лектор.
Не буду называть здесь возраст мисс Дефорд, но чувствую себя так, словно скрываю от вас чудо. В наши времена, когда обыватель задумывается о здравомыслии Вселенной, любая капля чуда заслуживает прославления, чтобы убедить всех до одного: есть еще надежда и гармония в порядке вещей. Ведь давайте признаем печальный, но вездесущий факт: в нашей культуре большинство взрослых людей, людей преклонных лет, после утраты юности – лишь сварливые слушатели. Но Мириам Дефорд ниспровергает традиции. В обаянии с ней потягаются немногие. В убедительности – никто. (В доказательство последнего: редактор этой книги хотел переименовать ее рассказ в «Клетки памяти» или подобную нелепую чушь. Мисс Дефорд «убедила» редактора, что он только выставляет себя ослом. Ее оригинальное название осталось, а редактор, пусть и поверженный, не почувствовал себя униженным. И вот это, детишки, называется «порода».) Но далеко не это – и уж точно не возраст – привлекает наше внимание. Энергичность стиля, оригинальность и бескомпромиссность, которые Дефорд привносит в сложные, насущные современные проблемы, – вот что нас в ней завораживает.
Мириам Аллен Дефорд исполняет бесценную службу – как в этой антологии, так и в жанре в целом: она – наглядный пример. Не только карапузы умеют придумывать всякие новые жесткие идеи и увлекательно их излагать. Если писатель хочет быть писателем, ему никакие хронологические ярлыки не помеха. Ее рассказ вас впечатлит даже без знания ее возраста. Поневоле задумаешься, насколько обоснованы притязания тех писателей, которые оправдывают свое паршивое бумагомарание возрастом. Мириам Дефорд всем им наподдаст под зад, как и ее рассказ – нам. Внемлите!
Система Мэлли
Мириам Аллен Дефорд
ШЕП:
– Это далеко? – спросила она. – Мне еще надо домой на школьный телекаст; я только улизнула купить вита-сос. Мне всего семь, а я уже учу кибернетику, – похвасталась она.
Я с усилием прочистил горло.
– Нет, тут всего шаг, успеешь меньше чем за минуту. Моя дочка просила тебя забрать. Она тебя описала, чтобы я тебя узнал.
Она рассматривала меня с сомнением.
– Ты какой-то слишком молодой, чтобы иметь дочку. И я ее не знаю.
– Сюда. – Я твердо держал ее за худенькое плечо.
– По лестнице? Что-то мне не нравится…
Я быстро оглянулся: поблизости – никого. Я толкнул ее в темную дверь и задвинул щеколду за нами.
– Чтобы тебя разбомбили, ты сквоттер! – воскликнула она в ужасе. – Откуда у тебя может быть…
– Заткнись! – Я зажал ей рот и толкнул на ворох тряпья, который служил мне постелью. Бессильное сопротивление только больше возбуждало. Я сорвал шорты с ее дрожащих ног.
О боже! Сейчас-скорей-скорей! Кровь щекотала.
Она вырвала голову и закричала, когда я уже погрузился в вялое блаженство. Разозлившись, я схватил ее за тонкую шейку и колотил головой о цементный пол, пока из раскроенного черепа не потекла кровь и мозги.
Я провалился в сон там же, даже не двигаясь с места. Я так и не слышал стук в дверь.
КАРЛО:
– Вон он! – Рикки показал вниз.
Я проследил за его пальцем. Под движущимся тротуаром виднелся теплый неподвижный силуэт.
– Здесь можно спуститься?
– Он же спустился – а он при этом под кайфом от какой-нибудь «дурной пыли», иначе бы его там не было.
Вокруг – никого; почти двенадцать ночи, все либо дома, либо все еще в каком-нибудь клубаре. Мы часами рыскали по улицам в поисках, чем бы разнообразить ночь.
У нас получилось, перехват за перехватом. Вообще-то эти штуки под напряжением, но мы уже наловчились избегать контакта.
Рикки достал свою атом-вспышку. Это оказался старпер – судя по виду, уже второй век стукнул – и совершенно отключенный от мира. В его-то возрасте должен бы соображать. Он заслужил, что мы с ним сделали.
А мы чего только не делали. Тут-то он сразу проснулся и заверещал, но я это исправил – ногой-то в рожу, как тут не замолчать. Вы бы его видели, когда мы его раздели, – противные седые волосы на груди, ребра так и просвечивают, но брюхо свешивается и сморщенное там, где мы начали резать. Просто отвратительно; мы его хорошенько пометили. Он наверняка нас видел, поэтому я выдавил ему глаза. И припечатал ботинком по горлу, чтобы затих, а потом мы еще обшарили карманы – после покупки «дурости» у него мало что осталось, но мы прихватили его кредитные коды на случай, если разберемся, как их ввести и при этом не попасться, – бросили его и полезли обратно.
Еще и до середины не добрались, как услышали над головой хренов кополет.
МИРИАМНИ:
– Совсем крыша поехала, – рявкнул он мне. – Ты какого хрена возомнила? Что, раз я женился на тебе по каким-то древним обычаям, ты можешь мной командовать?
Я и слова не могла вымолвить от слез.
– Ты можешь хотя бы немножко подумать обо мне? – выдавила я. – Я же все-таки отказалась от других мужчин ради тебя.
– Я не твоя собственность. Тебя послушать – ты будто из каких-то Темных веков. Когда я хочу тебя, а ты – меня, то оке. Но в остальное время мы оба свободны. И вообще-то это другие мужчины отказались от тебя, нет?
Это и стало последней каплей. Я сунула руку за видеостену, где прятала старомодный лазер, который мне в детстве подарил дедушка – еще действующий, и он учил им пользоваться, – и ответила сполна. Пшш-пшш, прям в лживую пасть.
Не могла остановиться, пока не разрядила лазер. И тогда, видимо, умфнулась. Следующее, что я помню, – что первым дверь открыл своим принт-ключом мой сын Джон, и мы оба еще лежали на полу, но живая – только я. Ох, будь проклят Джон с его дипломом по гуманизму и чувством гражданского долга!
РИЧИ БИ:
Совершенно несвоевовремя! Всего лишь какой-то жалкий внезем, а я всего лишь развлекался. На дворе все-таки 2083-й, новые правила объявили уже два года назад, внеземы должны бы знать свое место и не лезть куда не следует. На игропарке висела табличка: «Только для людей», но вот, пожалуйста, этот стоит у будки, где я ждал на свидание Марту. С рекордером в лапе, так что, видимо, турист, но им надо соображать, что к чему, прежде чем билеты покупать. Если меня спросите, нечего их вообще на Землю пускать.
И вместо того чтоб сбежать, ему хватило наглости заговорить со мной.
– Можете подсказать… – начал он своим дурацким хрипящим голоском с отвратительным акцентом.
Я пришел раньше времени, вот и решил узнать, что будет дальше.
– Дя-ао-о, могу подсказать, – передразнил я его. – Что я могу подсказать, так это что у тебя, на мой вкус, многовато пальцев на передних лапах.
Он остолбенел с таким дурацким видом, что я еле удержался от смеха. Огляделся – а будки там уединенные и никого рядом не было, я видел до самой гелипарковки, и Марта еще не показалась. Я достал из-под своего балахона приколюху, которую всегда ношу с собой для самозащиты.
– И я ненавижу хватательные хвосты, – прибавил я. – Ненавижу, но коллекционирую. Давай сюда свой.
Я наклонился, схватил и стал пилить у основания.
Вот тогда он завопил и пытался сбежать, но я держал крепко. Сначала я хотел его только припугнуть, но теперь он меня разозлил. А от фиолетовой крови стало противно, и я разозлился еще больше. Я следил, чтобы он меня не ударил, но он просто взял и шлепнулся без сознания. Хотя, черт, с этими внеземами и не разберешь – может, это была она.
Я отчекрыжил хвост, стряхнул кровь и уже думал врезать ему – этому – за ухом и спрятать в кустах, как тут кого-то услышал. Я думал, это Марта, она никогда не против дать пинка, и я позвал:
– Эй, сахарная моя, смотри, какой у меня для тебя сувенир!
Но это оказалась не Марта. Это оказался скользкий шпик из планетарных федералов.
БРЭТМОР:
Снова проголодался. Я сильный, энергичный человек; мне нужна настоящая еда. Эти дураки правда думают, что я буду вечно жить на нейросинтетиках и предпереваренках? Если я хочу есть, я ем.
И в этот раз мне повезло. На мое объявление слетаются всегда, но не всегда те, кто мне нужен; тогда приходится их отпускать и ждать дальше. Правильный возраст – сочные и нежненькие, но и не слишком молодые. Будут слишком молодыми – и уже нет мясца на костях.
Я методичен; я веду записи. Это была номер 78. За четыре года с тех пор, как меня озарило вывесить объявление в общественном коммунитейпе: «Ищу: партнер для танцев, мужчина или женщина, возраст: 16–23». Потому что если они правда танцоры, то чем старше, тем жестче мышцы.
При двадцатичасовой неделе каждый второй компьютермен и служебный стажер привержен какому-нибудь культу Досуга, и я догадался, что многие хотят быть профессиональными танцорами. Я же не говорил, что я выступаю на тридимене, сенсалайве или в клубарах, но где еще мне быть?
– Сколько вам лет? Где учились? Как долго? Что умеете? Я включу музыку, а вы покажете.
Долго показывать им не приходится – достаточно, чтобы я смерил их взглядом. У меня даже настоящий офис, причем не иначе как на 270-м этаже Высотки. Очень респектабельно. Мое имя – или то имя, которым я пользуюсь, – на двери. «Шоу-бизнес».
Подходящим я говорю:
– Оке. Теперь едем в мой тренировочный зал, посмотрим, как у нас получится вместе.
Мы вместе коптим – но на самом деле ко мне в логово. Иногда они начинают нервничать, но я их успокаиваю. Если не получается, сажусь в ближайшем порту и просто говорю: «На выход, брат или сестра, кто ты там есть. Я не могу работать с тем, кто мне не доверяет».
Уже дважды ко мне в офис заваливались копы по жалобе какого-то дурня, но я с этим разобрался. Я бы не писал в объявлении про танцы, если бы не имел репутации. Вы наверняка меня знали – я целых двадцать лет был профи.
О тех, кто пропадает, никто не волнуется. Обычно они никого не предупреждают, куда идут. Если бы предупреждали и ко мне возникли бы вопросы, я бы просто ответил, что они не приходили, и попробуй тут докажи.
И вот мой номер 78. Девушка, девятнадцать, милая и пухленькая, но еще не мускулистая.
Если получается добраться домой, дальше уже просто.
– Переодевайся, сестра, и идем в зал. Раздевалка – там.
В раздевалку, когда я нажимаю кнопку, подается газ. Надо подождать минут шесть. А потом – в мою специально оборудованную кухню. Одежду – в мусоросжигатель. Металл и стекло – в измельчитель и растворитель. Контактные линзы, украшения, деньги – избавляюсь от всего: я не вор. А потом, хорошенько смазав и приправив, – в духовку.
Подержать там где-то полчасика, как мне нравится. После ужина, пока я буду прибираться, измельчитель позаботится о костях и зубах. (А однажды, верите – нет, и о камнях из почек.) Я вызываю пару напитков для аппетита, достаю вилку с ножом – настоящий антиквариат, стоили целое состояние: со времен, когда люди еще ели настоящее мясо.
Насыщенное, с дымком, коричневое снаружи, так и сочится. Желудок рокочет от удовольствия. Я с удовольствием впиваюсь.
А-ах! Что еще за… что с ней не так? Наверняка из какой-нибудь безумных подростковых банд, обожающих отравы! Меня насквозь прострелила ужасная боль. Я сложился пополам. Не помню, чтобы кричал, но позже мне говорили, что меня услышали с шоссе, и наконец кто-то вломился и обнаружил меня.
Меня доставили в больницу, пришлось заменять полжелудка.
И конечно, обнаружили и ее.
– Чрезвычайно интересно, – произнес приглашенный криминолог из Африканского союза. Вместе с директором тюрьмы, в кабинете директора, он смотрел на широком экране, как технари вынимают мозговые зонды и в окружении робоохраны уводят четырех мужчин и женщину – или последняя тоже женщина? не разберешь, – в кабинки для отдыха, пошатывающихся и оцепенелых. – Хотите сказать, это происходит каждый день?
– Каждый день их срока. У большинства из них пожизненное заключение.
– И так со всеми заключенными? Или только с уголовниками?
Директор рассмеялся.
– Даже не со всеми уголовниками, – ответил он. – Только с теми, кто совершил так называемое убийство, изнасилование или членовредительство первого класса. Не рекомендуется давать профессиональному грабителю ежедневно переживать его последнее ограбление: он только запомнит свои ошибки и лучше подготовится к следующему, когда выйдет!
– И это служит сдерживающим фактором?
– Не служило бы, мы бы не пользовались. У нас в Межамериканском союзе, как вы знаете, существует запрет на «жестокие и необычные наказания». Но в этом ничего необычного уже нет, и Верховный и Апелляционный суды Земных регионов постановили, что это не жестокость. Это терапия.
– Я имею в виду, останавливает ли это потенциальных преступников на свободе.
– Могу только сказать, что в каждой средней школе Союза есть курс по элементарной пенологии, с десятками просмотров данной процедуры. Мы широко известны. У меня часто брали интервью. И из двух тысяч заключенных этого заведения – а оно среднего размера – данной процедуре подвергаются только эти пятеро. С тех пор как мы начали, уровень убийств в Союзе упал с самого высокого до самого низкого на Земле.
– Ах да, это мне, конечно же, известно. Поэтому меня и направили на ознакомление, чтобы определить, стоит ли перенять эту процедуру и нам. Насколько я понимаю, я лишь один из вереницы гостей.
– Все верно, – ответил директор. – Сейчас об этом подумывает Восточно-Азиатский Союз, да и несколько других Союзов надеются это узаконить.
– Но если взглянуть на фактор сдерживания с другой стороны: как это влияет на них самих? К чему это приводит? Мне известно, что в данный момент они не могут совершать преступления, но каков психологический эффект?
– Принцип описал Лахим Мэлли, наш известный пенолог…
– Разумеется. Один из величайших.
– Вот и мы так считаем. Эту идею ему подарила очень простая и банальная народная история. В прежние времена, когда магазины находились в частной собственности и люди работали в них за зарплату, существовал такой обычай: там, где продавались кондитерские изделия и прочие деликатесы, которые особенно нравятся детям, – а также, если не ошибаюсь, в пивоварнях и винодельнях, – новым работникам разрешалось пить и есть сколько хочется. Оказалось, уже скоро им надоедало, а потом даже набивало оскомину именно то, что они так жаждали, – и, понятно, в перспективе это экономило немало денег.
И Мэлли осенило: если гнусный преступник будет постоянно переживать эпизод, который привел к тюремному заключению, – если, так сказать, каждый день его закармливать, – то этот непрерывный повтор окажет схожий эффект. А поскольку мы научились безболезненно активировать с помощью электродов любую область мозга, эксперимент был осуществим. И впервые его осуществили в нашей тюрьме.
– И это действительно работает?
– Сначала самые отъявленные – как, например, массовый каннибал, которого вы видели, или педофил, – даже наслаждаются своими преступлениями. Люди с более высокой моралью боятся с самого начала. Но даже самые худшие – у этих двоих срок только начался – постепенно испытывают скуку, потом насыщение, а в конце концов, со временем, полностью отчуждаются от прежних порывов. А кое-кто ужасно раскаивается: у меня и прожженные преступники падали на колени и умоляли разрешить им все забыть. Но я, разумеется, не могу.
– А после окончания срока? Ведь, полагаю, у вас, как и в нашем Союзе, пожизненное на самом деле длится не больше пятнадцати лет.
– У нас – около двенадцати, при нашей-то средней продолжительности жизни. Но кое-кого – например, тот последний случай – нельзя выпускать на свободу никогда. Они смиряются в конце концов. Ведь, не считая ежедневной процедуры, здесь не так уж плохо. Им комфортно, есть все возможности для досуга и образования, когда допустимо – мы организовываем супружеские визиты, и многие даже ведут успешную карьеру, будто они на свободе.
– А как же те, кого освобождают? Кто-нибудь возвращался к преступной деятельности? У вас есть рецидивисты?
Директор смутился.
– Нет, никто из прошедших систему Мэлли не возвращался, – ответил он нехотя. – Но на самом деле я обязан сообщить, что в системе есть один небольшой недостаток.
До сих пор мы в принципе не могли никого выпустить по окончании срока. Всех до одного приходится ссылать в психическую лечебницу.
Африканский криминолог молчал. Потом обвел глазами кабинет. И впервые обратил внимание на бронированные стены, ударопрочное стекло, электронное оружие, наведенное на дверь и готовое вести огонь по нажатии на кнопку на столе директора.
Директор проследил за взглядом и смутился.
– Боюсь, я просто трушу, – начал оправдываться он. – Конечно, все подопытные содержатся под строжайшим наблюдением, а робоохранникам приказано вести огонь на поражение. Но я все вспоминаю своего предшественника, когда он с Лахимом Мэлли…
– Я, естественно, слышал, – прервал африканец, – что Мэлли внезапно скончался по время посещения этой тюрьмы. Насколько я понимаю, что-то с сердцем.
– Мой предшественник чуточку расслабился, – ответил директор с угрюмой улыбкой. – Он настолько доверял системе Мэлли, что даже не приставил к техникам робоохрану, не обыскивал субъектов на предмет заточек перед ежедневным повтором. Да и субъектов было больше – в тот день минимум четырнадцать человек. Поэтому, когда они, уже с подключенными электродами, пробились через техников и ворвались в кабинет…
О да, у Мэлли и правда было что-то с сердцем. Как и у моего предшественника. В обоих случаях – заточки.
Послесловие
Поскольку большая часть моей прозы – это короткие криминальные и детективные рассказы, вполне естественно, что та же тема привлекает меня и в фантастике. Конкретно это допущение пришло ни с того ни с сего, как и бывает почти со всей моей фантастикой. Люди совершают убийства в заряженном эмоциональном состоянии, даже если эта эмоция – просто исступленный поиск острых ощущений; а раз так, то какое наказание может быть хуже, чем бесконечное повторение преступления, чтобы довести либо до глубокого раскаяния, либо (что видится более вероятным, как я и показала) до полного нервного срыва.
Если допустить, что у человечества есть будущее и что мы нагоняем собственный технический прогресс социально и психологически, будущим криминологам может прийти в голову какой-нибудь подобный пенологический гамбит. Будет ли он сдерживать потенциальных преступников сильнее, чем сегодня вероятность смертной казни, – вопрос другой. И, несмотря на свое предупреждение, я вовсе не уверена, что высший судебный апелляционный суд Времени не признает такое наказание даже более жестоким, чем преступление.
«Игрушка для Джульетты»
Предисловие
Далее следует результат литературного опыления в чистейшей форме. Недавно один редактор сценариев из телесериала прайм-тайма, когда срочно потребовался сценарий, сел и написал его сам вместо того, чтобы дожидаться милости от графика и прихотей автора-фрилансера. Когда редактор закончил – за считаные дни до съемок, – он послал текст в юридический отдел студии. Чтобы одобрили имена и т. д. В тот же день ему в панике звонят из юротдела. Этот редактор, никакой не фантаст, почти сцена в сцену и слово в слово (включая название) скопировал известный фантастический рассказ. Когда ему об этом сказали, он побледнел и тут вспомнил, что действительно его читал – пятнадцать лет назад. У известного писателя, автора этой идеи, срочно приобрели права на экранизацию. Спешу добавить: лично я верю редактору, который клянется, что сознательно и не думал копировать рассказ. Верю, потому что такой вот подсознательный плагиат в литературном мире – это дело житейское. Неизбежно многое из того, что писатель читает в огромных количествах, откладывается хоть в каком-то виде – расплывчатых концепций, обрывков сцен, деталей из описаний – и еще проявится в его собственном творчестве: видоизмененным, преобразованным, но все еще будучи прямым влиянием чужого творчества. Это ни в коем случае не плагиат. Это один из ответов на вопрос, которым дурачки донимают авторов на коктейльных вечеринках: «Откуда вы берете идеи?»
Несколько месяцев назад Пол Андерсон мне писал, что закончил один рассказ и уже готов был рассылать его редакторам, как тут понял, что повторил тему рассказа с писательской конференции где-то месяц назад, где присутствовали мы оба. Он добавил, что сходство его рассказа с моим – самое отдаленное, но хотел все-таки предупредить, чтобы потом не возникло вопросов. Это риторическое письмо: я самовлюблен, но не до такой же степени, чтобы думать, будто у меня станет воровать сам Пол Андерсон. Похожий случай произошел, когда на Всемирной конвенции научной фантастики в прошлом году, в Кливленде, меня представили известному немецкому фэну Тому Шлюку. (Тома привезли как почетного гостя-фаната – эта традиция обмена существует в фэндоме при поддержке Трансатлантического фонда фанатов.) Первым делом после рукопожатия он вручил мне немецкую книжку в мягкой обложке. Я плохо понял, к чему этот подарок. Том открыл книгу – сборник рассказов лучшего немецкого фэна/профессионала Вальтера Эрнстинга (под псевдонимом). На форзаце говорилось: «Харлану Эллисону с благодарностью и комплиментами». Я все еще не понимал. Тогда Том открыл первый рассказ, Die Sonnenbombe[70]. Под названием говорилось: «Nach einer Idee von Harlan Ellison»[71]. Я озадачился. Так и не мог взять в толк. Свое имя-то я узнал – оно одинаково выглядит на всех языках, кроме русского, китайского, иврита и санскрита, – но читать я по-немецки не умею и, боюсь, просто стоял и хлопал глазами, как болван. Том объяснил, что фантастическое допущение моего рассказа 1957 года – «Бегство к звездам» (Run for the Stars
