Девушка с кувшином молока
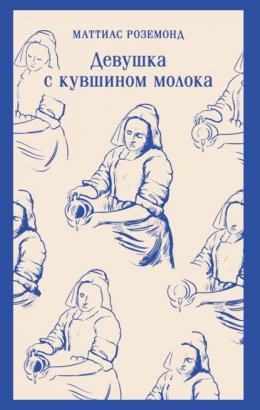
Matthias Rozemond
Melkmeisje
© 2023 by Matthias Rozemond
© Бабурова Г. Ю., перевод на русский язык, 2025
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Посвящается Рэйчел
Каждая истина проходит через три стадии: сначала ее высмеивают или вырывают из контекста, затем ей сопротивляются и, наконец, принимают как само собой разумеющееся.
Артур Шопенгауэр (1788–1860)
Пролог. Таннеке
Февраль 1657 года
Ледяной февральский день; рынок почти пустой.
Неудивительно, ведь на улицах белым-бело после прошлого снегопада, а потемневшее небо, похоже, готовится выдать новую порцию снега. Поднимаю воротник и, оскальзываясь, перехожу на другую сторону. Мне нужно набраться храбрости, чтобы зайти на постоялый двор – впервые в жизни.
Едва переступаю через порог, как кто-то вопит, чтобы закрыли уже наконец эту чертову дверь.
Внутри воздух сизый от дыма. Приглядевшись, вижу нескольких мужчин за игрой в кости. Две служанки разносят пиво от столика к столику. Мельком взглянув на меня, они сразу понимают, что я здесь чужая, и возвращаются к работе. Третья девушка как раз ставит кружки на стол. Один из игроков тянет ее за руку и усаживает себе на колени. Девчонка визжит. Вся компания разражается одобрительным ревом.
«Мехелен» – постоялый двор, где, судя по слухам, продают не только пиво и колбасу. Здесь можно купить и любовь – точнее, то, что за нее выдают, – и лотерейный билет. Если захочется, можно даже заглянуть в будущее: здесь погадают любым способом – хоть по ладони, хоть по запасливо прихваченной с собой бутылочке с мочой. В Делфте «Мехелен» известен каждому.
Я пришла посмотреть на картины – здесь и такое можно приобрести. Не сразу нахожу место, где они висят. Вон там, слева, за плотными рядами спин и плеч.
Неужели я вот-вот своими глазами увижу картину Яна? Смотри-ка, вот и Белый Медведь! Пес подходит меня обнюхать. Его так зовут – Белый Медведь, что, конечно, больше говорит о семействе Яна, чем о самом звере. Псина совершенно безобидная, разве что огромная, как медведь.
Парень за последним столиком чуть разворачивается, не отрывая взгляда от карт, и кладет ножищу в сапоге со шпорой на соседнюю табуретку, загораживая мне проход. Я подхожу вплотную. Только теперь он удосуживается поднять на меня глаза.
– Куда это ты так спешишь, красавица, к тому же совсем одна?
У кавалера лысая черепушка и обвислые красные щеки.
Неужели придется стерпеть такой гадкий тон? Вы только полюбуйтесь: едва пробило полдень, а эти дармоеды уже глаза залили. Играют и пьют вместо того, чтобы делом заняться, как все приличные люди.
Можно, конечно, сбросить его ногу и молча пройти мимо, только выпивоха – кстати, интересно, откуда он; по выговору вроде как с востока страны – продолжит в том же духе: потащится за мной, и хорошо, если один, а то и приятелей прихватит. Наверняка сочтет, что я его задираю.
Нет уж, у меня на обед всего полчаса, каждая минута на счету, так что лучше распорядиться ими с умом.
Сначала вежливо попрошу пропустить, а будет приставать – обойду кругом, да и все.
Сосед разговорчивого болвана вынимает трубку изо рта и выпускает облачко дыма.
– Герт! – Гляди-ка, у пьянчуги даже имя есть. – Ты ходить собираешься?
Иначе напарник грозит зачесть Герту проигрыш. Двое других встречают угрозу одобрительным гулом.
Лысый выпивоха задумчиво смотрит на три ромба и дощечку с мелом на столе, в конце концов откладывает карты и встает. Он выше меня на целую голову. Боже милостивый, как же от него несет потом и мочой!
Отвожу глаза в сторону и вежливо прошу меня пропустить. Вместо этого пьянчуга кладет голову мне на плечо и скороговоркой спрашивает, можно ли составить мне компанию и хватит ли мне гульдена. С трудом освобождаясь из его объятий, велю приберечь свой гульден и убрать от меня лапы, но Герт просто так не сдается.
Едва я поворачиваюсь, чтобы обойти столик, он хватает меня за накидку и тянет к себе. Трое других наблюдают, не вмешиваясь. Даже Белый Медведь не залает!
Герт смотрит на меня пустым взглядом и ухмыляется, словно ему самому любопытно, чем дело кончится.
Вокруг стихают разговоры. Эх, а до картин оставалась всего пара шагов!
Герт называет меня злюкой. Что ж, это он правильно угадал. К щекам приливает кровь. Ладно, сам напросился. Подступаю ближе и, не отводя взгляда, прошу пропустить меня по-хорошему.
– Сдается мне, ты с Белым Медведем еще не познакомился? Стоит мне закричать, – а я закричу, будь уверен, – он на тебя набросится, сам рад не будешь!
– С каким еще Медведем? Ты про псину, что ли? – Герт недоверчиво косится на пса.
– Это не просто собака, а волкопес! Спорим, через четверть часа тебя отсюда вынесут?
Пьянчуга неловко усмехается.
– Да ну?
– Мишка, подтверди! – Оборачиваюсь к псу, который с озадаченным видом садится на задние лапы. До чего здоровенная все-таки животина!
Приятели Герта хихикают и подталкивают друг друга локтями. Тот в раздумьях гладит трехдневную щетину.
– Ты меня, что ли, псиной стращаешь?
Я упираю руки в бока.
– Глянь-ка, твои приятели будут рады-радешеньки, если тебя наконец-то проучат, а ты сейчас просто по краю ходишь!
Пьянчуга озирается на свой столик, его пыл заметно поугас.
– Оставь девчонку в покое, – ворчит один из игроков. – Давай лучше сыграем еще партеечку!
Герт, хохотнув, переводит взгляд со своих собутыльников на меня, а затем на пса, прикидывая шансы.
– Ладно, дамочка, меня тут друзья заждались…
Остальные оправдания тонут во взрыве хохота.
С облегчением пробираюсь дальше. Первое препятствие пройдено, но картины от меня по-прежнему заслоняет ряд спин и плеч.
Приходится почти кричать, чтобы меня пропустили, однако мой голос теряется за кошачьим визгом волынки. Эти ребята меня не замечают. Приподнимаюсь на цыпочки – не помогает, осторожно хлопаю одного из зрителей по плечу. Ко мне оборачивается удивленная физиономия с перебитым носом, к тому же зубов во рту не хватает.
– Пропустите девицу! – ревет он.
Остальные расступаются. Надо же, помогло!
Просачиваюсь между парнями. Одно хорошо: в этом гвалте никто меня не узнает. А я-то еле втиснулась в одежду матушки и платок под чепец повязала! Можно было и не утруждаться.
Здесь еще больше несет пивом и мужским потом.
И вот я стою перед полотном. Господь милосердный, до чего же огромная картина! Когда Ян только успел? Обычно он зимой почти не пишет, а тут умудрился окончить такую громадину! Сколько же месяцев он просидел в мастерской наверху, после того как теща запретила ему показываться на пороге?
Увы, слухи оказались правдивы. Ян и вправду написал сцену из жизни борделя: справа продажная девица с клиентом, слева – сводня.
Зрители позади меня единодушны:
– Совсем стыд потерял!
– Грязный католический ублюдок!
– Никакой морали, куда мир катится!
Самое ужасное, что они правы. Неужели Ян окончательно спятил?
Картину повесили только позавчера, а слухи о ней уже расползлись по всему городу. Мне нужно было посмотреть на нее своими глазами и убедиться, что дельфтские сплетники, как обычно, не раздувают из мухи слона. Увы, на этот раз Ян действительно навлек позор на свою голову.
Кстати, он и себя изобразить не погнушался: вон там, в левой части картины, в камзоле с разрезами на рукавах. Ни дать ни взять итальянский трубадур, что кочует из города в город. Ошибки быть не может, его лицо слегка скрыто в тени, но это Ян собственной персоной – его нетрудно узнать по кривой ухмылочке и длинным кудрям. И как же он себя изобразил? Поднимающим тост за счастливую парочку, ни больше ни меньше. Меня толкают сзади, на накидку льется пиво. Нет уж, я с места не сдвинусь, хочу разглядеть все как следует!
Отчасти я пришла сюда именно за этим. Вторая причина прячется в потемках и носа не высовывает. Я смотрю на то, чего не хочу видеть.
Сводня, обряженная в черное платье, не нарадуется монете, которую клиент сует своей девице. Второй рукой развратник хватает девушку за грудь. Господи, уж это совсем ни в какие ворота! Бедняжка стоит красная, словно рак.
Чуяло мое сердце! Неужели это правда она?
1. Ян
Сентябрь 1657 года
Кат совсем рядом – напротив, через дорогу от рынка, в девяноста двух шагах или полутора минутах ходьбы. Стоит взгляду скользнуть поверх липовых крон мимо фасада Новой церкви – и вот он, тот самый дом. Чердачное окошко приоткрыто. Мы могли бы помахать друг другу.
Примерно в это время малышку Элизабет кормят кашей. Марии достается пара кусочков яблока, которое Кат чистит ножом, пытаясь снять кожуру одной длинной лентой. В случае удачи Мария радостно хлопает в ладошки, но получается довольно редко, потому что Кат действует неторопливо и старается срезать кожуру потоньше. Мария с набитым ртом спрашивает обо мне, а Кат в надежде, что расспросы прекратятся, спокойно отвечает, что я обязательно сегодня к ним загляну. Марии всего три, но она умеет видеть правду в почти прозрачных глазах матери. Девочка снова и снова задает один и тот же вопрос: «Почему я сплю на дворе?» – так она называет постоялый двор.
Кат нарочито беззаботным тоном отвечает, что маме с папой надо поговорить и обсудить их будущее, а пока что еще ничего не известно. Это слишком сложно для Марии, и она поворачивается к новорожденной сестренке – пощекотать и развлечь погремушкой.
Может, она задаст матери последний вопрос, «рисоваю» ли я. «Художник» для нее слишком трудное слово. На это Кат велит Марии доедать поскорее, если той и правда хочется на улицу, а затем вытрет ей пальчики – один за одним. Элизабет приходится умывать как следует, малышка вечно перемазывается кашей до самой макушки.
Кстати, я вовсе не «рисоваю». Сижу себе и смотрю в окно, точнее, на тонкую паутинку в оконной раме, в которую только что угодила муха. Ох, бедняга! Никак тебе не выбраться? А куда же ты смотрела, неужели не заметила паутину такими-то огромными глазищами? Что я тебе скажу, ее-то специально для тебя плели. Лучше не дергайся, а то паук тебя обнаружит… А вот и он. Пока паук делает свое дело – подбирается, впрыскивает яд, опутывает новой нитью, – я не свожу с мухи глаз в глупой надежде, что та сумеет выбраться и улетит, а я с облегчением помашу ей на прощанье.
Я же католик, мне полагается верить в чудеса. Разве люди созданы для того, чтобы мириться с суровой реальностью, с горькими уроками, в которых последнее слово остается за злом? Ведь это полное порабощение души! Нет, люди хотят взлететь ввысь, освободиться от оков, им просто необходимо чудо. И мне тоже, иначе не выжить. Мне всегда претила холодная расчетливость протестантизма. Впрочем, оставим религиозные распри в стороне, они мне уже поперек горла.
Тем временем муха превратилась в толстенький белый кокон. Бедняга свое отлетала.
Ну так вперед, Ян! Скоро набежит очередное облачко, и ты получишь свое матовое сияние. Ты же подошел прикинуть, чтобы на скатерть попадало больше света, – так можно будет сделать весь портрет на тон светлее. Если дурака валять, точно ничего не добьешься.
Кат вечно твердит, что у меня не все дома, потому что я говорю со всем на свете: с картинами, с Белым Мишкой, с облаками и с самим собой. Но стоит мне попытаться молча сосредоточиться на ее портрете, как она сама начинает болтать без умолку – сыплет вопросами и скачет с одного на другое, так что я выхожу из себя. Тогда я начинаю напевать, и Кат обижается. Ох, что у нее с лицом делается, с него мигом вся краска сходит. Смотреть невыносимо, хотя я сам тому причиной. Ей не понять, что мне нужно сосредоточиться на картине. Именно так я выражаю свою любовь, только так у меня получится что-то стоящее.
Встаю за мольберт. Солнечные лучи падают в комнату сквозь занавески. Пылинки кружат в косых лучах света. Знаю, мастерская с окнами на юг – сплошное безумие, пришлось завесить два окна из трех.
В один прекрасный день весь Делфт признает мой талант. Вот тогда заведу себе мастерскую с окнами на север, накуплю дорогих красок и кистей, и мой поединок со светом продолжится. Мы еще поглядим, кто кого.
Давай, Ян, пошевеливайся! Сделай шажок к своей цели. Смотри, белый кувшин и ее воротничок красиво отражают свет. Может, сделать фрукт рядом с кувшином чуть поярче?
Нет, тогда свет будет бить ей прямо в лицо, и она проснется. Оставь как есть. Пусть хотя бы нарисованная Кат вволю выспится.
А я буду мечтать о том, как настоящая Кат однажды станет счастлива.
2. Таннеке
Неважно, что я зареклась переступать порог этого вертепа, – у хозяйки оказалось другое мнение на этот счет. Глубоко вдыхаю и отворяю дверь черного хода, ведущего на постоялый двор. Глаза постепенно привыкают к едкому дыму. Шагаю прямиком к прилавку, за которым женщина в кожаном переднике вытирает посуду. Это мать Яна. Худобу он унаследовал от нее. Седые кудри торчат из-под чепца во все стороны, вид у нее усталый и издерганный, словно говорит о том, что она жизнь по-другому себе представляла. Заметив пятнышко, старуха поплевывает на оловянную кружку. Здесь, на постоялом дворе, порядки иные, чем у нас дома, да и во всем остальном городе.
Заметив меня, женщина коротко кивает в сторону лестницы и отворачивается. Мне самой следует догадаться, кем она больше недовольна – собственным сыном или мной. Кто-то из гостей отпускает шуточку. Хозяйка делано смеется.
Если Ян не разливает пиво за баром, значит, сидит наверху за холстом. Пробираюсь мимо здоровенного бочонка с вином и клетки с попугаем. Бедняга, тебе день-деньской приходится торчать на этой жердочке?
Стучу в дверь студии и вхожу, не дожидаясь ответа, – в этом гвалте разве что-то услышишь?
Ян удивленно оглядывается на меня, откладывает кисть в сторону и вынимает из ушей затычки.
– Таннеке, ты что здесь делаешь?
– Простите за беспокойство, я принесла письмо от хозяйки.
– Письмо? Давай скорей сюда!
Подаю письмо, отступаю на шаг и вижу отправительницу собственной персоной – на холсте. Так и знала, что он пишет ее портрет. Работа еще не окончена: на портрете хозяйка задремала в неудобной позе, словно очень устала бесконечно сидеть и позировать, а может, и от самого художника, их брака и тех хлопот, что он принес. Стоит человеку посидеть без дела, он начинает задумываться, а это вредно. Именно по этой причине надеюсь, что никому и никогда не придет в голову заставить меня сидеть смирно.
Не знаю, как ему это удается, но у хозяйки во сне такое беспечное лицо, словно ей снится беззаботная жизнь.
Люди поумнее меня говорят, что у Яна есть талант. Я не раз это слышала своими ушами. Что ж, рисует он похоже, ничего не скажешь. Если это талант, спорить не стану.
Смотри-ка, на ней дорогие материнские жемчуга! Кому, как не мне, их узнать, ведь я служу у Марии Тинс без малого шесть лет. Этим летом Мария вручила драгоценности Катарине авансом в счет наследства вместе с льняными простынями, столовым серебром, кольцами, браслетами и позолоченными цепочками.
Только Катарина не любит наряжаться и редко надевает украшения. Однако, гляжу, согласилась, чтобы угодить Яну. Матери ее, похоже, невдомек, она ведь сюда носа не кажет. А не помешало бы, особенно прошлой зимой. Уж она живо положила бы конец тому безобразию, на которое столько сил было угрохано. Теперь вот еще одно досадное недоразумение.
Да уж, как только до Марии Тинс дойдут слухи, что ее дочь во второй раз послужит развлечением для всякого сброда, ее кондрашка хватит. Хотя в этот раз все вполне невинно, и Катарина на портрете прехорошенькая, может, Марии это и польстит. Ха, как представлю, что она крадется сюда в чужих одеждах, прямо как я! Да только куда ей, такой богопослушной, по дельфтским притонам таскаться? Чай, не в церковь ходить по воскресеньям.
Поистине, врагу не пожелаешь – так любить дочь и не осмелиться прийти полюбоваться на ее портрет. Тут еще вот какая закавыка: ей же молчать придется! А то ведь захочется, например, похвалить дочкину красу или жемчуга, это же получится, что она и Яна нахваливает. Не будет этого!
Более разных людей, чем зять и теща, не сыскать, но в Катарине они оба души не чают. Каждый тянет на свою сторону, и конца-края тому не видно.
Ян приходит ночевать на Ауде-Лангендайк только по субботам, но иногда отважно пробирается в дом и поздно вечером в другие дни. Мы ставим на окно в гостиной свечку – знак, что Мария Тинс уже легла. Он крадется в дом в одних чулках, а я закрываю ставни. Ох уж эти два голубка, и друг без друга не могут, и поладить не получается. Как будто эти тайные свидания – забористо, не спорю – им трудности разрешат. Нет уж, пусть лучше меня не втягивают, а то в прошлый раз устроились в кладовке рядом с кухней, вроде как я глухая как пень. Конечно, они там не просто за ручки держатся, дело молодое. Хорошо, что для меня эти забавы остались позади – уже восемь лет или около того, как мне не приходится делить постель с мужчиной. По мне, так и отлично. Хотя, если мне доводится услышать, как двое развлекаются, – я старалась не слушать, но как тут не услышать? – все равно на душе как-то тяжко становится. Я не завидую, еще чего не хватало! Мне и неловко было, в конце концов, это не для моих ушей, только любопытство все равно разбирало. В детстве меня всегда из дома выставляли… Ну, да ладно, хватит, заболталась.
Понятно, когда слов не хватает, приходится как-то по-другому договариваться.
Стоит нам после всей этой катавасии столкнуться с Катариной в коридоре – а такое случалось не раз и не два, – она как ни в чем не бывало делает вид, будто перекусить в кухню спускалась. Ну да, ну да, только вот почему-то ночной чепец не надела. Ян, конечно, к тому времени уже выбирался через заднюю дверь и выскакивал через ворота Моленпоорт.
Ох, ну и бардак же здесь! На столе грудятся камушки, стеклянные банки с разноцветными порошками, среди всего миска с грецкими орехами и какие-то булыжники, пестик и ступка, плитка белого мрамора с камнем для растирки. Слева оловянная тарелка, справа – флакончики и шпатели. Кто знает, для чего это все нужно.
Ага, кувшин из делфтского фарфора Ян написал на портрете Катарины, и этот винный бокал тоже!
Глаза снова устремляются к картине – она полнится тишиной, что удивительно, потому что мастерскую тихим местом не назовешь, шум сюда проникает отовсюду: снизу из трактира, да такой, что напрочь перекрывает рыночный гвалт. Звуки рынка слышны и у нас в доме, потому что там царит зловещая тишина. Стоит маленькой Марии пошуметь, бабушка велит ей вести себя потише. Девочка с радостью сидит со мной в кухне, там никто не запрещает стучать половником по крышкам кастрюль и можно полакомиться сладкой вишней.
В общем-то, он славно придумал. Портрет – отличный повод, чтобы раз за разом заманивать ее к себе в мастерскую на протяжении целых трех месяцев. Творческое решение. Если скучаешь по кому-то, приходится изворачиваться. Наверняка всякий раз звал ее под одним и тем же предлогом: можешь, пожалуйста, мне снова попозировать? Конечно, и пообниматься заодно, ну так что ж с того? Может, это и есть любовь? Я не особо разбираюсь. У них постоянно одно и то же: в прошлом мае Катарина вернулась в материнский дом, говоря, что сил у нее больше нет, хотя и полгода не прошло с того, как она с теми же словами на устах перебралась сюда, к Яну. Милые то бранятся, то тешатся, и так без конца.
Тем временем начинаю разбирать во всеобщем гвалте отдельные звуки. Прежде всего, унылое мяуканье волынки и прихлопы в такт. А что там наверху творится? Парень стонет так, словно что-то тяжелое на чердак тащит, да вот только еще и кровать при этом скрипит. Ага, теперь слышу и женские стоны, только не такие натуральные – явно по работе, а не по любви.
Ох, Ян, как же ты умудряешься здесь работать!
Он сам молча стоит с запиской в руке и провожает взглядом плывущие мимо беспокойные облака, словно ждет, что они позовут его с собой. Судя по его страдальческому лицу, ответа мне ждать не стоит.
Меня часто гоняют туда-сюда с записками, ведь я не умею читать. А мне оно и не надо, я и так знаю, что там написано. Утром, когда посуду мыла, слышала, как Катарина с матерью толковала. Она точно-точно останется жить вместе с дочками в материнском доме, поэтому ее вещи надо перевезти обратно, ведь на этом постоялом дворе счастья ей не видать. Мария Тинс слушала да помалкивала, только довольна была, что все вышло так, как она говорила.
«Они все плохо кончат, кто там обитает» – так и сказала, как отрезала, только гораздо позже, когда я уже посуду со стола после обеда убирала, а Катарина с девочками наверх ушла.
Мне понятно, почему Катарина решила написать письмо. Яну не очень-то по душе внезапные перемены, оглянуться не успеешь, как в воздухе табуретки летают.
Ну какое недовольное лицо! Нет, ему не позавидуешь, хотя надо отдать ему должное: посреди всего бардака, что здесь творится, он продолжает писать, хотя своими картинами вызывает только насмешки и ругань. Даже этот чудесный портрет вряд ли делу поможет.
Посмотрим еще недельку-две, и он закончит. Если покупатель не найдется, считай, на этом песенка Яна спета. А там и брак под угрозой, только никто в этом не виноват, кроме него самого.
С дурацкой улыбкой он складывает записку и прячет в коробочку с жемчугом. Как похоже на Яна, даже отказ он будет бережно хранить.
Он расправляет плечи и без эмоций смотрит на портрет.
– Как там девочки? – интересуется он и берется за палитру. На очереди скатерть, ее голубые квадратики.
– Нормально…
– Маму слушают?
– Вроде бы.
– Что там Мария, играет с волчком, который я подарил на день рождения?
– Ей еще трудно, не получается веревочку размотать, рановато для трех лет.
– Знаю-знаю, а когда не получается, она злится. Яблочко от яблони…
Выдавливаю из себя улыбку.
– Ждать ли ответа, хозяин?
Он качает головой.
– Просто скажи, что я с ней еще поговорю.
– Надеюсь, что вы на чем-нибудь порешите.
– Только в тот дом я не вернусь! Пусть даже не надеется меня подкупить!
Да уж, сказал как отрезал. Со мной-то чего спорить! От испуга пячусь назад. Значит, я верно угадала, что там написано.
– Может, будете почаще заходить…
– Да, но как же гостиница и портрет…
– Портрет почти готов. Очень красивый, если позволите высказаться…
– Спасибо, Таннеке. Понимаешь теперь, почему я ни за что не сдамся?! Когда-нибудь…
«Интересно, что „когда-нибудь“?» – раздумываю я, покинув мастерскую. Когда-нибудь он закончит портрет и выяснит, что в Делфте его работы не очень-то в цене. Пару десятков гульденов – вот и все, что он за него выручит, а сколько времени потрачено!
Если он сам откажется взглянуть правде в лицо, Катарина ему поможет, ей это все давно поперек горла.
Выскальзываю из постоялого двора через кухоньку. Ну и вонь здесь стоит! К уличной выгребной яме толпится длинная очередь.
3. Ян
Рассматриваю письмецо. Как же я люблю этот почерк с широкими петельками. Кругленькая «А», кругленькая «О», две «Т» под одной полоской, выписанные чернилами цвета индиго, всегда одними и теми же. Какое изящество! При чтении почти слышу, как скрипит гусиное перо, – даже мурашки по спине побежали. Что именно она пишет, в общем-то, неважно. Я этого ждал. Вот и хорошо, что она остается там. Это свидетельствует о решимости расставить все по местам, больше никаких недопониманий.
По всему видно, что Кат все решила. Фразы обдуманы и отточены. Она в жизни так не говорит! Обычно тараторит, словно боится навечно завязнуть в споре, но в этот раз хорошенько все обдумала.
Я до глубины души тронут тем, что она не стала заводить разговор, пока позировала, а дождалась, пока натурщица мне станет не нужна. В этом вся Кат. Теперь я смогу спокойно закончить работу. Она не злится – знает, что я все сделаю для нее, об этом все вокруг твердят.
Кат, я люблю тебя всем сердцем. Другой такой понимающей и верной жены во всем свете не сыщешь.
Можешь сидеть там под крылом у своей матери, сколько захочешь. Эта женщина все знает лучше всех, у нее на все готов ответ, от ее твердолобой праведности даже пастору не по себе. Теперь у меня есть настоящая ты, полностью моя – спокойная, далекая от всей этой суеты. Спи, моя красавица.
Как я смогу тебя кому-то продать? Что же я, совсем с ума сошел? Оставлю при себе свою спящую музу, тогда не придется останавливаться, если свет опять заупрямится или народ в кабаке совсем разойдется, – посмотрю на стену и успокоюсь. Мгновение, и на меня нисходит благодать, и живопись кажется детской игрой, ты возносишь меня к небывалым высотам.
Досадно, конечно. Если оставлю картину себе, если не продам задорого, весь Делфт запишет меня в неудачники. Может, они и правы… Нет уж, я не сдамся! Вы обо мне еще услышите.
Кат, ты простишь меня? Придется отдать тебя незнакомцу. Другого выхода нет, сама понимаешь, иначе другая Кат, что живет в двух шагах отсюда, расстроится.
Где бы ты ни была, я никогда тебя не забуду, потому что именно ты помогла все уладить. Если продам тебя по хорошей цене, то и следующие работы раскупят. Уж мы об этом позаботимся. Я знаю, я предчувствую! Делфт будет рукоплескать от восторга, уж господин Вермеер им покажет!
Спящая Кат молча внимает и соглашается.
Присаживаюсь еще немножко поболтать с двумя Кат, но вскоре устаю. Тем временем солнце скрывается за облаками, и матовый свет, который мне нужен, снова льется в окно. Что ж, теперь я могу двигаться дальше. Стоит немного оттенить скатерть, да и узор почетче сделать.
Едва погружаюсь в работу, как на лестнице слышатся шаги.
Дверь открывается, и в мастерскую вваливается парень, которого я никогда прежде внизу не видел. Он озирается по сторонам с таким удивленным видом, словно мне следует объясниться.
– Я тут Сьяан ищу, – выпаливает он, оглядев комнату. Шапка набекрень, приспущенные брюки, злобный взгляд – эти парни словно близнецы, похоть придает им сходство. Удивительно, как несимметричные и грубые черты мгновенно вызывают неприязнь.
Откладываю кисть и объясняю, что Сьяан, скорее всего, этажом выше. Мать научила меня никогда не грубить посетителям. «Янус, – так она меня называет, – запомни хорошенько: с каждого гульдена, потраченного ими там, наверху, пять центов идут к нам в карман. И вообще, чем больше мужчин принимает у себя Сьяан и ее подруги, тем больше выручка в трактире». С этим не поспоришь. Мать права. Пока я не заработал ни цента, все заботы на ней.
Выжимаю из себя улыбочку, и парень, закатив глаза, уходит прочь. Надеюсь, теперь он попадет по адресу. Может, мне и стоило бы запереться, но как представлю, что Кат стучит в запертую дверь с малышкой на руках, держа другую за руку, а я ничего не слышу, потому что заткнул уши… При одной мысли мурашки по коже бегут!
Топот на лестнице стих. Тот же самый голос, но приглушенный, теперь доносится сверху. Вынимаю затычки из ушей – мне интересно, о чем они там толкуют.
Говорит в основном Сьяан. Велит парню убираться с глаз долой, кричит, что видеть его не может после прошлого раза. Тот бубнит, что нечего делать из мухи слона. Она отсылает его поискать утешения в другом месте, раз хорошим манерам не выучился.
Громкий стук двери, поворот ключа в замке. Эти двое продолжают препираться через запертую дверь и поносят друг друга на чем свет стоит.
Вновь топот. Похоже, что парень уходит ни с чем. Качаю головой. Ну как вот работать в таких условиях!
Пойду лучше в окошко погляжу.
Смотри-ка, мясник с супружницей куда-то собрались: он опирается на тяжеленную палку, у нее на руке висит пустая корзина. Любопытно зачем? Пустая корзина гораздо интереснее, чем полная, потому как таит в себе кучу возможностей.
Они проходят мимо Мартенсоона, кривоногого старикашки, которого дети до сих пор дразнят гусиным гоготом, хотя с того дня, когда он в последний раз торговал гусями, прошли годы. Старик жмет плечами, словно забыл, по какому делу приплелся на рынок.
Здесь особенная жизнь со своими законами. С противоположной стороны рыночной площади – улица Ауде-Лангендайк, которая тонет в тени большого дома.
До свидания, Кат! Значит, ты не можешь больше жить в этом свинарнике. Вот что выдает твою чувствительную натуру. Ты из другого теста. К тому же на тебе забота о девочках. У вас в доме не живут продажные девицы, что правда, то правда, но найдешь ли ты там покой, которого ищешь? Целыми днями будешь слушать проповеди своей матушки, а если не повезет, то и Виллем заявится и весь дом на уши поставит. Матушка тут не слишком тебе поможет, скажем так.
Но я сделаю тебя счастливой, Кат. Однажды тебе воздастся за твое терпение, и ты станешь такой же беспечной, как и тогда, на льду, в зарослях камыша.
Помнишь, я был еще мальцом лет двенадцати, на целую голову ниже, чем ты сейчас? Я проковылял к берегу, чтобы присесть на вмерзший ствол и привязать конек покрепче. Ты сказала, что у меня ремешок порвался. Я, конечно, и сам это заметил. Ты велела мне постоять спокойно.
Давно уже ты мною не командовала, я даже соскучился. Может, и ты тоже? Тогда еще казалось, что ты рождена для счастья. Ты и сама в это верила, правда?
Ты присела передо мной на корточки и завязала крепкий узелок, соединяя два порванных конца. Поверх плаща ты обмотала красно-синий шарф, который очень тебе шел.
До сих пор чувствую, как крепко ты привязала конек. Я поблагодарил тебя. Белые облачка пара, вырывающиеся у тебя при дыхании, так мило оттеняли румяные щеки, совсем малиновые!
– Ты ведь из того семейства… Того самого? – В последний момент я не осмелился сказать «папских прихвостней».
– Да, из того семейства, где все умеют быстро бегать на коньках, – ответила ты и умчалась вперед, доказывая свои слова.
Я, конечно, пустился вдогонку. Старался изо всех сил, но не был и вполовину столь же искусным конькобежцем. На первом же резком повороте я потерял равновесие и замахал руками, словно мельница крыльями, при этом растеряв всю свою скорость. Ты уверенно неслась вперед, прижав руки к бокам, и ни разу не обернулась, будто давно забыла про меня.
Вдали виднелись башенки Райсвайка. Я понял, что влюблен. Ты заслужила мое уважение.
Тогда я, конечно, понятия не имел, что со мной произошло. Чувство было такое, словно я замерзал, а ты подарила мне теплоту. Я просто поддался тому чувству, не подозревая о его корнях.
Теперь я знаю, чем оно вызвано. Твоя голова покоится на плечах, вызывая в памяти античные бюсты. Античность прослеживается и в твоих чертах, идеально симметричных: прямой нос, легкий изгиб бровей, бледные губы, подчеркивающие легкую грусть во взгляде. С такой грустью в глазах вспоминают о былом счастье. Нет красоты без грусти и грусти без красоты.
Конечно, двенадцатилетний оболтус ничегошеньки об этом не знал. Жизнь не любит раньше времени раскрывать свои тайны. Ты стала воплощением изящества. Твоя красота не умозрительна, она реальна и обладает целительной силой.
Смущаешься, когда я так говорю?
Ох, у меня внутри сплошное беспокойство. Иногда я боюсь, что грудная клетка просто лопнет и оно вырвется наружу. Если что и может меня спасти, так это гармония, отраженная в небе на закате, в лебеди, замершей на воде, или в твоем задумчивом взгляде. Тогда я исполняюсь уверенностью, что для нас двоих еще настанут счастливые дни.
4. Таннеке
Долго не замечаю, что несусь в два раза быстрее обычного. Скорее прочь из этого вертепа на свежий воздух! Задираю голову вверх и дышу во всю грудь.
– Эй, с дороги!
Поспешно шарахаюсь в сторону от повозки, запряженной собаками.
– Смотри, куда прешь, гусыня!
Это Крин, торговец вафлями. Вечно расхваливает свой товар: мол, только что испекли, с пылу с жару, только до меня другая молва доходила.
Огрызаюсь, что мог бы и потише ехать, но больше себе под нос. Все равно Крин глух, как пень.
На башне Новой церкви бьют часы, заглушая привычный гомон, стук кузнечного молота и грохот лошадиных копыт по мостовой.
С одной стороны, мне стало легче, с другой – все-таки жаль Яна: живет так близко от своих любимых и целыми днями одиноко возится с красками в смутной надежде, что когда-нибудь получит воздаяние.
Как бы он ни хорохорился, все равно скоро пожалеет о своем зароке никогда больше не жить под одной крышей с Марией Тинс. Гордость не позволит ему взять свои слова назад после прошлогодней ссоры. Ладно, молчу, я же не знаю, что там у них вышло.
Может, однажды Ян пожалеет, что вообще женился на Катарине. Что ему стоило послушать людей, ведь ему говорили со всех сторон и в первую очередь его собственная семья! Они ведь протестанты. Ради женитьбы ему пришлось пожертвовать и верой, и положением в обществе. Стоила того эта дурацкая детская любовь?
Как-то раз мне довелось услышать, как они ссорились с отцом прямо на улице. То есть это папаша пробирал его почем зря, а Ян слушал с таким видом, будто ему все равно. К тому времени я уже год у Марии Тинс прослужила, так что живо смекнула, о чем разговор. Люди твердили, что Ян своим упрямством отца в могилу свел. Тяжело, конечно, признавать, да только так оно, скорее всего, и было.
Может, Ян до конца не понимал, от чего ему придется отказаться: порвать с семьей и прежним кругом, плясать под чужую дудку, на своей шкуре узнать, что значит быть изгоем. Ладно бы он еще с самого начала был католиком, а тут выходит, будто он предал свою веру. Да уж, сильнее досадить отцу было невозможно. Тот был упертым протестантом и с удовольствием засунул бы всех папских прихвостней из Делфта прямиком в адский котел. Стоило ему углядеть у кого крест на шее, так он плеваться начинал.
Да уж, папаша Яна был тот еще злобный упрямец! И самому же эта твердолобость боком вышла. Ян в пику ему к католикам и подался. Яблочко от яблони недалеко падает – Ян тоже упрямец, разве что не такой сердитый и желчный. Он сам никому своего мнения не навязывает и надеется на такое же отношение, но разве же люди с этим смирятся? Яну до всех этих религиозных распрей дела нет.
Ему уютнее всего в своей раковине, закрылся и делает вид, что весь этот сыр-бор его ни капли не задевает. Катарина все больше впадает в отчаяние, а он с невинным видом заводит свою любимую шарманку, мол, знать ничего не знаю. Ему все попреки как с гуся вода. Чужие ярость и печаль его не трогают. Если загнать его в угол, он промычит что-то насчет господней любви и станет уверять, что постарается. Только вот если спросить, как именно он постарается, – ответа не дождешься. От этого Катарина только сильнее горюет, а Мария Тинс бесится.
Однажды Ян решил, что только Катарина может сделать его счастливым. Разве Папа и весь сонм святых ему помешают? Религия для него все равно что сказки – в конце концов Господь, призываемый спасти и сохранить, у всех один. Хотя, конечно, не так уж ему и плевать, я не раз замечала, с каким обалделым видом он стоит во время мессы в иезуитской церкви.
После смерти супруга мать Яна храбро попыталась воспрепятствовать сговоренной свадьбе. Она появилась на пороге, чтобы поговорить с Катариной. Я-то, конечно, расслышала только обрывки разговора, доносившиеся из прихожей, но было ясно как день, что бедная женщина пришла предупредить Марию Тинс насчет собственного сына. Что тот всегда поступает, как ему вздумается, что он ленив, непредсказуем, не умеет ничего делать по хозяйству. Кажется, она еще твердила – хотя я лично такого не слышала, – что ему от Катарины нужны только деньги да связи ее матушки среди художников и галеристов. Вроде бы еще она добавила, что Яну вообще невдомек, что такое любовь.
Как можно так низко пасть, а еще мать называется? Понятно, она боялась, что в одиночку ей с ветхим трактиром не управиться, да только разве страх остаться одной и потрудиться чуть усердней, чем привыкла, – причина, чтобы очернять собственное дитя?
Когда люди у меня допытываются – а случается это чуть ли не каждый день, стоит мне подойти к мясному прилавку, – я отвечаю, что Ян попросту влюбился и потерял голову. Поясняю, что у него внутри все совсем не так устроено, как у нормальных людей. А если сплетники прохаживаются насчет деньжат, водящихся у Тинс, такие разговоры я мигом прекращаю. Буду стоять на своем: Яну до денег дела нет. Будь то иначе, уж он бы десять раз подумал, что писать на своих полотнах.
Кстати, те, кто намекает на корыстолюбие, пусть объяснят, почему он не остался писать свои картины в тишине и покое на Ауде-Лангендайк, а вернулся в «Мехелен».
Конечно, вовсе не потому, что он весь такой хороший, – меньше бы спорил с тещей, и не пришлось бы бежать из невыносимой обстановки. Да только такой поступок, по-моему, говорит о том, что Яна можно упрекнуть в чем угодно, но не в погоне за наживой и не в поисках легких путей.
Вот мы и добрались до понимания, отчего все беды в его жизни происходят: там, где другие сначала дно прощупают и дождутся попутного ветра, Ян очертя голову бросается в омут. Так вышло и с женитьбой, и с уходом из тещиного дома после знатного скандала, и прежде всего с той мерзкой картиной. Да уж, этот господин успел наломать дров – рассорился с половиной Делфта.
Все же, несмотря на все свои злоключения, он остается верен Катарине и пытается ее осчастливить на свой дурацкий лад: уж до того пытается услужить, что порою только раздражает. Если б это помогло, он бы и серенаду под окном спел, с него бы сталось. Тот портрет, конечно, о многом говорит – так и светится любовью. Ему, наверно, кажется, что все должны любить ее не меньше, чем он сам. К его чести стоит сказать, что в этот раз он не стал изображать рядом себя с почти бесстыдным обожанием преклоняющимся перед своей Делфтской мадонной.
Конечно, он ей верен, оно и понятно, ведь податься ему больше некуда. Только ей до него и есть дело. Только диву даешься, почему она-то с ним еще возится. Другая бы на ее месте уже давно отвернулась. Точнее, за себя говорю. Уж я бы ему такую оплеуху закатила и выпихнула прочь вместе со всеми его кистями, красками и мольбертами.
Смотрите-ка, а вот и наша малышка Мария! Присаживаюсь на корточки, и девочка подбегает ко мне обняться.
– Мы к папе пойдем?
Милая улыбка, очаровательные кудряшки. Ох, ты ж дорогая моя.
– Нет, непоседа, папе надо рисовать. Вечером сходим, хорошо?
– Он обещал, что мы покрутим волчок!
Малышка показывает мне четки, обмотанные вокруг запястья.
– Красиво, правда, Танки? Тебе тоже нравится?
Это она меня так называет, вместо Таннеке – Танки.
– Конечно. Мне бы тоже хотелось четки из красных кораллов!
А вот и Катарина.
– Ну что? – спрашивает.
Рассказываю, пока мы идем по мосточку к Ауде-Лангендайк, как встретила за стойкой его мать, потом поднялась наверх передать записку и видела ее портрет – очень красивый, – а он сказал, что попозже ответит. Об остальном, что он наговорил, умалчиваю.
Не успеваю досказать, как она засыпает меня вопросами, на которые у меня нет ответа. Откуда мне знать, что у Яна в голове творится, если ей самой это невдомек?
Катарина перехватывает поудобнее Элизабет, которую несет на руках, и смотрит в безлюдную даль.
Молча идем в дом.
Чуть позже, когда мы сидим за столом, она вздыхает:
– И как нам дальше быть, Тан? Я правда понятия не имею.
Воздерживаюсь от советов, потому что не хочу брать пример с ее матушки, иначе все закончится слезами и никчемной ссорой.
Катарина закрывает лицо руками и бормочет, что скоро сойдет с ума. Я достаю из буфета бутылочку бренди и плескаю в бокал на самое донышко. Она глотает и начинает кашлять. Постепенно кашель переходит во всхлипы.
Бессвязно она выпаливает все, что у нее на душе. Ян так замечательно играет с девочками, и никто не знает, какой он чудесный художник, пусть и не такой хороший, как господин Фабрициус или Терборх. В любом случае он достаточно искусен в своем ремесле, чтобы содержать семью, а пока ее матушка им поможет. Если бы он только побольше слушал других! Писал бы то, что нравится делфтским покупателям, а не то, что взбредет в голову. Если бы он только не был таким гордым, хоть кол на голове теши! Ему не помешала бы лишняя дырка в голове, через которую вошел бы разум, потому что уши со своей задачей явно не справляются!
Прикусываю язык, чтобы не заявить, что она слишком мягкотелая и слишком легко все прощает, просто обещаю, что все будет хорошо: Ян пробьется наверх, вот ведь портрет какой замечательный написал, и еще напишет. А ведь как похоже!
Катрина качает головой.
– Мы с Яном пропащие люди.
Я кладу руку ей на запястье.
– Послушайте, хозяйка, у людей память короткая. Небольшой скандалец им только по нраву. Мне тут недавно разъяснили, что им так проще себя чувствовать добрыми христианами. Пока они видят, что вы дергаетесь, будут досаждать, а если поймут, что вам все равно, сразу перестанут задирать, потому как все удовольствие пропадет.
– Я же вижу, как люди на меня оборачиваются, когда я мимо иду! – отчаянно восклицает она.
Наступает короткая тишина. Понятия не имею, кто там на нее оборачивается. Может, оно и так. Может, сказать, что она и сама оборачивается, все люди так делают… Нет, лучше не буду.
– Каждый имеет право на ошибку, и Ян тоже, – твердо говорю я.
Катарина снова качает головой.
– Сомневаюсь, что Делфт даст ему второй шанс.
Спрашиваю, не забыла ли она, почему его полюбила.
Катарина смотрит на меня с недоумением.
– Конечно, нет! Только когда влюблена, все в другом свете видишь. Он такой был неуклюжий на коньках, ужасно милый! Потом еще вино опрокинул… Ян из тех, кто о собственную тень спотыкается. А уж про живопись мог говорить без конца, все пытался мне объяснить, что такое комплементарные цвета. Ты знаешь, что это, Таннеке?
– Ком-леме-нарные? Нет, не знаю…
– Это такие цвета… – Она машет рукой, подыскивая слова. – Ну да ладно, неважно. Я к тому, что у него в голове каких только мыслей не бывает, а самому порой невдомек, что у него штаны прохудились! А все их семейство? А этот трактир? Вижу иногда, как он по улицам бродит и вечно шляпу забывает снять перед знатью! Бывает, застынет на месте и смотрит куда-то… Раз гляжу, а он перед стеной стоит, эскиз рисует: а там сплошные кирпичи и сорняки, крючки какие-то торчат… Вот что там рисовать-то? Я чуть сквозь землю не провалилась! И уж такой рассеянный, не удивлюсь, если он в следующий раз шляпу перед фонарным столбом снимет!
– Не такой уж он и рассеянный, вас же как-то разглядел.
– Сама диву даюсь! Что он во мне увидел?
– Он вами безмерно восхищается! Всем, что в вас есть.
Катарина мимолетом улыбается, но улыбка тотчас застывает на губах. Она вертит в руках пустой бокал.
– В том, что он не от мира сего, есть, конечно, и преимущество. Он никого не боится. Конечно, он сторонится парней вроде Виллема, но сильно они его не беспокоят, понимаешь? У него свой путь в жизни, а что другие об этом думают… Ему даже в голову не приходит из-за этого волноваться. Странно, он так раним и в то же время неуязвим, хотя и непонятно, как так получается. Ну да ладно, главное, что он не от мира сего, вот что я хочу сказать!
Киваю, наблюдая за ней: Катарина застыла, глядя вдаль, словно вспоминает что-то очень приятное.
– Ты знаешь, он стихи мне писал, показывал особые места в дюнах и на лугах. Представляешь, он определяет римскую ромашку по запаху и знает, где гнездятся чибисы. Каждую весну первое яичко всегда для меня! Когда-то он даже целый спектакль передо мной разыграл и сам исполнял все роли. Только представь себе, Тан, воплотил целых три персонажа! Вообще-то, он просто шапки менял… Впрочем, даже когда играл, оставался собой, другого он не умеет. Ладно, не суть важно. А тогда говорит он, значит, текст, а сам на меня исподтишка поглядывает, нравится мне или нет. Разве не мило? О чем там шла речь в этой пьесе, не спрашивай, я не следила.
Катарина переводит взгляд на меня.
– Я, наверно, сумбурно рассказываю…
Тут уж моя очередь улыбаться.
Катарина вздыхает:
– Обо мне в семье всегда так пеклись, мама всю жизнь считала меня маленькой и беспомощной. Так хорошо иногда сменить роль. Наконец-то я кому-то нужна. Может, я наконец-то нашла роль в собственной пьесе.
5. Катарина
Это, случаем, не господин Ван Рейвен там идет? Вижу его, пока стою в очереди у рыбного прилавка. Точно, он. Что же делать? Сначала купить рыбу или замолвить словечко за Яна? Либо рыбку съесть, либо на мель сесть…
Решаюсь на второе. Выскальзываю из очереди и нагоняю его у моста Вармусбрюг.
– Господин Ван Рейвен, надо же, какое совпадение! Как удачно, что я вас встретила. Можно с вами переговорить?
Он опускает трость на тротуар и изучает меня взглядом.
– Мне доводилась честь ранее быть вам представленным?
– Конечно, я супруга Яна! Яна Вермеера, художника! И дочь Марии Тинс.
– Ах да, конечно! Прошу меня извинить. Пожалуйста, не рассказывайте об этом недоразумении моей супруге, она вечно меня попрекает забывчивостью. Недавно я позабыл о дне рождения нашей дочери, а теперь вот и вас не узнал… Когда же я вас видел в последний раз?
Без сомнения, на картине Яна, однако не будем сейчас об этом.
– Знаете, я хотела у вас спросить… Мой муж сейчас… Как бы сказать?..
– Я понял! У вашего мужа сейчас полно неприятностей, которые, боюсь, он сам на себя и навлек.
Быстро оглядываюсь по сторонам, не подслушивает ли кто. Никому нет до нас дела, все поскорее спешат укрыться от надвигающейся бури.
– Он слегка вспыльчивый, и сейчас ему нужно…
– Поставить мозги на место. Надеюсь, вы сможете ему в этом помочь! – назидательно говорит господин Ван Рейвен.
– Я стараюсь как могу.
Он поглядывает на небо. Дольше тянуть нет смысла, надо переходить к делу.
– Помимо этого, ему бы не мешало и кое-какую работу получить. Побольше заказов! Иначе я и не знаю, как мы дальше будем.
Ветер усиливается. Мой собеседник придерживает шляпу за поля.
– Даже не знаю, чем я могу вам помочь. Я с ним уже разговаривал, просил, чтобы зашел ко мне, как только закончит новый портрет. Когда же это было? По-моему, в мае. Я знал, конечно, что он медленно работает, но чтобы до такой степени…
– Портрет почти готов, только Ян все еще не может с ним расстаться, все доделывает… Думаю, вы понимаете, о чем я.
– Приличный на этот раз?
– Да, он писал с меня, там я сижу у стола.
– Вот как? Любопытно будет посмотреть. – Впервые за весь разговор на его лице появляется легкая улыбка. – Поторопите его, пожалуйста. И пусть держит меня в курсе.
Господин Ван Рейвен приподнимает шляпу.
– Передавайте привет вашей матушке. Замечательная женщина, всегда это говорил!
Вымокнуть он явно не желает, поэтому спешит прочь в поисках убежища.
По улице Вайнстраат летят обломанные ветки. Дома, стоящие по другую сторону, отражаются в темной воде канала. Круги на поверхности воды говорят о том, что с неба срываются первые капли дождя.
Мне нужно подумать. Пройдусь еще кружок, прежде чем вернуться на рыбный рынок, все равно намокну. Как же так, почему Ян до сих пор не обратился к господину Ван Рейвену за работой? Может, стоило заговорить об авансе? Я забыла передать привет его супруге… В бесплодных размышлениях и беспокойствах я сильна. Меня, например, занимает такой вопрос: то ли я холодный человек, но милый с виду, как я сама считаю, то ли я – теплый человек, но с виду холодноватый, как думают другие. Моя мать, например, говорит, что я слишком строго о себе сужу.
Ах, как же людям меня понять, если я сама себя не понимаю? Другие охотно выходят наружу в солнечный день, а я отсиживаюсь дома. Если же на улице пустынно, как сейчас, мне гораздо спокойнее – меньше косых взглядов.
Плетусь по каменной мостовой, вглядываясь в блестящие камни. Возможно, сейчас я показала свою решительность, но на самом деле у меня вечно сомневающаяся натура. В те недели, пока Ян работал над групповым портретом, я полностью его поддерживала. Знала я о его планах? И да, и нет. Пикантные сцены хорошо продаются, так он утверждал. Замысел у него был колоссальный. Я была полностью на его стороне, даже когда поняла, что он поместил на портрет самого себя в роли наблюдателя. Ян столько рассуждал о том, что за тобой наблюдают, пока наблюдаешь ты сам, – вроде бы хотел донести до людей мысль, что им нужно критичнее смотреть на самих себя.
А что же с продажной девицей? Я, без сомнения, узнала в ней свои черты. Ян поначалу отнекивался, а потом повернул все так, будто тем самым сделал сцену гораздо интереснее. Переубедить его у меня не вышло. В конце концов я сдалась и позволила ему писать, как хочет. Я избегала заходить в его студию, делала вид, словно картины не существовало. Глупость, конечно. По сути, я просто спрятала голову в песок.
Дождь усиливается, так что я укрываюсь под портиком Старой церкви. Здесь же укрылись нищие: один безногий, второй, кажется, не в себе, а третий как-то уж очень внимательно рассматривает меня единственным глазом. Поспешно отворачиваюсь.
После взрыва на пороховом складе, случившегося три года назад, в городе много увечных. Нам повезло, что наш дом и мы сами уцелели. Протестантам, по крайней мере, разрешается просить милостыню. Вздумай католик протянуть руку за подаянием, его в два счета выставят из города.
В последний раз я стояла здесь с Яном. До сих пор помню, что в тот день мы первый раз прошлись, взявшись за руки. Я бы от такой прогулки воздержалась, но не могла дольше противиться его настойчивости, тем более я только что сказала, что он для меня – тот самый. Как он возгордился! Я тоже, конечно, и все же мне было не по себе. В тот день дождя ничто не предвещало, но, когда мы юркнули в один из портиков, нас заметили какие-то парни. Ничего хорошего от них ждать не приходилось.
Мы с Яном остановились.
Парни нас окружили, и один из них заявил таким оскорбленным тоном, как будто его лично это задело:
– Гляди-ка, наш петушок Янус гуляет с католической курочкой!
Ян не выпустил моей руки.
– Ты, значит, глаз на нее положил? – вступил другой, не оставаться же в стороне. – И что, уже поразвлекся?
– Нет, – честно ответил Ян.
Я не знала, куда и глаза девать.
– А тебе бы хотелось? Признавайся! Или стесняешься исповедаться в своих желаниях?
– Ему нельзя на исповедь, – заорал третий, – пока его святой водой не окропили! Тем более в таких важных желаниях!
– Сдается мне, я знаю, что делать, – обрадовался первый. – Водичка в делфтских каналах уж так хороша, все пивовары одобряют!
Они загалдели, перекрикивая друг друга.
– Покажешь ей, на что способен? – Самый здоровый из них схватил Яна за грудки.
– Можно мы просто пойдем по своим делам? – Ян старался говорить спокойно, но я услышала, что голос у него слегка дрогнул.
Я так перепугалась, чуть сердце не остановилось. Неужели ему придется с ними драться? Разве он управится с такими здоровяками!
Не успела я глазом моргнуть, как один из задир присел на корточки позади Яна и подтолкнул его под колени. Ужасно подло! Конечно, Ян не удержался на ногах и сильно расшибся. Я закричала, но они меня не слушали, ухватили его за руки и за ноги, вопя, что его надо окропить святой водой и отправить на исповедь.
Если бы не директор латинской школы, случайно проходивший мимо, – а кто-то из задир наверняка там учился, иначе бы они ни за что не послушали, – Яна точно искупали бы в канале. Задиры умчались, а Ян, весь красный от стыда, поднялся на ноги, нахлобучил шляпу и отряхнул песок со штанов. Мы оказались ровно на этом же месте, где я стою сейчас.
– Проводить тебя домой? – спросил он.
Я кивнула, но стоило нам зайти в католический квартал, сказала, что дальше дойду сама. Конечно, мы бродили здесь тысячу раз, но теперь я боялась, что история повторится и на этот раз презрением обольют меня.
Мы решили, что браться за руки будем только за городом.
Все, кажется, дождь закончился. Побегу я поскорее обратно на рынок, пока все покупатели разошлись, как раз успею быстро заказать к обеду селедку и скумбрию.
6. Ян
Люди называют меня упрямцем – это их право. Однако, поверь мне, все совсем наоборот. Я всего лишь добровольный раб красоты. Это моя пагубная страсть, моя радость и единственное право на существование, крест, на котором я распят. Если бы не стал художником, шатался бы без цели по миру или давно гнил под могильным камнем.
Не печалься, ведь я считаю себя избранным. Всего-то нужно перенести на холст ту красоту, которую видят глаза. Как эстету мне повезло жениться на самой красивой женщине Делфта, посему я имею право беззастенчиво любоваться ей, когда мне вздумается, – ее прекрасным телом от щиколоток до вишневых губ. Хотя нет, бери выше, ведь стоит ей снять свой чепец – на плечи льется водопад медовых локонов. Если бы можно было созерцать всю эту прелесть одному! Впрочем, это болезненная тема, не стану ее затрагивать.
Не говори, что я на тебе зациклился. Меня точно так же занимает и роса на паутинке, и лучи солнца в кронах деревьев, и свет, падающий в комнату через решетчатое окошко, и ржавые прутья забора, и неровная каменная кладка на фасаде, и кот-хвост-трубой, набросившийся на рыбные объедки, и задорный смех сиротки, жалкого, но в то же время счастливого, потому что занят любимым делом, и запах свежевыпеченного хлеба. Короче говоря, своей кистью мне хочется прикоснуться к самой жизни ровно так же, как свет касается каждой виноградинки на блюде.
Я благословлен.
Иногда стоит выглянуть в окно – и мир принадлежит мне. Дождь закончился, и в лужах отражаются серые краски неба. Через час от луж останется один блеск, а еще через час разве что бесцветные пятна на мостовой, и ни один смертный не обратит на них внимания. Люди понятия не имеют, что пропускают, – снова бегут по делам, прерванным непогодой, торопятся, один веселый, другой хмурый, как будто пытаются нагнать что-то очень важное. Вспомнят ли жители Делфта вечером, куда спешили утром? Цена, которую они платят, высока: торопыгам некогда наблюдать жизнь.
Наша, художников, задача – замедлить спешку, остановить время и увековечить мгновение.
Слышу, кто-то поднимается по лестнице. Походка у гостя не разболтанная, которую мне чаще всего доводится здесь слышать, а размеренная и достопочтенная. В такт шагам постукивает трость. Оборачиваюсь на скрип распахнувшейся двери.
– Господин Ван Рейвен! – удивленно восклицаю я. – Кто вас… В смысле проходите, пожалуйста!
– Благодарю, благодарю.
Без долгих разговоров он впивается взглядом в портрет Кат.
– Глядите-ка, господин Вермеер взял быка за рога!
Он подходит поближе и что-то неразборчиво бормочет себе в усы, подергивая их пальцами.
Пользуюсь возможностью за его спиной незаметно заправить в брюки рубашку, убрать со стола тарелку с хлебными крошками и быстро взглянуть на себя в зеркало: кудри стоят дыбом как никогда прежде, на мне нет ни воротничка, ни шляпы. Что ж, растрепанный вид может сыграть художнику на руку. Деятель искусства, как-никак.
– Я хотел напомнить, что ты обещал зайти ко мне с первой же новой работой. Сегодня мне выпала честь выступать в ратуше, вот и решил заодно и к тебе наведаться.
– Прошу меня простить, – отвешиваю полупоклон. – У меня было столько дел, и я хотел увериться…
– Много дел? Из окошка смотреть, не иначе? – Господин Ван Рейвен говорит всегда весело, со смешком. Его сдержанный оптимизм ненамеренно гармонирует с поросячьими глазками и румяными мясистыми щеками. Тому, кто дрейфует по жизни в таком виде и все же сохраняет бодрость духа, несомненно, покорятся все моря.
Ван Рейвен покачивается с пятки на носок перед мольбертом, сам не замечая, как сильно выпячивает живот.
– Ну что, готова твоя Катарина?
– Откуда вы… Вообще я хотел еще поработать со светом, отдать ему ведущую роль, только пока что не пойму, как это сделать…
– Помнится мне, ты еще летом начал. Когда мы там в последний раз виделись?
– Кажется, в июне… Да, точно. У вашего брата, нотариуса.
Ван Рейвен выпячивает нижнюю губу.
– Не хочу давать непрошеных советов, но тебе бы стоило поднять производительность и хотя бы со сменой сезона приниматься за что-то новое. Помнится, ты говорил, что тебе семью содержать надо.
– Я так и планирую. Между прочим, я принял ваш совет с глубокой благодарностью. Смотрите, свет падает сбоку и сзади, красиво подсвечивая ее воротник, не находите? Конечно, свет не может падать ей на лицо, иначе она проснется. Мне кажется, я сумел создать нужную атмосферу, хотя еще не уверен насчет баланса. Необходим последний акцент. А вот дверь позади Кат… То есть Катарины, моей супруги… Дверью я доволен. Помните, вы мне сказали, что моя предыдущая картина была слегка темновата?
– Бордельная сцена? Темновата – это еще полбеды, там дело посерьезнее.
Ох, вот теперь я задет за живое. Я-то думал, что говорю с истинным ценителем, который способен по-настоящему судить об искусстве. Раньше он хвалил меня за технику, за простоту композиции вместо того, чтобы выть вместе с волками о попранной морали. Лучше перевести тему, не хочу продолжать этот спор.
– Во всяком случае, в этой работе свет занимает все пространство.
– Я вижу улучшения, это бесспорно, но гордиться еще рано, молодой человек. – Ван Рейвен неодобрительно фыркает.
Съеденный хлеб камнем твердеет в моем животе, и все же я не отступаю:
– Вы же просили добавить света.
– Разумеется. Нет, работа довольно приличная, и техника на высоте. А уж стесняться красоты своей супруги тебе точно не стоит. Я тут на днях с ней словом перемолвился – очаровательное личико, глаз не отвести. И все-таки тебе еще есть над чем поработать. Ничего, если я так прямо говорю? – Ван Рейвен задумчиво хмурится. – По-моему, ты ее прямо здесь за этим столиком и писал, верно? Вот только стул…
– Стул и скатерть я втихаря позаимствовал у семейства Тинс, чтобы слегка придать лоску. У нас таких вещей не водится.
Господин Ван Рейвен снова жизнерадостно хмыкает и поворачивается ко мне.
– Я же о чем и говорю! Не проще было бы поставить свой мольберт там? Твоя теща без ума от искусства, и места на Ауде-Лангендайк достаточно, у них камин в каждой комнате. Из этого, извини за выражение, борделя мир не покорить. Меня тут одна дама нарочно подтолкнула, за клиента приняла, ха-ха! Нет, господин Вермеер, если серьезно относишься к делу, пакуй поскорее вещички. Или правду слухи говорят, что ты с госпожой Тинс повздорил?
– Нет, я не… Хорошо, я подумаю.
– Давай, давай. И в следующий раз пиши окно, поверь, вся работа сразу по-другому заиграет, а то на этом полотне как будто дышать нечем, и столько красного.
– Вы еще упоминали, что мне стоит оживить композицию.
– Гм, нет, здесь все красиво, покой и тишина. Оставь, в прошлый раз ты уж достаточно оживил.
Наливаю гостю бокал вина, он принимает его с благодарностью. А шляпу снять так и не удосужился.
– В прошлый раз вы сказали…
Он отступает своими короткими ножками на пару шагов назад, словно самому любопытно, что будет дальше.
– …что мне стоит попробовать написать вещицу в стиле господина Фабрициуса.
– Правда, я так сказал? Отличный совет! – Ван Рейвен охотно смеется собственной шутке. – Смотри только не пересоли. Напиши окошко, ускорь темп и добавь больше света. Ты же не хочешь, чтобы зритель оказался в какой-нибудь затхлой дыре вроде той, куда я ради тебя сейчас забрел? Ну да ладно, к чему это я веду? Напишешь для меня пару подобных портретов? Тем самым позабудем прошлые грешки, так сказать.
– За прошлую работу я получил пятнадцать гульденов.
Я тут же пожалел, что об этом сказал. Любой из делфтских художников отсоветовал бы мне заговаривать с господином Ван Рейвеном о деньгах, он этого не любит.
– Пятнадцать? Не слишком-то щедро.
Втихомолку с ним соглашаюсь.
Мой заказчик снова поворачивается к портрету.
– Да, картина очень приличная, определенно хочется побольше работ в таком духе. Если сделаешь, как я прошу, только в этот раз по-настоящему, и напишешь мне два похожих портрета месяцев, скажем, за восемь, то я готов заплатить тебе вперед. Человеку ведь надо на что-то жить, верно?
Даже не знаю, что на это ответить. Нужно ли поклониться или заговорить о сумме? Нет-нет, лучше не надо. Ох, я готов бегом бежать через площадь с радостной вестью: «Кат, у нас наконец-то появятся деньги!»
Не стой истуканом, пора заговорить. Отвечай спокойно, но с воодушевлением. Что же сказать?
– Что ж, могу согласиться с предложенными…
– И, разумеется, в синих тонах! – перебивает меня Ван Рейвен, сопровождая свои слова энергичным ударом трости. – Сдается мне, что синий сильно недооценивают, особенно в Амстердаме и Гарлеме. Утрехт в этом отношении ушел гораздо дальше. Настало время Делфта заявить о себе.
Синий! Легко сказать! Известно ли ему, сколько стоит лазурит? Ладно, может, проблема разрешится сама собой, дай ему назвать сумму. Спокойствие и терпение!
– От синего настроение улучшается. Посмотри сам! Весь этот красный только душит. Такое ощущение, что у твоей Катарины жар! Ее становится жаль, а твоя задача как художника – поднять зрителю настроение. Он должен чувствовать себя частью чего-то настоящего. Понимаешь, к чему я клоню?
Понимаю, еще бы. Как же я, идиот, сам не догадался об этом сказать.
– В глубине как таковой нет ничего плохого, особенно по сравнению с твоей предыдущей поделкой – там персонажи толпятся у зрителя прямо перед носом, – только здесь тоже все слишком ненатурально: открытая дверь, к примеру. Разве кто-то уснет на таком сквозняке? Ха-ха! Сделай тона прозрачнее, живее, используй меньше деталей, а то этот дом словно набит гадкими секретами, от которых его обитателям нехорошо. Думаешь, люди станут торопиться, чтобы на такое посмотреть?
Сумма, господин Ван Рейвен, назовите сумму!
Заказчик подходит к зеркалу и оправляет фетровую шляпу.
– Ну да ладно, думаю, главное я сказал.
У самой двери он оборачивается.
– Кстати, кто подкинул тебе идею написать ту скабрезную картинку?
Задумчиво потираю щетину на подбородке.
– В доме у тещи тоже висит картина под названием «Сводня», и я подумал…
– А, ты имеешь в виду картину господина Ван Бабюрена? Вот только он не стал изображать на ней гриф лютни, напоминающий фаллос!
– Это была цитра, господин Ван Рейвен.
– Лютня, цитра – неважно! Главное, что ты этот гриф собственной рукой обхватил и сидишь довольный! Это же надо додуматься – вашу папскую семейную вакханалию на холст перенести… Смело, молодой человек, смело! Что ж, полагаю, что ты усвоил урок. Картину-то продал в конце концов?
– Да, пекарю за пятнадцать гульденов.
– За пятнадцать? Ах да, точно. На эти деньги семью содержать не получится, верно я говорю? Ладно, пойду. Если что, отправляй ко мне посыльного, когда будет что показать. К тому времени подпишем все бумаги. Доброго дня!
Сажусь, чтобы отдышаться, – вроде бы получается. Жаль, что Ван Рейвен взялся меня отчитывать. На моей картине изображено, по большому счету, все ровно то же самое, что у Ван Бабюрена, разве что я придал сцене более легкомысленный оттенок. Наверно, подобную работу смогут оценить по достоинству, только когда я сделаю себе имя.
Подумать только, что теща когда-то ставила треклятого Ван Бабюрена мне в пример! «Когда научишься так же виртуозно владеть кистью, дорогой Ян, тогда и поговорим!» До сих пор помню, с каким ядом она цедила «дорогой». Явно не верила, что это время настанет.
Та картина сначала висела в прихожей, так что все визитеры столько охали да ахали, потому она велела перевесить ее над буфетом в гостиной – подальше от глаз. И тем не менее там ровно то же самое: девица, клиент, сводня. Полотно называют жемчужиной традиционной голландской жанровой сцены, соответствующей высокой морали, в то время как мою картину назвали скабрезной и смешали с грязью. Собратья по цеху, которые раньше приветствовали меня на улице, теперь отворачиваются. Знать злобно перешептывается, едва меня завидев. Что ж, Делфту нужен козел отпущения, к тому же новоявленный католик.
Интересно, случайно ли вышло, что я копировал именно ту картину в день, когда встретил Кат впервые после нашего короткого знакомства на льду? Дело было мрачным субботним утром в сырой мастерской господина Брамера на Коорнмаркт. Встреча не была такой уж неожиданной, потому что, после того как она привязала мне конек, я кое-что разузнал о семействе Тинс. Они собирали искусство и были католиками, как Брамер. В Делфте католиков наперечет, так что я заранее осведомился у художника, знаком ли он с этим семейством. Выяснилось, что знаком.
Мастерскую Брамера я вспоминаю с неохотой. Там стояла такая вонь, причем я не мог сообразить, от чего именно. Не иначе как где-то под половицей крыса издохла, а сам Брамер с его постоянной простудой давно нюх потерял и ничего не замечал, хотя запах перебивал даже привычные ароматы скипидара и лака.
Насколько мне помнится, Мария Тинс зашла забрать заказ, и Брамер обратил ее внимание на то, что мы работаем над утрехтским полотном. Мы – это трое прилежных учеников, что занимались у него по субботам. Мы должны были воспроизвести все в мельчайших деталях. Для меня до сих пор остается загадкой, почему Брамер выбрал именно ту картину в качестве образца. В те времена она ничего для меня не значила, да и с чего бы? Моей задачей было повторить мазок за мазком, цвет за цветом, а все остальное – дело десятое. Мы впервые использовали синий, и у меня просто дух захватывало. Даже если бы меня спросили, я бы вряд ли ответил, что именно там изображено. Девушка играла на лютне, но голова ее была занята явно не музыкой, вот и все, что я мог бы сказать. Старуху, на мой взгляд, можно было и не писать, слишком она страшная. Ей платили монету, но за что – я понятия не имел. Стоит сказать, что в те времена мой отец был еще жив и «Мехелен» являлся вполне приличной гостиницей.
– Вы только посмотрите на ее позу, – восхищался Брамер, брызгая слюной. – Вы только посмотрите, как меняется цвет! – Будто слов было недостаточно, он повторял позу и тыкал пальцами во все достойные внимания детали одновременно. Учитель так отчаянно к нам взывал, что мы совсем растерялись, куда смотреть – на него или на картину.
Вскоре я наверстал упущенное – сошелся с парнями, которые живо объяснили мне, чем продажные девицы зарабатывают на жизнь. Они водили меня переулками, где девушки стояли полураздетыми, словно на улице лето. Мужчины, сунув руки в карманы, прогуливались мимо них с таким видом, будто забрели туда случайно. Мы подзуживали друг друга: смотри, смотри, еще один зашел! Поспешно хлопала дверь. До меня стало доходить, что происходит между мужчиной и женщиной. Гораздо позже – по этому случаю я даже купил малиновый берет, – когда я зашел к Кат и заново рассмотрел полотно, я понял, что многое упустил в годы невинной юности. Трудно было охватить разумом, что Брамер написал нечто столь сомнительное на пути к вершинам мастерства. Помнится, парнишка по имени Крайн, который вместе со мной посещал уроки, предположил, что Марию Тинс гораздо больше интересовал сам Брамер, чем все его полотна, вместе взятые. Тогда я содрогнулся от отвращения и поспешил забыть эти слова. Уже в те годы Мария Тинс представлялась мне старой ведьмой, точь-в-точь такой же, как и на полотне Ван Бабюрена.
В любом случае теща меня очень разочаровала. В голове не укладывалось, что строгая католичка, которой ее считают, – а ведь половина Делфта уверена, что она день-деньской только и делает, что отгоняет грехи от порога, размахивая крестом и чесноком, – повесила такую сомнительную картину между образами святых и Девы Марии, словно приглашала в гости дьявола.
Когда Кат услышала, как я ворчу, возразила, что картину следует воспринимать как предупреждение. Как по мне, весьма сомнительно, почему тогда столько похоти на лицах и почему груди девушки так и норовят выскользнуть из платья?
Я парировал, что в этом случае лучше было бы повесить на стену пару библейских виршей, – вышло бы куда доходчивее. Кат промолчала. В то время наши отношения еще находились на том этапе, когда она избегала со мной спорить. Я не то чтобы нарочно искал, к чему прицепиться, просто пытался выяснить, почему она считает, что католицизм – более чистая религия. Вспоминая те дни сейчас, прихожу к выводу, что лучшими нашими с ней минутами были те, когда мы оба умолкали после пикировки. Например, когда лежали на мшистой земле, глядя вверх, и ветви деревьев покачивались на ветру над нами, и ничего нам было не нужно, только этот ветер, этот вид и легкое касание рук.
По злой иронии судьбы, стоило Кат переехать ко мне, как моя мать, чтобы свести концы с концами, согласилась закрыть глаза и отдать комнаты на верхних этажах как раз под те самые услуги, против которых предостерегал господин Ван Бабюрен.
Конечно, возлагать вину на утрехтского живописца было бы чересчур, однако думаю, что без его влияния мысль написать собственную сцену из жизни борделя даже не пришла бы мне в голову.
Возвращаясь к той субботе: за окном кружил снег, работа была окончена, и настало время разбора полетов – у кого видны мазки, кому удалось сделать позу более естественной, кто лучше всех воспроизвел цвета, кому удалось заставить работать тени. Неожиданно я услышал позади знакомый высокий голос – та девушка, которая помогла мне на катке, которую я по утрам порой видел на рынке, которая по четвергам ходила за покупками вместе с матерью, которую мои глаза всегда искали повсюду и которая являлась ко мне в снах с таким блестящим взглядом, словно у нее начинался жар. Моя девушка!
Однажды я встал в очереди за мясом прямо позади нее. Я надеялся, что она меня заметит, и слегка выпятил грудь, но, вместо того чтобы разглядывать других покупателей, она вдруг нырнула носом в свою корзину, словно испугалась, что оставила кошелек дома. Это сыграло бы мне на руку и дало возможность ее выручить, но, к сожалению, она уже отыскала кошелек и даже тихонько посмеялась над собой.
Теперь-то уж она должна была меня заметить! Девушка отошла от матери и направилась к нам с таким видом, словно скребки и кисти завладели всем ее вниманием.
Еще не растаявшие снежинки кокетливо украшали ее накидку с капюшоном, растаяло только лишь мое сердце при виде ее румяных щек, и, что еще прекраснее, она смотрела только на меня и больше ни на кого. Ее синие глаза встретились с моими.
Что я сделал, чтобы заслужить такой теплый, искренний интерес? Может, Брамер упомянул, что высоко ценит мой талант? Честно говоря, я не то чтобы писал лучше двух других парней, но был усидчивей и не отвлекался по мелочам.
Кат молчала, что было словно частью священного момента глубокого узнавания. Молчал и я, но больше потому, что у меня в те времена голос ломался и часто подводил почем зря. Однако не буду пенять на голос, ибо на ее игривую улыбку я тоже не ответил. Помнится, она заложила руки за спину и слегка сменила направление, что только усилило мою неловкость. Я вдруг понял, что мои щеки тоже пылают, как и у нее, – тут Крайн ткнул меня локтем, и я поспешно схватился за скребок.
Когда она ушла, я клял себя на чем свет стоит за свою застенчивость. Я ведь мог показать ей свою работу и мастерскую, спросить, какая из трех копий ей больше нравится, отпустить комплимент… чему угодно! Все лучше, чем хвататься за скребок.
Когда двое других ушли, я снова пристал к учителю с расспросами о владелице оригинального Ван Бабюрена. По мере его рассказа меня бросало то в жар, то в холод. Может, Мария Тинс и не обладала ангельским голоском, как у дочери, зато владела пятью оригиналами Ван Бабюрена и одним Тер Борхом, и все они висели в том большом доме на Ауде-Лангендайк. Боже милостивый, вот это роскошь! Да еще и такая прелестная дочь в придачу!
Короче говоря, причин набралось достаточно, чтобы столкнуться с Кат на улице двумя днями позже и, изобразив удивление, приподнять шляпу в знак приветствия. Когда мы стояли друг напротив друга, я заметил, что больше не отстаю в росте – я стал выше на полголовы.
7. Таннеке
По понедельникам мы затеваем стирку с утра пораньше, сразу после завтрака. В первые два года моей службы я управлялась со всем сама, но потихоньку дел накапливалось все больше и больше. Теперь мы делим работу с новой служанкой по имени Катья: она носит воду, я нагреваю. Затем Катья стирает белье в корыте и крахмалит лен. Остальное на мне: пропустить через валики для отжима, развесить, позже снять и во вторник погладить. Складываем белье мы с ней на пару, и летом носим отбеливать на поля тоже вместе.
Мне больше нравится отжимать белье во дворе – вода сама утекает прочь, – но сегодня накрапывает противный мелкий дождь, поэтому приходится идти в прачечную в подвале. Развешу белье тоже здесь. Наверняка до завтра оно высохнуть не успеет – в комнате слишком сыро, – поэтому гладить завтра будет нечего. Ну что ж, одной заботой меньше.
В общем, занимаюсь я своим делом, и вдруг передо мной возникает Ян. Я даже пугаюсь, потому что не пойму, откуда он взялся. Должно быть, проскользнул в ворота, только вот плаща на нем нет. Неужели вошел в парадную дверь? Ну и чудеса!
– Кого ищете? – осведомляюсь я, но он не отвечает. Становится у двери, теребит ручку, которая и вправду слегка разболталась, переводит глаза на меня, а я возвращаюсь к своим занятиям. С языка так и рвется вопрос, неужели ему самому заняться нечем? Вообще-то, на нем балахон, в котором он пишет.
– Мария Тинс прилегла отдохнуть после обеда, не переживай.
Как будто меня это заботит.
– Ей известно, что вы пришли? – интересуюсь я на всякий случай.
В прошлом году Мария Тинс запретила ему появляться на пороге – единственный достойный ответ на его хамское поведение, – да только вот не сказать, чтобы запрет строго соблюдался. Хозяйке прекрасно известно, что Катарина пускает его в дом, но сама она старательно избегает встреч.
Ян качает головой.
– Раз уж пришли, идите в переднюю, Катарина там вместе с девочками. Наверняка ей помощь не помешает.
– Все хорошо, Кат наверху пеленает малышку.
– А где маленькая Мария?
– Уже одета. Если хочешь знать, полчаса назад я встретил их на улице. Между прочим, я уже давно обещал Марии поиграть с ней в прятки, вот и прячусь. Чур, меня не выдавать. Как думаешь, отыщет она меня здесь, Таннеке?
– Не знаю.
Он приоткрывает дверь и прислушивается. Стоит мне вернуться к своему делу и крутануть ручку, он тут как тут. Подходит ближе.
– Знаешь, Таннеке, мне ночью такой странный сон приснился!
– Какой еще сон, хозяин?
– Такой, в котором я писал с тебя картину. Что ты на это скажешь?
– Правда?
– Да, но потом я передумал. Решил вот тебе рассказать.
Я молча кручу барабан.
– Вообще-то, ты заслуживаешь картины.
– Я? Картины?
Ну что тут скажешь? Принимаюсь крутить ручку с двойным усердием. Между делом говорю, не глядя на Яна, что сон – это ерунда. Он слегка ухмыляется, словно ожидал именно этого ответа. Ох уж мне эти его ухмылки! Причем глаза остаются серьезными. У него такой вид, словно своими возражениями я только укрепляю его в чувстве собственной правоты. Похожим образом он усмехался, когда Катарину донимал Виллем, ее бедовый братец. В тот раз ухмылка означала: «Таннеке, я уж и не знаю, как угомонить этого пьянчугу, может, подскажешь?»
– Интересно, и кто же такую картину напишет? – спрашиваю я и тут же жалею о своих словах.
– Я, конечно. Или ты боишься, что хозяйке мысль придется не по нраву?
Кладу в стопку сырую простыню, отворачиваюсь и сообщаю стене, что это мне идея не по нраву. Спустя одну простыню добавляю, что госпожа Катарина гораздо краше меня. Я уже говорила ему недавно, но напомнить не помешает. Кому захочется повесить на стену мой портрет? Я, конечно, не совсем дурнушка, но я ведь служанка с рябой кожей, сутулой спиной и мозолистыми руками. Куда мне до Катарины с ее осанкой и персиковой кожей!
– Верно, но портрет Катарины я уже написал.
Беру первую корзину с бельем и начинаю развешивать прямо у него перед носом. Ян приходит на подмогу и протягивает мне деревянное ведерко с прищепками. Благодарю его сквозь зубы и надеюсь, что мой ответ его устроит. Хоть бы маленькая Мария поскорее нас нашла!
– Кат на том портрете выглядит не очень-то счастливой. – Ян говорит спокойно, не меняя позы, словно за пару минут молчания успел подобрать доводы, которые меня убедят.
Не собираюсь ему потакать. Если Катарина выглядит несчастной, то он один в этом виноват и сам должен все решить, а меня не вмешивать.
– Она же спит, это не значит, что она так уж несчастна.
