Человек читающий. Значение книги для нашего существования
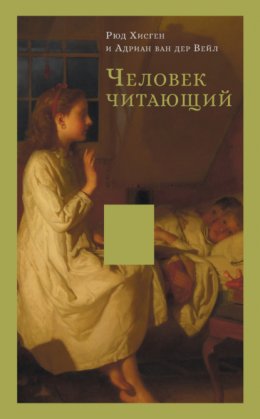
Издательство выражает признательность Нидерландскому литературному фонду за поддержку этой книги
© 2022 by Ruud Hisgen en Adriaan van der Weel Originally published by Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam
© И. М. Михайлова (введение, глава 1–4), перевод, 2025
© Е. Б. Асоян (глава 4–8, эпилог), перевод, 2025
© Клим Гречка, оформление обложки, 2025
© Издательство Ивана Лимбаха, 2025
Я читаю, следовательно я существую.
Вариация на тему Декарта
…читать нужно учиться, как нужно учиться видеть и учиться жить[1].
Винсент ван Гог. Письма
Мы должны действовать, осознавая, что каждый переломный момент (он же поворотный пункт) – это и миг во времени, и точка в пространстве: в этот миг полезно остановиться и оглянуться, но в этом месте нельзя стоять и ждать, что будет.
Рамсей Наср. Основания
Введение. Ода матросам книжного моря
Никогда не сбиваясь с пути, под защитой книжных обложек, даже когда мир захлопнут, когда не осталось свобод и глаза наши устали от сидения в темной клетке, вы даруете нам яркий свет чтения и морские просторы, вы – матросы книжного моря. <…>
Никогда не сбиваясь с пути, собирая принесенные волнами истории, спеша от страницы к странице, неуемные в поисках, день-деньской вы смотрите на корешки книг и на лица – и все корешки вам знакомы, все тексты и люди любимы.
Марике Лукас Рейневелд, стихотворение было опубликовано в Twitter 29 апреля 2021 в 7:59
Перемещаясь туда-сюда между миром бумажных текстов и информацией в интернете, мы вдруг останавливаемся перед книжным шкафом. Слушая музыку, льющуюся к нам в комнату из компьютера, мы задаемся вопросом, почему от всех пластинок, кассет и дисков мы давным-давно избавились, а книги так и стоят у нас на полках. Зачем нам эти тонны бумаги, занимающие столько места, и долго ли мы собираемся их хранить? Если мы завтра же их выкинем и в комнате станет больше места и меньше пыли, заживем ли мы тогда другой жизнью, станем ли другими людьми? Будем ли скучать по нашим старым пыльным друзьям? Если у нас не останется книжного шкафа, то, может быть, что-то сотрется из нашей памяти – или же мы просто-напросто обзаведемся, так сказать, электронным книжным шкафом, еще более вместительным? Приведет ли изменение способа чтения к изменениям в нашем мышлении? Имеет ли значение, по каким буквам скользит наш взгляд: по буквам на бумаге или на экране? Ведь чтение в любом случае остается чтением?
Хотя в наше время мы можем сделать почти все на свете с помощью компьютера, для многих людей, выросших с книгами, расстаться с книжным шкафом – слишком решительный шаг. «Расставание – маленькая смерть», поэтому мы предпочитаем не спешить. Несмотря на достижения в цифровом мире, о важности бумажных книг, книжных магазинов и библиотек для нашего общества можно судить по краткой эйфории, царившей после отмены локдауна из-за коронавируса 28 апреля 2021 года. На следующее утро поэт и прозаик Марике Лукас Рейневелд разместил твит со всевозможными сердечками: «Я написал оду матросам книжного моря, героям книготорговли. Вчера снова открылись книжные магазины!» Стихотворение воспевает процесс чтения как чудо. Голландцы, которые по-прежнему любят читать бумажные книги, хотя все остальное уже давно делают на своих смартфонах, пришли в восторг от такой прекрасной новости.
Ненадолго, совсем ненадолго, смолкли озабоченные голоса, годами твердившие о падении интереса к чтению, утрате навыков чтения и малограмотности среди молодежи, о снижении числа покупателей в книжных магазинах и читателей в библиотеках, а также о плачевной ситуации с обучением чтению в школах. Голландцы ненадолго вспомнили о том, какое это волшебное ощущение – бродить по морскому берегу, «собирая принесенные волнами истории», как сформулировал Рейневелд. Но через несколько недель народ забыл о горестях короны и с излишним простодушием решил, что вернулась нормальная жизнь, так что ощущение магии чтения снова сошло на нет.
Когда-то, примерно 6000 лет назад, наши предки изобрели систему фиксации информации. Началось все с права собственности, договоров купли-продажи и сбора налогов, но очень быстро оказалось, что эта система пригодна также для множества других, куда более изысканных целей. Она разрослась и стала средством сохранения мифов и рассказов об исторических событиях, а также способом кодификации законов. На протяжении тысячелетий этот могущественный инструмент оставался в руках немногих посвященных – владеющей грамотой элиты.
В нашем компьютеризированном обществе умение писать перестало быть чем-то магическим. Грамотность стала всеобщей, оттого бросаются в глаза только те случаи, когда кто-то не умеет читать и писать, оттого что плохо учился в школе и забыл все за ненадобностью или из-за нарушений интеллекта. Да это и неудивительно, что безграмотность бросается в глаза. Ведь умением читать овладевают абсолютно все, причем в таком раннем возрасте, что взрослыми мы уже не задумываемся о том, к какому поразительному явлению мы на самом деле причастны. Мы все читаем и пишем, чем дальше – тем больше.
В наши дни мы читаем преимущественно с экрана нашего постоянного и любимого спутника жизни – смартфона. Мы ищем информацию в «Википедии», следим за новостями или просматриваем твиты мировых лидеров, читаем электронные книги. Да и пишем мы без конца: шлем имейлы, сообщения в WhatsApp, делаем заметки, реагируем на блоги, размещаем комментарии, сочиняем фанфики и тому подобное.
Теперь все без каких-либо ограничений выражают свое мнение обо всем, что приходит на ум. Если поразмыслить над нашей привычкой писать без удержу, то сразу станет ясно, что теперь письмо имеет совсем другое значение, чем шесть тысяч лет назад в Месопотамии. Когда-то записывались только те истории, которые были по-настоящему важны для людей и целых культур. А теперь любой человек сообщает в соцсетях, блогах и по WhatsApp буквально обо всем, что с ним происходит.
Причем сообщает он о своей жизни не только с помощью текста. Наш смартфон предоставляет очень много возможностей. Мы фотографируем, снимаем видео, пользуемся навигатором, распоряжаемся финансами, слушаем музыку и аудиокниги, записываем звуки, ищем расписание общественного транспорта, смотрим погоду и так далее и так далее. С помощью этого девайса мы можем даже звонить, хотя делаем это все реже. В очередной раз выясняется, что сложное технологическое устройство на практике применяется не для тех целей, о которых думали его создатели.
Информация о том, как именно мы использовали смартфон, записывается не только тогда, когда мы этого хотим, но и когда мы об этом не думаем: постоянно, по умолчанию, теми цифровыми системами, которыми мы пользуемся просто в силу того, что владеем смартфоном. И это должно вызывать беспокойство. Так что, собственно говоря, между месопотамской культурой и нашей много общего. Недоступные нашему пониманию цифровые системы, которым мы доверили все наше существование и которые фиксируют каждый сделанный шаг, для нас, непосвященных, столь же таинственны, как и письмо для большинства древних месопотамцев.
Эту непостижимость хорошо иллюстрирует дело вдовы ван Сеггерена. В 2019 году Йессика Б. была осуждена за убийство мужа Тьерда ван Сеггерена, совершенное в 2017 году. Доказательством преступления послужили данные, сохранившиеся в мобильных телефонах супругов. На основании сотен фотографий, поисковых запросов в Google, напоминаний о встречах, записанных в электронном календаре, сообщений в мессенджере Facebook[2], эсэмэсок и сведений о телефонных звонках полиция смогла составить картину произошедшей драмы. К тому же полиция восстановила все перемещения супружеской пары, так что стало точно известно, кто где находился в ту роковую ночь в июле 2017 года. У Йессики не получилось стереть свои электронные следы, так как она понятия не имела, где их искать.
В истории взаимоотношений людей и текстов отчетливо заметны три закономерности. Первая заключается в том, что благодаря появлению все более совершенных технологий мы с каждым годом создаем все больше и больше текстов. А чем больше появляется текстов, тем больше мы читаем. Пять веков назад изобретение печатного станка привело к взрывному росту тиражей книг и к появлению таких СМИ, как газеты и журналы. Почти сразу же послышались жалобы на то, что мозг не в силах вместить столько знаний. В компьютеризированном мире дело обстоит еще хуже. Невообразимый рост общего количества текстов, числа участников мирового текстооборота и скорости коммуникации ни с чем не соизмерим. Мы все стали писателями, и не существует никаких тормозов, чтобы ограничить количество и качество того, что мы делаем достоянием публики. Издателей и редакторов, которые еще недавно служили фильтром, мы отправили в отставку. Мы сами выкладываем все, что хотим, на доступную для всех и каждого витрину интернета.
Все более разностороннее применение компьютеров и смартфонов приводит к неуклонной «текстуализации» нашей повседневной жизни. Наше взаимодействие с окружающими (включая живое общение и телефонные разговоры) чаще и чаще принимает форму обмена текстами. То же самое с распоряжением финансами и покупками. Вместо того чтобы разговаривать с людьми, мы всё делаем с помощью смартфонов.
Вторая закономерность – это неуклонное снижение долговечности тех носителей, на которых мы сохраняем наши тексты. Если шесть тысяч лет назад это были камень и глина, то в Средние века их сменили пергамент и бумага, а теперь и вовсе цифровой экран. Сейчас нас подводит в первую очередь быстрое устаревание операционных систем и систем кодирования, а также софта. Кроме того, та легкость, с которой мы можем менять и стирать тексты в компьютере, ведет к их недолговечности, сколько бы нас ни убеждали, что в цифровом универсуме ничто никогда не потеряется. Не случайно такая платформа, как Snapchat, быстро обрела огромную популярность.
Третья закономерность тесно связана с первыми двумя, а именно: мы все меньше и меньше ожидаем, что текст может долго сохранять актуальность с точки зрения содержания. Соответственно, мы уже не ждем, что написанное нами столь ценно, что сохранится в веках. Всего двести лет назад Виктор Гюго (1802–1885) называл изобретение книгопечатания в середине XIV века величайшим событием в истории, потому что благодаря ему человеческая мысль стала как никогда вечной и нетленной. На протяжении долгого времени считалось само собой разумеющимся, что написанный текст является залогом бессмертия и автора, и его героев, – мысль, способная в наши дни вызвать только улыбку.
Эти три закономерности касаются только текста. Но, в отличие от прежних способов записи, компьютер, как мы уже отмечали, не ограничивается созданием текстов: мы ежедневно сталкиваемся с компьютеризацией всех областей жизни. Тем самым компьютерная революция столь грандиозна по своим масштабам, что мы просто не в состоянии представить себе ее последствия.
Между тем наш мир – мир постепенного заката «Книжного Миропорядка» – нельзя назвать полностью цифровым. Наш сегодняшний менталитет гибриден, ибо состоит из двух способов мышления: один является результатом многовековой традиции бумажных книг, а второй возникает на основе совсем других свойств, присущих цифровой среде. И никто не знает, что делать с этой гибридностью. Не вызывает сомнения, что цифровая часть нашей жизни разрастается так быстро и неудержимо, что становится доминирующей.
Важно ли, на каком носителе мы читаем? Ведь чтение – это всегда чтение? Последние исследования показали, что роль носителя очень велика. Читая текст с экрана, мы воспринимаем его менее серьезно, чем тот же самый текст на бумаге. Это происходит оттого, что цифровой мир заставляет нас и читать, и осмыслять прочитанное совсем по-другому: главное – намного быстрее, но, соответственно, менее вдумчиво. Вдумчивое чтение возникает только в случае более длинных и сложных текстов, которые мы встречаем в книгах.
Не менее актуален и вопрос о том, не утрачивает ли чтение в современном обществе свою важность. Вопрос кажется риторическим, но мы должны его задать. Ни у кого нет сомнений, что уметь читать необходимо. Но насколько важно искусство чтения для нашего общества и почему именно – об этом мы знаем совсем мало. Почти во всех великих культурах бытует миф о божественном происхождении письма, но не мифы определяют наше сегодняшнее отношение к письменности.
Мы живем в культуре всеобщей грамотности, но, как ни удивительно, этого не осознаем. Во всяком случае, мы уже не проявляем к чтению и письму должного почтения. Чтение стало для нас практическим навыком, необходимым условием для функционирования в обществе. Это же само собой разумеется! Мы овладели навыком чтения в детстве и потом на протяжении всей жизни им пользуемся. Когда мы хотим получить новый паспорт или прочитать на упаковке информацию о том или ином продукте питания, когда мы заполняем бюллетень для голосования или налоговую декларацию или хотим заявить о себе в соцсетях, мы не можем обойтись без умения читать и писать. Но мы редко задумываемся об этом, как и о том, что значит искусство чтения. Польза, приносимая грамотностью, простирается намного дальше, чем жизнь каждого из нас. Грамотности мы обязаны почти всеми достижениями нашей культуры. Наша правовая система, демократия, образование, наука – без печатного слова все эти достижения были бы немыслимы. Наше мышление, сознание, наша память в огромной мере находятся под влиянием письменных текстов.
Мы редко об этом задумываемся, но история нашей культуры и мир, в котором мы живем, в огромной мере созданы текстами. Форма и содержание текста, с одной стороны, и знания и мышление, которыми мы владеем благодаря текстам, – с другой, теснейшим образом переплетены. Вся наша культурная эволюция зафиксирована в окутывающей наш мир сети текстов. Тексты – это записанные буквами следы деятельности человеческого сознания.
Между тем грамотность по-прежнему не дается нам даром. От природы человек не умеет читать и писать. Каждый из нас потратил много сил, чтобы этому научиться, да и всю нашу культуру грамотного общества мы строили с огромным трудом. Следовательно, эту культуру – какое бы определение мы ей ни дали – следует поддерживать осознанно и старательно. Если, конечно, мы хотим, чтобы она сохранилась, что не разумеется само собой. Ведь поддерживать ее становится все труднее и труднее по мере того, как ослабевает наш пиетет к грамотности, и по мере того, как в цифровом мире обретает силу «ментальный фастфуд»[3]. Ведь с письменным текстом на экране конкурируют такие «простые для восприятия» формы информации, как изображение и звук. Мало сказать – конкурируют: с целью увеличения доходов большие интернет-компании сознательно используют различные приемы, чтобы «подсадить» пользователей. Такое впечатление, что в ход идет буквально все, что может помешать чтению.
Тот факт, что чтению длинных и сложных текстов в наши дни придается все меньшее значение, внушает писателям, издателям и книготорговцам серьезные опасения. Скорость и масштабность цифровой революции превышают любые мыслимые ожидания. При всем значении чтения в современном мире, который целиком и полностью держится на письменном слове, именно чтение длинных и сложных текстов способно обогатить человека как личность. Установлено, что чтение художественной литературы включает наше воображение и развивает умение сопереживать другим. Эмпатия – способность понимать, что происходит в голове у другого человека, – наиважнейший социальный навык. Кажется парадоксальным, что с помощью чтения развиваются социальные навыки, ведь читаем мы обычно в одиночестве. Мир, созданный писателем, каждый читатель воссоздает и пересоздает в своем воображении. Читая, мы проживаем не только свою жизнь, но и жизни других людей – жизни, которые могли быть нашими, жизни героев, решающих вопросы, с которыми и мы можем столкнуться. Как бы мы поступили в такой же ситуации, столь же высоконравственно, как герой книги, или нет? А мы сумели ли бы вовремя остановиться и не совершить ту ошибку, которую делает он? Читая, мы учимся на образцах и на жизненном опыте других – учимся по-настоящему, хотя герои вымышленные.
Чтение прививает навык сосредоточивать внимание на одном предмете. К тому же, что особенно важно в информационном водовороте интернета, чтение предоставляет возможность на какое-то время укрыться от постоянного призыва цифровых медиа обратить внимание на тысячу вещей. Чтение помогает нам оставаться хозяевами своей жизни.
Первый тезис нашей книги состоит в том, что мы недостаточно осознаем, какую огромную роль играет чтение для нашего умения мыслить, а тем самым и для нашего собственного благополучия и благополучия всего общества. Второй тезис таков: для нашего мышления важно не только умение читать, но и способ чтения. Способ чтения во многом определяется технологическим развитием. Глиняные таблички, свитки, печатные страницы, экраны: каждый новый этап развития технологии вел к изменению в способах чтения и мышления. Цифровые технологии, все более и более доминирующие в нашей жизни, оказывают отрицательное воздействие на качество нашего мышления. Третий тезис заключается в утверждении, что чтение и письмо служат иллюстрацией нашей неспособности держать под контролем последствия технологических процессов и их влияния на общество. Хотя все технические новшества изобретаем мы сами, наша власть над ними, как выясняется, лишь иллюзия. Сила личности оказалась весьма мала. История показывает, что мы едва ли способны влиять на ее ход.
В многотысячелетней культурной эволюции человека вновь настал период, когда технология письма переживает головокружительные изменения. Сегодня главный вопрос: что нас ждет вследствие замены чтения с бумаги чтением с экрана. К каким изменениям в процессе чтения и в нашем мышлении это приведет? В этой книге мы вовсе не собираемся делать мрачные предсказания. Но мы полагаем, что общество взирает на цифровизацию жизни чересчур равнодушно. При этом у большинства жителей планеты происходящие изменения в нашем читательском поведении почти не вызывают озабоченности.
«Новое чтение» окажет большое влияние на наше мышление, нашу идентичность, наше образование и наше общество. Государственные инстанции, те, кто отвечает за образование, школьные учителя и преподаватели вузов – все они должны отдавать себе отчет в возникновении «экранной культуры». Только тогда мы сможем ответить на вызовы будущего.
В книге «Средство коммуникации как массаж»[4] (1967) философ Маршалл Маклюэн (1911–1980) пишет о том, что мы даже представить себе не можем, каковы масштабы происходящей у нас на глазах «электрической» революции, – в первую очередь в связи с распространением телевидения. Чтобы показать опасность этой революции для всего мира, он даже придумал неологизм worldpool – «мировой водоворот» – составленное из слова world «мир» и второй части слова whirlpool «водоворот». В наши дни наблюдается настоящий «мировой водоворот» информации, где место телевидения заняли экраны цифровых устройств. Теперь именно они, являясь вездесущим средством коммуникации, воздействуют на наше мышление. Благодаря своей вездесущности и вытекающей из нее, как ни парадоксально, незаметности это средство массовой информации влияет на наш мозг с небывалой силой. Но, как и в случае любой технической революции, непредвиденные побочные эффекты могут оказаться важнее, чем основной, запланированный эффект. Именно оттого, что они побочные и что мы о них не подумали заранее, мы почти не замечаем их воздействия на нас.
Единственный путь к тому, чтобы научиться хоть как-то держать цифровую революцию под контролем, – это понять ее механизм. Маклюэн пишет:
Благодаря способности посмотреть на свое бедственное положение со стороны моряк из рассказа Эдгара Аллана По «Низвержение в Мальстрём» сумел разобраться в том, как работает водоворот, и ему удалось спастись. Мы можем использовать эту стратегию, чтобы разобраться в нашем бедственном положении, в механизмах действия нашего электронного водоворота[5].
Разобраться в нынешнем бедственном положении и предотвратить беду: ради этого мы написали нашу книгу.
В книге мы много будем говорить о письменности и о самом процессе письма. Если чтение и письмо суть действия зеркальные, то письменность и есть само зеркало. История письменности – это в первую очередь история технологий: история длинного ряда технических усовершенствований и новшеств. От пиктограммы к алфавиту, от глиняных дощечек к компьютерному экрану. А вот история чтения принадлежит к сфере общественного развития. Мы вовсе не хотим сказать, что технологии здесь не играют роли, напротив. Как мы увидим, именно свойства, присущие разным технологиям фиксации текстов, и оказывают воздействие на жизнь общества. Социальные последствия каждой такой технологической смены представляют для нас главный интерес в данном исследовании.
Эти последствия взаимосвязаны с разветвленной и постоянно видоизменяющейся системой институтов и поведенческих привычек, а также с общепринятыми нормами и ценностями, проистекающими из способов письма. Влияние данной системы на роль чтения в повседневной жизни мы решили описать другим способом. Это-то и есть самое трудное в стоящей перед нами задаче. Именно потому, что взаимосвязь между технологией письма и характером данной системы не самоочевидна, мы решили сосредоточить внимание не на истории письменности, а на социальной истории чтения, на том, как чтение меняет человека и человечество.
Когда в античном мире достаточно широкий круг людей научился записывать тексты, началась первая научная революция[6]. Язык, зафиксированный в текстах, сработал как рычаг, разом поднявший наш интеллект. Вскоре после изобретения книгопечатания с помощью свинцовых литер произошла вторая научная революция[7]. Благодаря распространению письменности, а позднее и книгопечатания мы стали очень точно фиксировать собранные нами знания и представления о мире, а также о нашем месте в нем. Накопление и хранение знаний расширяет и укрепляет тот фундамент, на котором следующее поколение может строить здание своей науки. После письменности и книгопечатания настал черед цифровых технологий. Они принесли с собой очередное гигантское разрастание объема сохраняемых знаний. Но есть существенное различие: сегодня мы не можем говорить о фиксации знаний. Во всемирном водовороте противоречащих друг другу фактов и мнений все непрерывно течет и изменяется, здесь не существует никакой иерархии, нам не за что ухватиться. От человека требуется большое интеллектуальное усилие, чтобы не утонуть в этом водовороте из текстов, находящихся в текучем изменяющемся состоянии.
Структура книги
Сегодня множество вопросов, связанных с чтением, вызывают беспокойство. Некоторые мы назовем – малограмотность, дислексия и безграмотность, – но подробно останавливаться на них не будем. Нас интересует в первую очередь не важность различных нарративов и не знание литературы. Но не оттого, что мы считаем эти аспекты малозначительными – наоборот! – а оттого, что мы выбрали другой угол зрения на проблему чтения. Книга посвящена тому, сколь бесконечно важно чтение для нашей культуры и мышления, что меняет в читательских привычках развитие цифровых технологий, каковы последствия этих изменений для мышления и можно ли на эти изменения повлиять.
В девяти разделах книги будут рассмотрены следующие вопросы.
1. Без чтения и грамотности современное общество не могло бы существовать. Чем детальнее мы пытаемся рассмотреть этот сложный феномен, тем неуловимее он оказывается. Чтение сделало нас теми, кто мы есть, каждого из нас в отдельности и все человечество в целом, но что такое чтение и почему мы читаем – это загадка. Потому мы и должны выяснить, чем является чтение для нас.
2. Несмотря на огромную важность чтения для человечества в целом и для отдельной личности, оно остается загадочным явлением. Говорить и слушать ребенок учится легко, но для овладения чтением и письмом необходимо приложить большие усилия. Что же такое чтение и как именно происходит этот процесс?
3. Чтение возникло всего лишь 400 поколений назад, в то время как люди живут на земле уже несколько миллионов лет и около миллиона лет умеют разговаривать. Как возникли чтение и письмо и как они смогли за такое короткое время занять столь важное место в нашей культуре, что с конца XIX века ее по праву можно назвать «книжной культурой»? Без изобретения Гутенберга победоносное шествие печатной книги было бы невозможно.
4. Возникновение книжной культуры естественным образом привело к появлению широкого диапазона способов применения текстов. Но чего мы не осознаем, так это влияния чтения на нас самих. В этом смысле «вдумчивое чтение» можно считать высшей формой общения с текстом, так как оно лучше всего оттачивает наше мышление.
5. Сегодня книжная культура идет на спад. На протяжении ХХ века книга и даже текст как средство коммуникации по ряду причин стали отходить на второй план. Чтение не утрачивает своей значимости, но книжная культура сменилась экранной и соответственно изменилось наше читательское поведение.
6. Нынешний кризис, в особенности отвыкание людей от вдумчивого чтения, заставляет нас поразмыслить о важности чтения. Что мы можем потерять, что мы можем приобрести? Вдумчивое чтение требует инвестиции времени и усилий. Готовы ли мы к такой инвестиции?
7. Возникает вопрос: что нам делать – в первую очередь как отдельным личностям, но и как обществу в целом, – чтобы заставить себя и других взяться за чтение книг.
8. Заключение: вдумчивое чтение, будучи необходимым условием для развития умения мыслить, должно сохранить свои позиции в нашей культуре.
9. Те уроки, которые следует извлечь из наших рассуждений, мы подытожим в 22 тезисах о чтении.
Глава 1. Почему так важно читать?
Ты сидишь в классе – и тут приходит озарение. Бездушные черные закорючки, выстроившиеся на странице неподвижными рядами, начинают оживать. Туман медленно рассеивается, и ты входишь в мир, создаваемый этими значками. Да, конечно, ты уже бывал в нем раньше, но только за руку с мамой, читавшей тебе вслух. А теперь ты можешь путешествовать по этому безграничному миру сам, когда тебе захочется.
Общество, основанное на текстах
Когда-то человек думал, что он – венец творения, что он стоит выше всех прочих животных, не говоря уже о растениях, насекомых и низших формах жизни. Человек – властелин и хозяин природы… Этим заблуждением мы обязаны рассказу о сотворении мира в Библии, согласно которому Бог создал людей, чтобы они владычествовали «над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле» (Быт 1, 26). Но на протяжении ХХ века мнение человека о себе становилось все ниже и ниже – как ни иронично, именно в результате накопленных им знаний. Мы уже не можем не признать, что наша уникальность вовсе не столь безоговорочна, как считалось тысячелетиями. Животные тоже умеют использовать различные предметы для добывания пищи, делать дедуктивные умозаключения и строить социальные отношения, похожие на отношения в человеческом обществе. Любовь и дружба, горе и скорбь, обман, верность и даже юмор – вот некоторые элементы нашего поведения, которые присущи и животным. Выяснилось, что даже язык, которым человек долго гордился как своим уникальным достижением, вовсе таковым не является. Оказалось, что, например, дельфины (ультразвуковыми сигналами) и шимпанзе (жестами) пользуются системами коммуникаций, сходными с человеческим языком. Различия между человеком и другими видами животных носят градуальный характер. Однако в нашей жизни все же имеется ряд компонентов, свойственных только человеку. Мы одни умеем мыслить абстрактными символами, мы одни обладаем способностью к созерцанию и спекулятивному мышлению, позволяющим нам думать о предметах, реально не существующих, или о том, что это значит – иметь сознание. В этом ряду особых достижений, связанных с высокой организацией нашего мозга, стоит также предмет данной книги – владение письменной формой языка, то есть умение читать и писать.
Умение человека читать и писать – поистине выдающееся достижение, хоть мы этого порой и не замечаем. Через пять тысячелетий после возникновения письменности Галилео Галилей (1564–1642) назвал письмо венцом изобретений человечества. О его восхищении красноречиво свидетельствует следующее высказывание:
Каким блистательным, вознесшимся выше всех прочих грандиозных изобретений, был разум того, кто нашел способ сообщать свои глубочайшие мысли любому другому человеку, в том числе сколь угодно удаленному в пространстве или во времени! Способ разговаривать с людьми, находящимися в Индии, или с теми, кто не родился и не родится еще через тысячу или десять тысяч лет! Причем делать это так просто! Всего лишь за счет различного расположения двадцати буковок на листе бумаги. Это поистине венец всех поразительных изобретений человечества[8].
Нельзя сказать, что до появления письменности мы не умели думать, но чтение и письмо дало гигантский толчок к развитию нашего мышления. Они позволяют нам видеть отчетливо и объективно такие вещи, которые до этого были субъективными и трудноуловимыми. Чтение дает нашим размышлениям о других, о самих себе, о нашем происхождении и о будущем новую, острую фокусировку. За те пять тысяч лет, что человечество читает надписи на глиняных дощечках, бересте, камнях, пергаменте, бумаге и прочих носителях, сформировалась наша культура. Именно чтением определяется наша идентичность и как биологического вида Homo sapiens, и как индивидуума. Не зря мы делим прошлое на предысторию, о которой не существует письменных источников, и историю, зафиксированную в письменности. Такое событие, как изобретение письма, стоит в одном ряду с другими первостепенными вехами: возникновением языка, освоением огня, зарождением сельского хозяйства, появлением денег; все это – важнейшие достижения в человеческой истории. За те пять с лишним тысячелетий, что мы умеем писать, в разных точках мира было изобретено бесчисленное множество способов письма. Пять тысяч лет: на первый взгляд, это очень много, но в общей картине эволюции человека невероятно мало. Ибо язык возник в интервале между двумя миллионами (первые Homo) и двумястами тысячами (Homo sapiens) лет назад. Так что, если сравнивать с языком, то письменность – явление молодое. И уже совсем новое явление – это широкое (но отнюдь не повсеместное) распространение грамотности, которое можно датировать концом XIX века, то есть не более десяти поколений назад. Многие языки мира не имеют своей письменности. Но в нашем случае письменная форма языка давно стала чем-то само собой разумеющимся. Более того: если сначала умение читать и писать открывало перед человеком новые горизонты и возможность избавиться от множества ограничений, то уже вскоре грамотность сама приобрела принудительный характер. С XIX века каждый ребенок обязан учиться читать и писать. Человек, не знающий грамоты, становится гражданином второго сорта.
В наше время надоело слушать рассуждения о том, что люди читают слишком мало и слишком плохо, теряя навык чтения, что вызывает тревогу (Глава 6). Все свято верят в важность чтения. Но мы не отдаем себе отчета в том, до какой степени именно чтение сформировало человека как индивидуума и человеческое общество в целом. Ведь почему чтение так важно? Потому что, если ты не научишься читать, ты не сможешь полноценно функционировать в современном обществе. Это мы все понимаем. Но почему? Зачем именно надо читать? Что нам это дает?
Когда в Нидерландах заводят речь об утрате навыков чтения, то чаще всего начинают сокрушаться по поводу незнания литературы. Хотя, как мы продемонстрируем ниже, это только малая часть большой проблемы, литература, несомненно, очень важна, ибо в литературе зафиксировано наше видение мира, наши истории о жизни. Для человечества и для культуры характерно рассказывание историй. Это то, что больше все любит делать наш мозг. Положите на стол две фотографии – и мозг тотчас начнет выдумывать про них истории. Независимо от того, действительно ли между фотографиями есть какая-то связь или эта связь лишь предполагается, наш мозг автоматически начинает вырабатывать варианты причинно-следственных отношений между ними. Создание историй, вероятно, давало человеку какие-то эволюционные преимущества. В любом случае существуют указания на то, что без таких историй мы не смогли бы настолько социализироваться, чтобы вместе жить и вместе работать в городах-миллионниках[9].
Чтобы понять, насколько важны для нас тексты, надо смотреть гораздо шире. Со второй половины XIX века книги, журналы и газеты представляют собой важный способ оповещать мир о новых знаниях. Все результаты измерений и наблюдений, все глубокомысленные рассуждения, все плоды человеческого творчества были занесены в книги и влиты в грандиозную постройку, возводимую человечеством во славу собственного разума. Фундамент этой Вавилонской башни был заложен сразу после возникновения письменности. С изобретением книгопечатания строительство пошло ускоренными темпами, а с XIX века башня стала расти чересчур стремительно. Если до этого взбираться на верхние этажи разрешалось только элите, знавшей грамоту, то теперь туда полезли все. Рост популярности чтения сопровождался безудержным оптимизмом, ведь чтение – ключ к знаниям, а знания делают человека сильным, помогая справиться с непредсказуемыми жизненными ситуациями. Образованность, саморазвитие, эмансипация, движение вперед в области политики, экономики, культуры: грамотность обещала человечеству лучшее будущее.
Из-за возрастающей доступности книг и периодики этот параллельный «мир текстов» вышел из берегов и уже не поддается контролю. После изобретения книгопечатания, а в еще большей мере после распространения грамотности в XIX веке и распространения цифровых носителей в последние десятилетия количество книг и прочих текстов растет с головокружительной скоростью. Школьное образование переживает кризис, ибо по мере роста суммы наших знаний детям все труднее учиться в них ориентироваться и находить себе применение в непрерывно меняющемся обществе. Школьная программа становится все более напряженной.
Представление о важности чтения в наше время кажется чем-то само собой разумеющимся, но так было не всегда. Отнюдь не все были убеждены в том, что распространение грамотности – благое дело. Некоторые открыто сомневались в том, обладают ли «широкие массы» достаточной интеллектуальной и моральной зрелостью, чтобы получить свободный доступ к знаниям. В XIX веке многие интеллектуалы высказывали опасения, что массовая грамотность, массовое среднее образование и, как результат, массовая культура будут не так уж полезны для общества.
Как раз в этот самый критический момент грянула Первая мировая война, принесшая огромное разочарование. Может быть, ваша хваленая образованность, ваше саморазвитие, эмансипация и движение вперед как раз и ввергли человечество в этот ад на земле? Надежда на то, что Первая мировая война была случайным феноменом, издержкой мировой истории, призванной преподать нам урок, улетучилась с началом Второй мировой войны. Оказалось, что как союзники, так и нацисты весьма успешно пользовались плодами всеобщей грамотности, существующей к этому времени во всей Европе. Но грамотность не смогла смягчить ужасы войны ни на йоту, не говоря уже о том, чтобы ее предотвратить.
Вопреки всем сомнениям относительно полезности языка и грамотности джинн был выпущен из бутылки. Письменный текст, а тем самым и чтение оказались вплетены в сложнейшую ткань общественной жизни. Если бы письменных текстов не существовало, общественная жизнь не могла быть столь многообразной. Необходимым условием для функционирования в социуме была и есть грамотность. А чтобы стать грамотным, необходимо учиться в школе, где все обучение базируется на умении читать и писать. Это умение служит основой жизнедеятельности не только для общества, но и для школьного образования. Ведь по всем предметам написаны учебники, которые школьники обязаны читать.
Не менее важно и то, что массовое умение читать и писать создавало условия для невиданной ранее политической и социальной эмансипации. Формирование демократии шло рука об руку с приобщением широких слоев общества к грамотности. Без этого демократия не могла бы расцвести, ведь ее важнейшие институты – высшее образование, суды и наличие управленческого аппарата. Без малейшего преувеличения можно сказать, что современная демократия – прямой продукт всеобщей грамотности, возникшей в конце XIX века.
Между тем другие информационные средства – кино, радио, телевидение – дожидались своего часа. Они идеально подошли для выполнения новостных и развлекательных функций, поэтому быстро завоевали популярность. Письменный текст утратил монополию на распространение знаний и информации. В школах также попробовали экспериментировать с новыми медиа. Уже в 1913 году Томас Эдисон (1847–1931) заявил, что «школьные учебники скоро окажутся вчерашним днем», ибо «стало возможным преподавать все области человеческого знания с помощью кино». В 1960-х годах многие поверили, что в современных школьных классах радиоприемники и телевизоры будут таким же привычным предметом обстановки, как школьная доска. Именно телевизор за короткое время стал пользоваться огромной популярностью. В Американском Самоа, например, было решено использовать телевидение для решения проблемы нехватки учителей. В результате в 1966 году четверо из пяти самоанских школьников занимались просмотром телепередач от трети до четверти времени, проводимого в школе.
Тем не менее оказалось, что учебники играют все же более важную роль, чем думали многие. Несмотря на сомнения насчет экспрессивного потенциала языка, несмотря на разочарование вследствие Первой мировой войны в представлении о грамотности как залоге цивилизованного мира, несмотря на привлекательность новых медиа и попыток использовать их в школе, ядром школьного образования остались учебники. В 1973 году на Самоа также было решено прекратить эксперимент с телевидением.
Все множество человеческих знаний по-прежнему сохраняется в первую очередь в письменной форме. Хотя существуют и другие способы узнать что-то новое, например с помощью движущихся кадров или звука, письменный текст оказался самым надежным средством передачи информации. Значения языковых единиц могут быть зафиксированы письменно, например в учебниках и словарях, к которым может обратиться любой умеющий читать. За счет этого текст способен передавать смыслы достаточно ясно и однозначно. Те, кто утверждают, что одна картинка может сказать больше, чем тысяча слов, подразумевают, скорее всего, описание чего-то словами. Ибо теории, понятия, абстракции и правила, равно как приказы и запреты, либо не могут быть выражены в картинках, либо весьма неотчетливо. Дэвид Олсон (1935) приводит в своей великолепной книге «Бумажный мир» (1994) отличный пример. Как можно выразить рисунком заповедь «не убий»?[10]
Когда общая грамотность достигла критической массы, ничто уже не могло вызвать сомнения в первостепенной важности письменного языка. Эта центральная позиция в наши дни настолько непоколебима, что без письменных текстов и, соответственно, всеобщей грамотности наше бытие уже немыслимо.
Записанная ацтекским пиктографическим письмом пятая (что понятно по числу кружочков) заповедь: не убий.
В этом объявлении, состоящем из четырех «строк», британский губернатор Джордж Артур (1784–1854) постарался с помощью пиктограмм донести до безграмотных аборигенов мысль о равенстве всех людей перед законом. Любой, кто совершит в Земле Ван-Димена (нынешней Тасмании) насильственное преступление, получит наказание, будь это австралийский абориген или европеец-колонист.
Сложность письменного языка
Текст позволяет накапливать чрезвычайно сложную информацию, а также ею обмениваться. Поскольку в наши дни считается само собой разумеющимся, что (почти) все люди умеют читать, мы с легкостью забываем, насколько поразительна эта способность нашего мозга. Как хорошо, что наш мозг столь силен, думаем мы, иначе об этом самом чтении мы бы и помыслить не могли. Но правда ли дело обстоит именно так? Действительно ли человек научился выражать свои мысли и чувства с помощью языка в результате какого-то качественного скачка в развитии мозга? Или наоборот: причиной такого прорыва послужили возможности языка? Наука пока не дала ответа, но постепенно накапливается все больше доводов в пользу второго сценария: именно язык вызвал значительное увеличение вместимости человеческого мозга. Так что давайте помнить об этом сценарии, когда будем стараться проследить, насколько сложным процессом является чтение.
Чтение – несомненно, нечто большее, чем практическая способность расшифровывать текст. Чтение определяет принцип, лежащий в основе мышления индивида и его общения с другими, и, соответственно, тот принцип, на основе которого упорядочено наше общество. Для того чтобы понять феномен чтения во всем его богатстве, требуется огромное множество научных дисциплин. Если вы хотите составить представление о том, с какой головокружительной скоростью пополняются наши знания о феномене чтения, вы можете познакомиться с идеями ученых, работающих в области педагогики и психологии (Willingham D. The Reading Mind: A Cognitive Approach to Understanding How the Mind Reads, 2017), философии (Worth S. In Defense of Reading, 2017), книговедения (Lyons M. A History of Reading and Writing in the Western World, 2010), нейронауки (Dehaene S. Reading in the Brain: The Science and Evolution of a Human Invention, 2010), литературоведения и медиаведения (Puchner M. The Written World: How Literature Shaped History, 2017), биологии, библиотековедения, информационной науки и лингвистики (Baron N. How We Read Now: Strategic Choices for Print, Screen, and Audio, 2021), социологии (Furedi F. Power of Reading: From Socrates to Twitter, 2015), типографики (Unger G. Terwijl je leest, 2006) и так далее. Поскольку чтение – исключительно сложный процесс, нам будет трудно логично изложить все актуальные сведения о нем простыми словами.
То, что мы называем чтением, представляет собой значительный набор способов взаимодействия с текстами, например: изучение и запоминание, наслаждение приглашающим голосом рассказчика, распознавание оттенков значения, анализ системы доказательств, сопоставление, перечитывание уже известного и т. п. Так что дело далеко не только в том, умеет ли человек читать: кроме базового навыка, грамотность подразумевает еще множество измерений. К тому же сколько читателей, столько и индивидуальных читательских стилей, привычек и предпочтений[11].
К этому добавляется содержание читаемых нами текстов. Чем сложнее текст, тем большим набором специфических навыков должен обладать читатель, чтобы его понять. Степень сложности часто зависит от темы, но и простой с виду текст окажется сложным, если пытаться понять его глубоко. Роман, описывающий психологические тонкости взаимодействия между людьми, предъявляет к читателю высочайшие требования, как в плане социальной когниции, так и в плане языка: необходим богатый словарный запас и нарратологический кругозор. Среди всех типов текстов художественная литература – самый большой челлендж.
Что именно делает художественную литературу сложной? При ее чтении надо уметь распознавать оттенки серого, а не только черно-белую схему. Литература заставляет читателя смириться с тем, что на свете существуют не только герои и негодяи. В художественном тексте смелый герой может быть одновременно и сорвавшимся с цепи грубияном, и трусом. Бессовестный стяжатель может оказаться заботливым отцом. Чтобы вынести суждение о литературном персонаже, нужно проявить к нему столько же внимания и эмпатии, сколько при общении с человеком из плоти и крови. Привлекательность художественной литературы во многом состоит именно в том, что она открывает нам глаза на тонкости, которые делают нас людьми.
Кроме того, существует огромное количество разных носителей текстов. В наши дни мы часто противопоставляем друг другу бумагу и экран. Но каким бы естественным ни казалось это противопоставление, оно вводит нас в заблуждение. Чтение текстов на электронных носителях – от твитов и блогов через «Википедию» до электронных книг и Facebook – подразумевает столько же подходов к технике восприятия информации (см. Coiro, 2020), сколько и работа с бумажными текстами, а то и еще больше.
Хотя эта книга посвящена в основном чтению письменных текстов, нельзя забывать, что есть и другие способы восприятия вербальной информации. Все эти «новые медиа», изобретенные в XIX и ХХ веке, существуют по сей день и даже приобрели электронные эквиваленты; они занимают свою нишу в широкой палитре медиасредств, находящихся в нашем распоряжении. Все большую роль начинают играть аудиокниги. Их популярность заметно возросла особенно в последние годы. Слушание аудиокниг – это, разумеется, не то же самое, что чтение. Попросту говоря, чтобы слушать аудиокнигу, необязательно быть грамотным: для этого не надо учиться читать. Но даже если говорить только о чтении глазами, то следует отметить, что в большинстве текстовых медиа нам предлагается далеко не только текст. Используются иллюстрации, таблицы, графики, диаграммы или, в случае электронных носителей, видео и аудиоматериалы. Эта множественность средств превращает чтение – как по бумаге, так и с экрана – в очень сложный процесс. Читатели должны уловить связь между информацией в письменном виде и информацией во всех других модусах или формах.
Неудивительно, что в связи с умением читать у людей порой возникают самые разнообразные проблемы. Наиболее известная из них – дислексия – является сложностью технического характера, когда человек испытывает трудности при расшифровке букв[12]. А вот умение читать по-настоящему вдумчиво – это огромный интеллектуальный челлендж, как для детей, так и для взрослых и даже для членов академического сообщества. Научиться читать по-настоящему вдумчиво – это нечто большее, чем простая расшифровка букв и слов, на обучение вдумчивому чтению человек затрачивает уйму мыслительных усилий. Короткого пути не существует, единственный способ – много лет ходить в школу. Но даже если вы научились читать, это все равно останется трудным делом на протяжении всей вашей жизни. Кто не упражняется в чтении регулярно, тому читать тяжелее, ибо человек утрачивает способность читать углубленно и получать от этого удовольствие.
В повседневной жизни большинство людей не отдают себе отчета в том, насколько сложным является процесс чтения. А тот, кто это понимает, например, по долгу службы, не может подавить в себе инстинктивного желания несколько упростить тексты. Стоит оглянуться, и мы увидим со всех сторон тенденцию к упрощению письменного языка, к нивелированию индивидуальных авторских черт, чтобы все без труда читалось и поддавалось машинному переводу.
В Нидерландах издательство «Коммуникация без проблем» (Eenvoudig Communiceren) издает «переводы» книг на простой язык, предназначенные для людей, которым трудно читать. Замену текстов картинками, видео- и аудиоматериалами тоже можно считать упрощением, так как при этом отпадает необходимость уметь читать. Разумеется, «переводчиками» руководят благие намерения. Однако при подобном упрощении они нередко упускают из виду, что текст лишается выразительности. К тому же исследование показало, что, как это ни парадоксально, отсутствие в упрощенных текстах слов-связок (во-первых, далее, поэтому и др.) приводит к худшему пониманию. «Проще» – не всегда значит «понятнее».
Главная цель обучения чтению – овладение базовой грамотностью. Мы должны научиться расшифровывать текст в б-у-к-в-а-ль-н-о-м смысле слова. Далее базовая грамотность может служить трамплином к тому, чтобы этот поначалу трудный процесс дешифрования превратился в сноровку. Чем большую сноровку вы приобретете, тем меньше будет напрягаться ваш ум при расшифровке букв, слов, фраз. Когнитивную деятельность тогда можно будет направить на более «высокие» уровни чтения, такие как критическое восприятие содержания и языка и умение схватывать тонкие смысловые оттенки, подтексты и противопоставления. Даже опытные читатели упражняются в улавливании этих «высоких» уровней на протяжении всей жизни.
Многие голландцы старшего поколения хранят ностальгические воспоминания о таблице с картинками, по которой они учились в детстве читать, со словами Aap (обезьяна), Noot (орех), Bok (козел) и так далее. Немецкий философ и эссеист Вальтер Беньямин (1892–1940) ощутил очарование букв, слов и фраз с помощью «Lesekasten» – «ящика для чтения», который можно сравнить с русскими «кассами букв и слогов». Крышку этого ящичка, в котором хранились буквы, написанные на отдельных карточках, поднимали и оставляли в вертикальном или слегка наклонном положении. Ученик выбирал нужные ему буквы и составлял из них слова, вкладывая карточки в длинные горизонтальные ячейки с внутренней стороны крышки.
…Ничто не вызывает у меня столь сильной тоски, как детская наборная касса. В ней были маленькие квадратики, и на каждом – буква, написанная готическим шрифтом, отчего по сравнению с печатными буквами они казались более юными, девически нежными. Они грациозно укладывались на наклонном ложе, каждая – само совершенство, а все вместе они строго блюли свой строй, в согласии с правилами ордена, объединявшего их как сестер, – слóва. Меня восхищало, что с этой дивной красотой сочеталась у них большая непритязательность. Все мое детство жило в жесте, каким я вставлял букву за буквой в прорезь, где они должны были выстраиваться в слова. Этот жест иной раз может пригрезиться моей руке, но она никогда уже не пробудится, чтобы совершить его наяву. Точно так же я могу увидеть во сне, как когда-то учился ходить. Да только ничего это не даст. Я умею ходить, а вот учиться ходить – это мне уже не дано[13] [14].
Благодаря такому ящику овладение чтением становилось физическим действием. Беньямин иногда видит во сне, как его рука расставляет буквы с внутренней стороны крышки. Но точно так же как он уже больше не может научиться ходить, он не может заново пережить радость обучения чтению.
Словосочетание «более высокие уровни чтения» нуждается в пояснении. Это не научное понятие, равно как и столь часто используемое словосочетание «вдумчивое чтение» (называемое также внимательным чтением с погружением, подробнее см. Гл. 4). Вместо того чтобы спорить о точном значении этих двух терминов, лучше согласимся c тезисом, что существуют разные способы взаимодействия с текстом и что всякий раз мы выбираем, каким из них воспользоваться в зависимости от характера текста и от того, что именно мы надеемся из него извлечь. Каким бы образом мы ни взаимодействовали с текстом, чтение всегда будет требовать от нас некоего когнитивного усилия, и для человека, который хочет быть полноценным членом общества стопроцентной грамотности, важны все способы. Ту или иную стратегию чтения мы всегда должны выбирать осознанно.
Простоты ради выделим три.
1. Во-первых, это знаменитое «вдумчивое чтение». В этом случае человек читает неспешно, вникая в текст и осознанно «пропахивая» его от начала до конца. Чтобы проникнуть в глубину, приходится пустить в дело все свое аналитическое и критическое начало. Иногда бывает необходимо снизить темп чтения, иногда текст требует от вас упорства и заставляет по несколько раз перечитывать отдельные его фрагменты. Примером текстов, требующих глубокого чтения, могут служить юридические документы. Неправильная постановка запятой или ошибочное словоупотребление могут оказаться губительными для одной из сторон судебного разбирательства. Но намного интереснее, когда сложность текста формируют тонкости его содержания, призывающие вас как читателя внимательно вдумываться в каждую фразу. Поверхностное чтение знаменитой книги Чарльза Дарвина (1809–1882) «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь» (1859) неоднократно приводило к неправильному пониманию использованного Дарвином выражения «survival of the fittest», которое интерпретировалось как нечто вроде закона природы – «побеждает сильнейший». На самом деле Дарвин имел в виду «выживание наиболее приспособленного» в том смысле, что организм имеет больше шансов выжить, если он приспособился к определенной экологической нише.
Вдумчивое чтение представляет собой тем самым нечто совсем иное, чем полное погружение в текст, о котором мы будем говорить в третьем пункте (см. ниже): «читатель поглощен текстом». Как ни парадоксально, для того чтобы проникнуть в текст достаточно глубоко, необходимо смотреть на него с некоторого расстояния. Если мы позволим тексту себя увлечь, это помешает пониманию. Вдумчивого чтения от нас требуют именно сложные, а не увлекательные тексты. Хотя данная стратегия, по-видимому, не так распространена, она является идеальным способом чтения.
Способность анализировать и критиковать неотъемлема от политического участия в жизни демократического общества. Критическая манера чтения подразумевает, что человек не принимает прочитанное за чистую монету с первого взгляда. Умеющий читать критически осознает, что на свете существует огромное количество дезинформации, политических и идеологических стереотипов, что авторы могут стремиться к манипуляции. Поэтому необходимо пристально следить за логикой, контролировать правильность выводов и аналогий и проверять источники информации. Все это заодно тренирует умение сосредоточиться[15].
Иногда особенно важно читать медленно и перечитывать отдельные фрагменты не только для того, чтобы выявить скрытые уровни текста, но также чтобы сознательно контролировать процесс чтения. От читателя требуется два вида настойчивости. При чтении длинных текстов (т. н. long-form) настойчивость нужна для того, чтобы следить за развитием текста во всей его сложности. При чтении в интернете настойчивость нужна для того, чтобы не отвлекаться. Всем знакома ситуация, когда по прошествии некоторого времени человек с трудом вспоминает, что именно он ищет. Вы успели просмотреть уйму сайтов, пройти по линкам к интересным фотоматериалам, текстам и аудиофайлам, которые уводят вас все дальше и дальше от цели.
2. Вторая базовая стратегия чтения – это «пролистывание», то, что по-английски называют skimming или scanning («просмотровое или выборочное чтение»). Вы просто проглядываете текст, быстро переворачивая страницы и выискивая глазами ключевые слова. Такой способ чтения распространился в ту пору, когда людей завалило печатной продукцией. В наши дни «пролистывание» (ср. англ. browsing) ассоциируется в первую очередь с интернетом. Исследования методом айтрекинга показали, что на экране компьютера мы обычно читаем до конца только первую строку, а остальную часть текста просматриваем по F-паттерну. Иными словами, в каждой строке мы прочитываем чаще всего только первое слово, лишь изредка несколько. Изменчивый мир постоянно обновляющихся текстов на экранах цифровых устройств читать иначе невозможно. Но в Главе 6 мы увидим, что такая стратегия чтения распространяется и в скором времени может занять центральное место, став основной. Когда мы имеем дело с длинными текстами, мы тоже нередко пытаемся прочитать их подобным образом.
3. Между стратегиями вдумчивого чтения и пролистывания находится иммерсивное чтение, или чтение «с погружением». Это значит, что мы, как и в случае вдумчивого чтения, прорабатываем весь текст, но менее логически осмысленно. Мы воспринимаем его менее критически и менее аналитически, при этом читаем обычно быстрее, чем при глубоком чтении. Между вами и текстом не остается никакого расстояния: вы ныряете в него и плывете по течению. Иммерсивное чтение, таким образом, не требует от читателя дисциплины и упорства. Иммерсивное чтение наиболее типично для длинных текстов. Ибо не все длинные тексты требуют сосредоточения, как при вдумчивом чтении. Во всяком случае, мы не чувствуем никакого напряжения, когда книга настолько увлекательна, что мы забываем об окружающем нас реальном мире и полностью погружаемся в параллельный мир текста. Хоть мы и читаем внимательно, а то и сосредоточенно, мы делаем это оттого, что нам хочется отвлечься и отдохнуть. Примером может служить чтение триллера. Если сюжет по-настоящему увлекателен, вы не можете оторваться от книги, пока не дочитаете до самого конца и не узнаете развязку.
Эти три стратегии, разумеется, взаимосвязаны. Например, пролистывание нередко предшествует иммерсивному или вдумчивому чтению. Мы пролистываем множество текстов, чтобы выбрать тот, который заслуживает нашего внимания и неторопливого чтения. Например, если вы на вокзале хотите купить себе журнальчик для чтения в пути, вы боитесь ошибиться. Вы пролистываете несколько журналов в надежде увидеть какой-то текст, на который будет не жалко потратить время и деньги. Обычно разные типы чтения переходят один в другой самым естественным образом. Вы используете ту или иную стратегию в зависимости от цели чтения и от характера текста. Начнем с последнего: чаще всего обсуждаются две категории текстов, а именно лонгрид и литература.
В спорах о важности чтения в нашем обществе всеобщей грамотности чтение обширных текстов, то есть книг, приобретает особый статус и привлекает особое внимание. Вот как об этом говорится в «Ставангерской декларации о будущем чтения» (2019): «Чтение длинных текстов неоценимо для когнитивного развития: навыка концентрации внимания, увеличения словарного запаса и улучшения памяти»[16]. Книги можно читать иммерсивно или вдумчиво, но Ставангерская декларация подчеркивает, что чтение длинных текстов имеет самостоятельную ценность, независимо от того, как их читают. Часто, хоть и не всегда, длинные тексты бывают одновременно и сложными. Вспомним Литературу с большой буквы или нон-фикшн, в первую очередь социально-критические, исторические книги или биографии. Ибо существуют предметы, слишком трудные для того, чтобы их можно было вкратце изложить в статье на нескольких страницах. Сложные тексты предназначены скорее для вдумчивого, чем для иммерсивного, чтения.
Перейдем к вопросу о цели чтения. Все цели, о которых принято говорить в статьях по данной теме, легко разделить на три типа: приобретение знаний (учебные цели), получение информации новостного характера (чтобы быть в курсе событий) и отдых. Но в наше время стремления к эффективности, когда все без конца ищут информацию целенаправленно, мы испытаем облегчение и чувство свободы, если позволим себе отойти от схемы и почитать что-нибудь просто так. Чтение не обязательно должно вести к какому-то «результату». Можно пуститься в приключения, сделать какое-то неожиданное открытие – а также случайно найти новые пункты назначения для целенаправленного чтения. Если рассматривать чтение как занятие с открытым концом, можно принять вызов автора и вступить в мысленный диалог с ним или с его книгой.
Чтобы в процессе чтения – неважно, бумажных или электронных текстов – оптимально согласовать между собой конкретную ситуацию чтения, требования текста и нашу готовность пойти навстречу этим требованиям, мы должны обладать гибкостью и, так сказать, метакогнитивными читательскими навыками. Иными словами, надо отдавать себе отчет в том, что, зачем и почему ты читаешь, и достаточно ли хорошо ты читаешь, чтобы понять текст и воздать ему должное. Ибо важно постоянно учиться читать на все более высоком уровне, чтобы в итоге превратиться в «опытного читателя» (англ. resilient reader)[17]. В основе этого опыта лежит владение широким диапазоном подходов к чтению. Опытный читатель умеет сознательно выбрать заслуживающий его внимания текст (на бумаге или других носителях), тонко применить в конкретной ситуации свои читательские навыки и постоянно спрашивать себя, достаточно ли глубоко он понимает текст[18].
Чтобы быть полноценным членом современного демократического общества, важно уметь читать на высоком когнитивном уровне, а вот умение писать, как выясняется, менее важно. Так что люди в принципе должны уделять больше внимания именно чтению – но ведь без умения писать научиться вдумчиво читать намного труднее, а то и невозможно. Человек, который умеет писать, понимает намного лучше, что текст всегда несет тот или иной месседж и что довести его до сознания читателя не так-то просто.
О том, как на протяжении веков чтение занимало все более важное место в культуре и потому должно было соответствовать самым высоким ожиданиям, мы расскажем в Главе 3. Здесь же остановимся на относительно недавно полученных результатах исследований, показывающих, сколь огромную роль сыграло и продолжает играть чтение в формировании человечества, – а значит, почему чтение так важно и для индивидуума, и для всего общества.
Чтение важно для каждого из нас
Чтение делает нас той личностью, которой мы являемся. Человек – это то, что он читает, и то, как он читает. Мы не хотим сказать, что приводимые ниже способности человеческого разума можно приобрести только с помощью чтения. Большинство из них – если не все – иногда формируются и другим путем. Но перечень типов благоприятного воздействия, оказываемых на наш мозг таким необычайным и сложным видом деятельности, как чтение, поистине уникален.
Во-первых, чтение доставляет удовольствие. Это удовольствие может быть чисто эмоциональным. Если человек полностью погружается в чтение, то нет сомнений, что речь идет о положительных эмоциях. Но погружение – не единственный способ испытать приятное ощущение от чтения. Радость способен доставлять и когнитивный аспект. Например, если вы верите, что чтение поможет вам разрешить какую-то проблему или понять трудную мысль.
Чтение не только доставляет удовольствие, но и приносит разнообразную пользу, способствуя развитию следующих навыков и способностей:
