Левая чума Америки. От борьбы за свободу до борьбы с инакомыслием
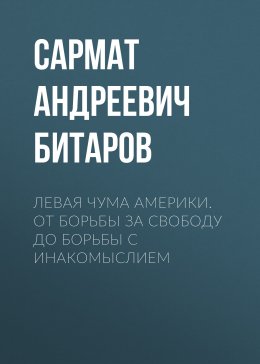
ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ АВТОРА
Эта книга – результат долгих размышлений и наблюдений. Меня давно интересует парадокс современного американского прогрессивизма: как получилось, что идеология, воспринимаемая ещё недавно как радикальная и маргинальная, сегодня формирует общественные нормы, захватывает дискуссионное поле и навязывает культурную повестку даже в тех странах, где она не побеждает политически?
Я не ставлю перед собой задачу обличать или высмеивать. Моя цель – понять. Понять, почему прогрессивизм стал настолько привлекательным для университетов, медиа, искусства, почему в него охотно вступают молодые и образованные, и почему при всём этом – он заходит в тупик. Понять, как прогрессивизм смог подменить собой традиционные левые движения, и почему в ответ на него пробуждаются силы, ещё более правые, чем прежде.
Я пишу эту книгу с правой, но рациональной позиции. Я не кричу «всё пропало», не мечтаю о реакции, не сыплю ярлыками. Я – наблюдатель, политолог, исследователь, который хочет представить целостную картину и объяснить, как мы оказались там, где находимся сегодня. И – возможно – куда движемся дальше.
ВВЕДЕНИЕ
Левый прогрессивизм1 – это не просто совокупность политических взглядов. Это целостная мировоззренческая система, затрагивающая все аспекты современной жизни: от государственного устройства до личных моральных убеждений, от академической среды до языка повседневного общения. Он вторгся в политику, культуру, экономику, образовательные институты и даже частную сферу, выдвинув лозунг глубокой трансформации общества. За последние десятилетия, особенно с начала XXI века, прогрессивная повестка в Соединённых Штатах Америки не просто окрепла – она стала господствующей культурной силой.
Тем не менее, этот путь к доминированию был отнюдь не линейным, и, что важно, на момент написания этой книги прогрессивизм переживает очевидный идеологический и стратегический кризис. В то время как одни называют это «естественным этапом переосмысления», другие, в том числе и я, видят в этом начало конца. Мы становимся свидетелями наступления правого реванша, восстания маргинализированных ранее голосов, недовольных новыми табу и переизбытком идеологических догм.
Что же произошло? Как получилось, что движения, некогда воспринимавшиеся как смелые, гуманистические и освобождающие, стали восприниматься частью ригидного нового догматизма? Почему значительная часть общества, включая тех, кто ещё недавно симпатизировал либеральной мысли, вдруг отшатнулась от её современных форм? И почему, несмотря на всё это, культурное влияние прогрессивной идеологии остаётся почти незыблемым, даже в периоды политического господства её оппонентов?
Эта книга – попытка разобраться. Попытка не обрушиться на объект критики с предсказуемыми обвинениями, но всмотреться в его суть: в мотивации, логическую структуру, социальные источники и исторические причины появления. Прогрессивизм – это не аномалия и не случайность. Это ответ. Ответ на противоречия XX века, на борьбу за равенство, на жестокости иерархий, на экономические неравенства, на расизм и патриархальные структуры. Он возник там, где существовала реальная социальная боль – и потому его нельзя отмахнуть простым махом руки. Но, как это часто бывает, движения, рождённые в борьбе за освобождение, могут превратиться в новые формы контроля, морального принуждения и интеллектуального однообразия.
Чтобы понять современный прогрессивизм, нужно обратиться к его истокам: к движениям шестидесятых годов, к культурной революции, к университетской философии конца XX века. Нужно понять, как на рубеже веков произошёл переход от старого либерализма, сосредоточенного на свободе личности и правах, к новому прогрессивизму, строящемуся на категориях привилегий, угнетения, цензуры несогласия и исторической обязательной для всех ответственности перед ущемлёнными ранее группами. Особое внимание в этом процессе следует уделить администрации Барака Обамы, при которой левые идеи получили государственное признание и политическое влияние, а также периоду после него – с его подъемами и падениями, надеждами и конфликтами.
Мы поговорим и о том, как прогрессивизм экспортировался в Европу, но не стал там доминирующим политическим порядком, несмотря на культурную близость. Почему в Европе он остался уделом интеллектуалов, а в Америке стал массовым кодексом поведения порядочных граждан. Почему американский прогрессивизм породил столь мощные протестные движения – от Black Lives Matter до транс-активизма, – и почему, несмотря на свою массовость и внимание медиа, они часто оказывались неэффективны в институциональной перспективе.
Мы рассмотрим парадокс того, как культурная гегемония может сосуществовать с политическим меньшинством. Почему даже тогда, когда у власти находятся республиканцы, образовательная и культурная повестка остаётся левой. Почему консерваторы проиграли культурную войну, даже выиграв выборы. И, наконец, мы затронем нарастающую усталость общества от новой насаженной им морали – её жёсткости, её исключительности, её претензий на единственную истину без возможности критики.
Параллельно мы поднимем ключевые вопросы: почему европейская интеллигенция почти целиком находится в лагере прогрессивных, и почему все альтернативные течения объявляются ими радикальными, даже когда говорят на языке умеренности? Почему для многих левых прогрессивизм стал не просто позицией, а моральным императивом, дающим право на политическое и культурное изгнание несогласных? И почему именно это – не социальные цели, не активизм, а стремление к моральной монополии – стало ахиллесовой пятой прогрессивизма?
Книга, которую вы держите в руках, не призвана уничтожить прогрессивизм. Она призвана его понять. Увидеть его силу и слабость, которую эта сила порождает. Понять его успех и кризис. Это рассказ о политической вере, переживающей кризис зрелости. Это анализ нового типа идеологического мышления, изменившего политический ландшафт Америки и, в значительной степени, Западного мира. И это попытка – через политическую призму, но с уважением к фактам – объяснить, как это стало возможным.
Мы пройдём путь от интеллектуального подъёма лево-либеральной мысли до её нынешней перегретой фазы. От Обамы до БЛМ. От кампусов до TikTok. И попытаемся ответить на вопрос: что дальше? Какова судьба прогрессивизма в XXI веке? Будет ли он трансформироваться, исчезнет, или – вопреки всему – окончательно победит?
ЧАСТЬ I. ГЕНЕЗИС ПРОГРЕССИВИЗМА В США
ГЛАВА 1. ОТ НОВОГО КУРСА ДО КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Когда говорят о современном американском левом прогрессивизме, чаще всего начинают с фигур вроде Барака Обамы или с протестных волн XXI века. Но игнорирование исторических корней делает анализ поверхностным. Прогрессивизм, каким бы новым и постмодернистским он ни казался в своём нынешнем обличье, имеет прочные основания, уходящие в первую половину XX века. Чтобы понять, как мы пришли к идеологической системе, в которой категории «социальной справедливости» и «общественной ответственности» стали центральными в дискурсе, нужно вернуться к трём эпохальным вехам: Новый Курс Франклина Рузвельта, движению за гражданские права, и революционному повороту 1960-х годов.
РАЗДЕЛ I. ФРАНКЛИН РУЗВЕЛЬТ, ДВИЖЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА, 60-Е ГОДЫ
Франклин Делано Рузвельт (президент США 1933-1945) вошёл в историю как человек, не просто спасший американский капитализм от самого себя, но и как политик, радикально изменивший природу американского государства. В историографии это явление получило устойчивое название – Новый Курс (New Deal). За этим названием стоит не только экономическая программа, но и переформатирование общественного договора, смена парадигмы, в которой государство перестаёт быть «ночным сторожем» и начинает претендовать на роль гаранта социальной справедливости и активного участника рыночных процессов.
До Рузвельта политическая философия США оставалась глубоко либертарианской по своей сути: государство должно охранять свободы, но не вмешиваться в рынок, не перераспределять доходы, не навязывать «нравственный курс». Эта позиция укоренилась ещё со времён отцов-основателей США и оставалась почти незыблемой вплоть до кризиса 1929 года. Именно Великая депрессия стала моментом истины – крахом парадигмы саморегулируемого рынка, подорвавшим не только экономику, но и идеологическое ядро американской исключительности. Безработица, банкротства банков, голод, массовые беспорядки – всё это поставило под вопрос саму жизнеспособность капиталистической модели в её классическом виде.
Новый Курс был программой чрезвычайных мер, но в реальности он стал философией новой государственности. Рузвельт ввёл в политический лексикон США такие понятия, как «второй Билль о правах», где каждому человеку гарантируется не только свобода, но и доступ к труду, жилью, медицинской помощи и достойному существованию. Он провозгласил, что свобода – это не только отсутствие вмешательства, но и наличие возможностей. Это был неолиберальный сдвиг avant la lettre: от негативной свободы (freedom from) к позитивной свободе (freedom to).
В рамках Нового курса были созданы десятки ключевых институтов, включая:
Social Security Act (1935) – прообраз системы социального страхования и пенсий,
Wagner Act (1935) – признание прав профсоюзов и установление системы трудовых арбитражей,
Public Works Administration (PWA) и Civilian Conservation Corps (CCC) – масштабные программы трудовой мобилизации, инфраструктурного строительства и борьбы с безработицей.
Таким образом, была создана новая модель: либеральный капитализм с элементами перераспределения и социальной ответственности. Государство перестало быть гарантом свободы лишь для имущих и стало – пусть декларативно – выступать от имени «простого человека», от имени рабочего, фермера, безработного.
Для современного левого прогрессивизма этот момент имеет ключевое символическое значение. Новый курс стал первым крупным актом признания того, что социальное неравенство – это не моральная вина индивида, а системная проблема, которую обязано решать государство. Рузвельт совершил революцию сверху, не отказываясь от капитализма, но подчинив его общественным целям. Именно поэтому его фигура занимает особое место в пантеоне левой американской мысли – как своего рода отец-основатель социального государства по-американски.
Следствием реформ Рузвельта стала формализация новой электоральной коалиции, которую позже политологи назовут New Deal Coalition. В неё входили:
городские рабочие, особенно члены профсоюзов,
фермеры,
афроамериканцы (начиная с 1936 года, когда значительная часть чёрного электората начала покидать Республиканскую партию),
этнические меньшинства и мигранты первого поколения,
бедные слои южных штатов.
Это была первая массовая политическая мобилизация не-элитарного большинства, которая впоследствии станет основой для левой электоральной политики в США. Фактически, Рузвельт создал новый образ народа, в котором центральное место занимал не предприниматель или пионер фронтира, а обычный человек, нуждающийся в социальной защите. Этот поворот – от восхваления индивидуального успеха к признанию уязвимости – стал фундаментом для будущей прогрессивной повестки.
Но в великом проекте Рузвельта скрывались и глубокие внутренние противоречия, особенно в вопросе расы. Чтобы обеспечить поддержку южных демократов (весьма влиятельных в Конгрессе), многие положения Нового Курса исключали чернокожее население. Например, работники сельского хозяйства и домашнего труда – две ключевые сферы занятости афроамериканцев – были исключены из закона о социальном страховании 1935 года. То есть, проект, который был провозглашён как универсальный, на практике оказался расово ограниченным. Это стало одной из причин, почему позднее, в 1950–60-х годах, движение за гражданские права дистанцировалось от традиционных либеральных структур.
Это важнейшее различие между экономическим прогрессом и социальной инклюзией в Новом Курсе породило травму, не залеченную до сих пор, и стало прецедентом, на который левые активисты будут ссылаться спустя десятилетия. Идея «системной несправедливости», которая сегодня является краеугольным камнем прогрессивной критики, имеет свои истоки именно здесь – в намеренном или вынужденном исключении из сферы заботы государства целых категорий населения.
Именно это обстоятельство радикализировало левую мысль второй половины XX века. Прогрессивисты XXI века видят в рузвельтовской модели недовершённую революцию – первую попытку построить социально справедливое государство, но основанную всё же на компромиссах с элитой, с системой, с расовой иерархией.
Для современных левых, особенно социал-демократов и прогрессивных демократов внутри партии, образ Рузвельта стал символическим флагом, на который можно опереться, не уходя в радикализм. Барак Обама в 2008 году нередко сравнивался с ним, а Берни Сандерс напрямую цитировал его во время своей кампании:
«Мы должны восстановить то, что построил Рузвельт: экономику, в центре которой – не миллиардеры, а работающие американцы».
Даже в так называемой «лево-центристской» политике Обамы, в его здравоохранительных инициативах (Affordable Care Act), в его риторике социальной ответственности слышны отголоски Нового Курса. Более того, феномен движения Democratic Socialists of America (DSA), набравшего популярность в 2010–2020-х годах, тоже напрямую апеллирует к «ньюдиловским» идеалам – только с поправкой на современные реалии: необходимость борьбы с расизмом, климатическим кризисом, цифровым неравенством.
Если Новый Курса Франклина Рузвельта стал первым серьезным разрывом с классическим либерализмом XIX века, то Движение за гражданские права середины XX века (Civil Rights Movement) стало его моральным продолжением и одновременно вызовом. Это было не просто борьбой за политическое равноправие чернокожих американцев – это было переформатированием самой идеи американской демократии, расширением её границ, требованием перестроить и культурную, и юридическую ткань страны. Если Новый Курс дал бедному белому человеку труд, то движение 1950–60-х годов требовало признать: без расового равенства не существует социальной справедливости как таковой.
Именно в этом контексте движение за гражданские права стало идейным предшественником прогрессивного проекта XXI века. Здесь были заложены многие принципы, которые сегодня составляют ядро левой повестки: идея системной дискриминации, коллективной идентичности, роли государства как инструмента компенсации исторических травм, а также концепция публичного морального давления на власть. И хотя движение за гражданские права было разнообразным, противоречивым, включающим как пацифистов, так и радикалов, оно стало вторым большим переломом в американском политическом мышлении XX века.
С конца 1940-х годов и особенно в 1950–60-х США переживают серию политических и юридических сражений, направленных на демонтаж институционального расизма, оставшегося в наследие от эпохи рабства и Джима Кроу. Началом этого пути можно считать решение Верховного суда по делу Brown v. Board of Education (1954), в котором была признана неконституционность сегрегации в государственных школах. Эта юридическая победа не просто затронула одну сферу – она открыла шлюз массовому общественному сопротивлению, протестам, бойкотам, акциям гражданского неповиновения.
Законодательные победы последовали за уличной мобилизацией:
Civil Rights Act (1964) положил конец сегрегации в общественных местах и запретил дискриминацию по расе, полу, религии;
Voting Rights Act (1965) устранил правовые барьеры для участия афроамериканцев в выборах;
Fair Housing Act (1968) запретил дискриминацию при аренде и продаже жилья.
Эти законы стали результатом мощного давления снизу. Протесты в Бирмингеме, «Марш на Вашингтон» 1963 года, где Мартин Лютер Кинг произнёс свою знаменитую речь «I Have a Dream», сидячие забастовки, бойкоты автобусов – всё это стало инструментом демократического насилия в буквальном смысле слова: не кровавого, а мобилизующего, дисциплинирующего, морально наступательного. Это была демократия в действии, стремящаяся реализовать те принципы, которые формально уже были закреплены Конституцией, но не применялись.
Однако юридическое равенство – не то же самое, что социальное признание и участие в общественных благах. Уже к концу 1960-х годов движение за гражданские права начинает раскалываться. Одна его часть продолжает линию Мартина Лютера Кинга, то есть стратегию мирных реформ и морального давления, а другая – радикализуется, утверждая, что правовая интеграция не равна социальной справедливости.
Так появляются Black Power, Нация Ислама, Партия Чёрных Пантер. Эти движения уже не про интеграцию, а про аутентичность, автономию и сопротивление системной эксплуатации. Они утверждали: «Белая Америка не даст свободу добровольно. Мы должны создать свои инструменты». Именно здесь начинает формироваться дискурс идентичности как политического оружия.
Переход от универсалистской модели гражданского равенства к политике идентичности (identity politics) был поворотным моментом. Он стал интеллектуальной основой для левого прогрессивизма, который позже начнёт включать в свои ряды и феминистские движения, и ЛГБТ-активизм, и иммигрантские права. Модель борьбы за права одного конкретного сообщества оказалась масштабируемой – она стала универсальной формулой левополитического давления: «Мы как группа имеем исторически обусловленное угнетение – значит, имеем право на признание, защиту, компенсацию и голос».
Для левых прогрессистов XX века государство было объектом давления, но не субъектом спасения. Для прогрессистов XXI века – оно должно быть агентом исторической компенсации. Это различие коренится в опыте движения за гражданские права. Если в 1950–60-х годах государство воспринималось как часть репрессивной машины, которую надо заставить соблюдать её же законы, то в более поздней интерпретации – как инструмент, который обязан перераспределять символический и материальный капитал в пользу исторически обездоленных групп.
Поэтому сегодняшние левые апеллируют не столько к Конституции, сколько к моральному долгу общества перед теми, кто был исключён из общего блага. Это – риторика не равенства возможностей, а равенства результатов. С этого начинается отход от классической либеральной логики – и приближение к прогрессивной, в которой понятия «репарации», «привилегия», «инклюзия» становятся центральными.
Важным аспектом движения за гражданские права была символическая борьба за моральное превосходство. Убийства протестующих, атаки полицейских с собаками на школьников, фото из Бирмингема и Сельмы стали визуальными доказательствами аморальности системы. Борьба происходила не только на улицах и в судах, но и в головах аудитории – в телеэкранах, газетах, публичной риторике.
Позднее прогрессивное движение унаследует эту традицию: создание морального давления через культуру, академию и медиа. Именно в этом истоки так называемого «морального мейнстрима», при котором идеи левых оказываются доминирующими в университетах, кино, публицистике, несмотря на то, что формально у власти могут находиться консерваторы. Эта парадоксальная сила – возможность задавать правила «допустимой морали» – уходит корнями в эпоху гражданских протестов, когда движение за равенство сумело подорвать легитимность репрессивной системы, не захватывая ни Белый дом, ни Конгресс.
Таким образом, движение за гражданские права стало мостом от рузвельтовского социал-либерализма к новому левому мышлению, где:
справедливость > свободы;
признание групповой идентичности > абстрактного гражданства;
моральное давление > институционального компромисса.
Если Новый Курс учил, что бедный белый заслуживает помощи, то движение за гражданские права сформулировало, что системно угнетаемый чёрный заслуживает признания и компенсации. Это стало основой всей будущей политики прогрессивистов, от affirmative action до идеологии «diversity, equity, inclusion».
Если движение за гражданские права было борьбой за равенство в рамках существующего порядка, то «новые левые» (New Left) 1960-х годов бросили вызов самому характеру этого порядка. В этих новых интеллектуальных, студенческих и культурных волнениях Америка впервые за XX век услышала: «Проблема не в том, что система несправедлива по отношению к отдельным группам – проблема в самой системе». Это было бунтарство не только против консерватизма, но и против устоявшегося либерализма – против «высокой» политики, прагматизма, капиталистической рациональности. Иными словами, если старые левые (Old Left) боролись за экономическое перераспределение, то новые левые требовали антропологического перерождения.
1960-е годы стали эпохой интеллектуального и культурного сдвига, в которой происходила не просто борьба за права, но и смена онтологии субъекта: кто такой человек, что значит быть свободным, что справедливо, а что нет, кто имеет право говорить и от чьего имени. Эти вопросы врывались в кампусы, в медиа, в музыку, в манифесты – и формировали новую политическую чувствительность, чьё эхо слышно и сегодня в каждом твите, в каждом протесте, в каждой кампании по отмене.
Формально термин «новые левые» был популяризирован в 1960 году благодаря манифесту «Порт-Хьюронское заявление» (Port Huron Statement), составленному радикальным крылом организации Students for a Democratic Society (SDS). В этом документе содержалась программная критика как советского авторитаризма, так и американского капитализма. SDS отказывались от ортодоксального марксизма, считая его устаревшим и бюрократизированным, но при этом не принимали и либеральную модель умеренного прогресса.
Центральной идеей была борьба за «подлинную демократию», за контроль над институтами снизу, за участие каждого в управлении обществом. Это был антибюрократический, антиавторитарный левый протест, построенный вокруг университетов, субкультур, антивоенных акций и молодёжной идентичности.
Эти молодые интеллектуалы отказывались принимать мир «отцов» – с его войной во Вьетнаме, расизмом, патриархатом, репрессивной сексуальностью и скучным либерализмом. Они не хотели быть просто «гражданами» – они хотели быть живыми субъектами изменения истории. Это была революция чувствительности, формы и тела, а не только политической структуры.
Война во Вьетнаме стала лакмусовой бумагой моральной легитимности США и одновременно – катализатором новой левизны. Для либералов эпохи Кеннеди война была стратегическим ответом на коммунизм. Для новых левых – это был империалистический, бесчеловечный, лживый акт насилия, в котором раскрылась истинная сущность американской государственности.
Антивоенные протесты превращаются в политическую риторику поколения. Они обрастают символикой, музыкой, философией, акционизмом. Сжигание призывных повесток, массовые митинги, лозунги «Make Love, Not War» и «Hell No, We Won’t Go» становятся частью новой эстетики сопротивления. Эти выступления объединяли не только студентов, но и интеллигенцию, артистов, религиозных деятелей и даже некоторых ветеранов.
Именно в этой борьбе вырабатывается ключевая черта будущего прогрессивизма – моральное превосходство над институтами, апелляция не к законам и партиям, а к совести, к человеческому достоинству. Бунт становится не столько политическим, сколько экзистенциальным актом – выражением внутренней истины против лжи внешнего порядка.
Одним из наиболее радикальных следствий культурной революции стала смена парадигмы феминизма. Если первая волна боролась за формальные права (избирательное, трудовое), то феминизм второй волны (1960–70-е гг.) начал разрушать само представление о женственности как социальном конструкте. Манифесты Бетти Фридан, журнал Ms., организация NOW (National Organization for Women) и кампании за право на аборт стали частью общего леворадикального брожения, в котором гендер рассматривался не как биологический факт, а как политическая структура угнетения.
Сексуальная революция (контрацепция, легализация абортов, декриминализация гомосексуальности, критика института брака) не была побочным эффектом 1960-х. Она была центром культурного сдвига, напрямую сопряжённым с левой повесткой. Именно здесь возникает знаменитый лозунг «The personal is political» – личное есть политическое. Прогрессивизм перестаёт быть сугубо политическим движением – он вторгается в сферу интимного, идентичности, быта, языка, эмоций.
Культурная революция не ограничивалась университетами и митингами. В музыку, кино, театр, литературу проникает новая, антибуржуазная энергия. Рок-фестивали становятся политическими актами. Песни Боба Дилана, Джоан Баэз, The Doors, Jefferson Airplane – это не просто музыка, а форма гражданского выражения, протест против «Америки корпораций».
Появляется битничество, хиппи, психоделическая эстетика, утопии любви, свободы, отказа от собственности. Всё это отрицает основополагающие нормы американской жизни: протестантскую трудовую этику, патриотизм, институциональное доверие, гетеронорму, культ семьи. Взамен – поиск аутентичности, опыта, трансового освобождения, деконструкции «нормальности».
Контркультура была не второстепенной, а мягкой силой прогрессивной революции. Через неё происходила популяризация левых идей, а также символическая делегитимация традиционного порядка, особенно среди молодёжи. Отсюда – переход к культурной гегемонии в будущие десятилетия, даже в условиях политических поражений.
Параллельно с культурными протестами происходит и интеллектуальный сдвиг, задающий основу для будущего радикального левого мышления. Особенно важен вклад Герберта Маркузе, представителя Франкфуртской школы, автора «Эроса и цивилизации» и «Одномерного человека».
Маркузе утверждал, что либеральное общество создало иллюзию свободы, в которой человек – не субъект, а потребитель, подчинённый тотальной системе подавления. Именно сексуальность, творчество и отказ от репрессий могут освободить личность. Маркузе стал интеллектуальным кумиром Новых левых, связав радикальную критику капитализма с вопросами культуры, тела, желания.
Эти идеи были подхвачены и развиты в 1970–80-е годы в рамках постструктурализма и постмодерна – Фуко, Деррида, Лакан, Делёз, Бодрийяр. Они выработали новый язык критики власти, в котором угнетение – это не просто экономика, а язык, знание, нормы, представления. Это было второе дыхание Новых левых, уже на философском уровне.
К 1970-м годам культурная революция сходит на нет. Общество устало от беспорядков, движений становится слишком много, они фрагментируются. Власть захватывают консерваторы – сначала Никсон, потом Рейган. Начинается откат, неолиберализм, реванш корпоративного мышления. Но – и это важно – культурная революция выиграла бой за умы, если не за институты.
Левые проиграли в политике, но выиграли в культуре. Их идеи проникли в кампусы, медиа, литературу, кино, язык. К 1990-м годам они стали нормой в академии и в сознании интеллигенции несмотря на то, что у власти формально были правые.
Это – парадокс, с которого начинается современный прогрессивизм: политическое меньшинство, обладающее культурной гегемонией. Именно отсюда родится феномен BLM, cancel culture, diversity politics, студенческих протестов за safe space – все они являются интеллектуальными потомками Новых левых и 1960-х годов.
РАЗДЕЛ II. ОТ МАРКУЗЕ ДО ПОСТМОДЕРНА И КРИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
Если культурная революция 1960-х была практической бурей, то ее интеллектуальное небо затянули теоретические молнии, разряды которых до сих пор определяют ландшафт прогрессивной мысли. Для понимания современного левого прогрессивизма важно не только рассматривать уличные протесты или политические инициативы, но и изучить те интеллектуальные парадигмы, которые сформировали его мировоззренческий фундамент. Эти парадигмы зародились в трудах философов и социологов середины XX века – от Герберта Маркузе и Жана-Поля Сартра до постструктуралистов, критических теоретиков и гендерных мыслителей.
Сегодняшние темы идентичности, власти, языка, угнетения и деконструкции нормы имеют философские корни, без понимания которых невозможно осмыслить современный американский прогрессивизм. Это не просто политика, это онтология – взгляд на человека, общество и смысл.
Герберт Маркузе, представитель Франкфуртской школы, стал, пожалуй, главным философом «новых левых», интеллектуальным мостом между марксизмом и контркультурой. Его книга "Одномерный человек" (1964) стала манифестом разочарования в либерально-капиталистическом обществе. Маркузе утверждал, что современный индустриальный капитализм создаёт не просто неравенство, а однородность мышления, в которой вся критика подавляется через встроенные механизмы потребления и комфорта.
В системе, по Маркузе, человек больше не революционер, а потребитель, чьи желания заранее сформированы системой. Даже мнимо «свободные» институты (медиа, образование, право) работают на стабилизацию угнетения. Поэтому освобождение не может быть достигнуто реформами – оно должно затронуть сам способ жизни, язык, желания.
Особую роль в его философии играли молодёжь, маргиналы и сексуальные меньшинства, как группы, еще не полностью интегрированные в подавляющую систему. В отличие от ортодоксального марксизма, который уповал на рабочий класс, Маркузе видел в них носителей революционного потенциала.
Таким образом, основополагающий тезис прогрессивизма – «угнетение встроено в нормы» – уходит корнями именно в маркузианскую логику: угнетение не обязательно физическое или экономическое, оно может быть культурным, символическим, бессознательным.
Во Франции, параллельно с американским протестом, оформлялся интеллектуальный бунт против просвещенческого разума. Философы Жак Деррида, Мишель Фуко, Жиль Делёз, Жан Бодрийяр отвергали представление о единой истине, универсальном субъекте и рациональности как нейтральной категории. Это течение получило название постструктурализм, а позднее – постмодерн.
Фуко утверждал, что власть не существует где-то «снаружи» – она встроена в знание, язык, науку, медицину, право. Не бывает «объективной» истины – есть режимы истины, поддерживающие определённый порядок. Его исследования тюрем, больниц, сексуальности и безумия показали, как гуманистические институты используются для дисциплинирования тел и умов.
Деррида пошёл дальше, предложив идею деконструкции – аналитической стратегии, которая показывает, как любая система мышления полна противоречий, исключений, подавленных альтернатив. Любой текст, любая норма, любое высказывание – уязвимы, если их тщательно проанализировать. Эти идеи стали философским фундаментом критики идентичности, языка, нормальности, на которых базируются современные феминистские, квир- и антирасистские теории.
Таким образом, современный прогрессивизм черпает силу не в утопии «правильного» общества, как марксизм, а в перманентном разоблачении структур, которые считают себя «естественными» и «нормальными».
Параллельно с постструктуралистским сдвигом развивается и эволюция критической теории – особенно в американских университетах. Если ранняя Франкфуртская школа сосредотачивалась на классе и экономике, то её американские наследники (в 1980–2000-х годах) перефокусировались на расе, гендере, сексуальности, культуре, языке и психологии.
Это стало частью новой волны радикального академизма, оформившегося в таких направлениях как:
Критическая расовая теория (Critical Race Theory) – идея, что расизм – это не просто предрассудок отдельных людей, а встроенная в систему норма, поддерживаемая институтами права, образования и политики.
Феминистская теория третьей волны – акцент на пересечении (intersectionality), т.е. пересечении различных форм угнетения: женщина, небелая, бедная – сталкивается с тройным барьером.
Квир-теория – утверждение, что сексуальность и гендер – не биологически обусловлены, а являются социальными конструкциями, которые можно размывать, переформулировать, отвергать.
Все эти теории выросли на фундаменте постструктуралистской философии и маркузианской критики нормальности. Их объединяет общий тезис: структуры власти невидимы, но всепроникающи, и поэтому борьба должна вестись не только за реформы, но и за контроль над языком, представлениями, символами.
К 1990-м годам американские университеты – особенно гуманитарные факультеты – становятся инкубаторами и катализаторами нового левого мышления. Курсы по gender studies, ethnic studies, queer theory входят в мейнстрим. Формируется новый язык академической легитимности, в котором прогрессивные теории преподносятся как не просто политическая альтернатива, а единственно морально допустимая форма знания.
Этот академический прогрессивизм часто отвергает либеральный плюрализм как форму скрытого угнетения: «выслушивать обе стороны» – значит ставить на одну доску истину и насилие, доминирующего и угнетённого. Отсюда – современные кампании против платформирования «опасных» спикеров, за создание safe spaces, за контроль языка (например, использование местоимений по желанию субъекта).
Постепенно формируется новая интеллектуальная норма: мир делится не на правых и левых, а на угнетающих и угнетённых, и любая социальная практика должна быть переосмыслена сквозь эту призму.
Интеллектуальные истоки прогрессивизма дали ему уникальную особенность: он не просто политическая идеология, а проект по переустройству самого представления о человеке, справедливости, знании и реальности. Это делает его особенно стойким к критике: оспорить прогрессивизм – значит, с его точки зрения, оспорить саму мораль, саму человечность.
В отличие от либерализма, который апеллирует к компромиссу, или от консерватизма, который защищает традиции, прогрессивизм – это идеология разоблачения, направленная на вскрытие и подрыв глубинных основ общества. В этом его сила и его уязвимость.
Став интеллектуально доминирующим в университетах, он начал распространяться через журналистику, искусство, кино, активизм, школы. Его победа не была политической, а культурной. Он стал языком новой элиты, особенно городской и образованной.
РАЗДЕЛ III. ПОЯВЛЕНИЕ ПЕРВЫХ «ИНКЛЮЗИВНЫХ» ДВИЖЕНИЙ
Если гражданские движения середины XX века боролись за равенство перед законом, а новые левые 1960-х – за структурную трансформацию общества, то начиная с 1970-х годов в американском политическом ландшафте появляется третий тип движения. Его цель – инклюзия: не просто равные права, не просто разрушение репрессивных структур, но признание специфической идентичности как легитимной и защищённой.
Именно в этот период формируется то, что в XXI веке станет ядром прогрессивной политики: концепция identity politics, то есть политики, выстраиваемой не вокруг универсальных категорий (класс, нация, гражданство), а вокруг групповой принадлежности – по признаку расы, пола, сексуальной ориентации, этничности, инвалидности, гендера и т.д. Это движение стремилось не к равенству по модели «мы такие же», а к институциональному признанию различий как ценных и нуждающихся в защите.
Постепенно в общественном сознании утверждается мысль: не все формы угнетения одинаково видимы, и не все субъекты имеют равный доступ к универсальным правам. Например, закон может быть формально «слеп» к расе, полу или сексуальности, но общественные и культурные структуры всё равно воспроизводят неравенство.
Прогрессивная мысль начала утверждать: справедливость – это не только отсутствие дискриминации, но и признание уникального опыта и различий. Именно в этот момент и появляется концепция identity politics – политической практики, основанной на принадлежности к угнетаемой социальной группе, а не на универсальном человеческом статусе.
Это мышление можно охарактеризовать тремя сдвигами:
От универсального к партикулярному: универсальность подвергается критике как инструмент навязывания одной нормы (западной, белой, мужской) всем остальным.
От равенства к признанию: если раньше требовали равного обращения, то теперь – активного признания различий как политической и моральной ценности.
От прав к голосу: ключевым становится не просто доступ к институтам, а право говорить от имени собственного опыта – говорить о себе, за себя, своим языком.
Эта парадигма особенно заметна в речи, поведении и аргументации новых социальных движений. Например, лозунг «Black Lives Matter» не говорит «All Lives Matter» именно потому, что универсальные формулы не улавливают специфического опыта чёрной боли, чёрного страха, чёрной уязвимости. Точно так же феминистки третьей волны заявляют: нельзя говорить просто «о женщинах», не учитывая рациональные, классовые и культурные различия между ними.
Таким образом, индивидуальный или коллективный опыт становится политическим ресурсом. Его невозможно оспорить – он «принадлежит» субъекту. Поэтому кто говорит – становится важнее, чем что он говорит. Это ведёт к новой форме аргументации: «как чернокожая женщина я…», «как небинарный человек я…», – где легитимность формируется через принадлежность к идентичности, а не через универсальное рассуждение.
Это радикально меняет условия политической дискуссии. Если либерализм строится на предположении, что истины можно достичь через разумный спор, то identity politics часто отрицает саму возможность нейтрального спора, поскольку собеседники не равны в своих позициях: одни говорят «с позиции привилегии», другие – с позиции боли.
Следствием этого становится расширение категории угнетённости. Если в XIX–XX веках под угнетением понимали лишение свободы, прав или экономических возможностей, то в новой парадигме к угнетению добавляются:
невидимость (например, отсутствие репрезентации в культуре);
стереотипизация (навязывание образов);
языковое подавление (неправильное использование местоимений, deadnaming);
институциональное доминирование (набор норм, в которых одни чувствуют себя «как дома», а другие – «в гостях»).
В итоге борьба за справедливость становится борьбой с невидимыми структурами повседневности, и требует не только реформ – но перепрошивки всей культурной матрицы.
Важно подчеркнуть: эта смена оптики переносит борьбу из сферы прав – в сферу культуры. Если движения 1960-х требовали изменений в Конституции, судебной системе, законодательстве, то identity politics требует изменений в:
языке (включая введение новых местоимений);
программах образования (переосмысление «евроцентричных» канонов);
медиаповестке (позитивная репрезентация);
корпорациях (обязательные DEI-тренинги и квоты);
интерпретации истории (деколонизация, компенсации, ревизия национальных героев).
Это означает, что сама борьба за инклюзию перестаёт быть только юридической – и становится экзистенциальной и символической. Отсюда напряжённость в современной Америке: многие правые считают это подменой либерального консенсуса новой, радикальной системой координат, в которой классическое равенство сменилось моральной и культурной иерархией уязвимостей.
Становление инклюзивных движений сопровождалось сменой риторики. Если старые протесты говорили языком закона, то новые – языком идентичности и признания. Возникает новый словарь:
«микроагрессия»,
«травма»,
«безопасное пространство (safe space)»,
«репрезентация»,
«социальная невидимость»,
«проверка привилегий (privilege check)».
Цель этих понятий – не апелляция к универсальному, а выявление структурных преимуществ одних групп и уязвимости других. Таким образом, появляется иерархия уязвимостей, где политическая легитимность определяется опытом угнетения. Чем более «интерсекционален» субъект – тем выше его моральный капитал в системе прогрессивной риторики.
На первый план выходит борьба не столько за материальные ресурсы, сколько за символическое признание. Репрезентация в кино, в школах, на обложках журналов становится не менее важной, чем доступ к социальным программам. Появляется идея институционального разнообразия (diversity), как моральной обязанности корпораций, университетов, СМИ.
Всё это логично ведёт к смене роли государства. Если в либеральной традиции государство должно быть нейтральным арбитром, то в инклюзивной парадигме оно должно быть активным агентом корректировки исторических несправедливостей. Это выражается в идеях:
позитивной дискриминации (affirmative action);
установления квот по расе, полу, ориентации;
защиты меньшинств от языка вражды (hate speech laws);
переобучения сотрудников корпораций и госорганов (DEI-практики – Diversity, Equity, Inclusion).
Так формируется то, что критики называют инклюзивной бюрократией – сеть институтов, следящих за тем, чтобы различия были признаны, защищены, продемонстрированы.
Парадокс этих движений в том, что они добились значительных успехов – и одновременно стали частью нового статус-кво, что породило новую волну критики как слева, так и справа.
Слева – часть радикалов обвиняла инклюзивные движения в потере революционного духа, в том, что они превратили борьбу в язык грантов, отчётов и симуляции разнообразия.
Справа – началось нарастание сопротивления: от критики affirmative action до борьбы с критической расовой теорией в школах, от кампаний против «гендерной идеологии» до отказа от финансирования DEI-проектов.
Тем не менее, идея инклюзии закрепилась в западном политическом и культурном поле. С начала XXI века она стала мейнстримом, особенно в Демократической партии США, в медиа, в академии. Отсюда – важное противоречие: инклюзивная политика остаётся якобы «протестной» и «прогрессивной», даже когда она институционально доминирует.
Появление инклюзивных движений завершило трансформацию прогрессивного мышления: от борьбы за права индивида – к борьбе за признание коллективной идентичности. От борьбы с конкретной дискриминацией – к созданию новой политико-моральной инфраструктуры, в которой разность – не только факт, но и ценность, требующая институционального уважения.
Эти движения заложили основу для будущих феноменов вроде Black Lives Matter, MeToo, трансгендерного активизма, студенческих протестов за моральную «безопасность» – всё это прямые потомки инклюзивной парадигмы, родившейся в 1970–80-е годы.
ГЛАВА 2. ПРОГРЕССИВИЗМ У ВЛАСТИ
РАЗДЕЛ I. ОБАМА КАК СИМВОЛ ИДЕОЛОГИИ.
На исходе бурного начала XXI века, после терактов 11 сентября, войны в Ираке и экономического кризиса, Америка подошла к моменту культурного поворота, который на Западе многие восприняли как историческое искупление. Победа Барака Обамы в 2008 году стала не просто политическим событием. Это был наративный переворот, в котором сплелись темы прогресса, инклюзии, расового примирения и новой, «мягкой» силы.
Обама был харизматичен, образован, интеллигентен, мультикультурен. Он был сыном кенийца и белой американки, выросшим в Гонолулу и частично в Индонезии, преподавал конституционное право и читал Ролза, Мартина Лютера Кинга и Фукуяму. Его риторика была универсалистской, но в ней постоянно звучала интонация моральной чуткости, типичная для нового прогрессивного мышления.
Символически его избрание означало:
победу инклюзивной Америки над расистским наследием;
подъем нового поколения, ориентированного на мультикультурализм и толерантность;
приход постидейного политика, говорящего не об экономике или классе, а о «надежде», «единстве» и «ценности каждого человека».
Он стал олицетворением прогрессивной Америки, даже если его политика не всегда ей соответствовала.
Парадокс Обамы – в рассогласовании между его символической фигурой и реальными политическими решениями. Несмотря на то что его приход во власть породил огромные надежды в леволиберальных кругах, он действовал осторожно, прагматично и часто – умеренно. Его администрация:
спасла банки, а не семьи, пострадавшие от ипотечного кризиса;
отказалась от радикальных реформ в сфере здравоохранения, остановившись на компромиссной Obamacare;
продолжила практику дроновых ударов и программ по слежке;
не провела обещанную реформу иммиграционного законодательства;
практически не затронула структурные проблемы бедности, расового неравенства, полицейского насилия.
Прогрессивные интеллектуалы начали разочаровываться уже в первые годы. Журнал The Nation писал: «Обама говорит языком движения, но действует языком института». Его либеральная оболочка прикрывала собой технократическое ядро, унаследованное от позднего клинтонизма.
Но всё же эпоха Обамы оказала огромное влияние не на экономику, а на культуру и язык. Его стиль, риторика, выбор слов, символические жесты – всё это способствовало нормализации прогрессивной чувствительности в американском общественном поле. Вот как это проявилось:
Репрезентация. Фигура чернокожего президента легитимировала активную повестку о разнообразии – в Голливуде, в СМИ, в корпорациях, в университетах
Легитимация новых тем. Обама впервые публично говорил о трансгендерных людях, о системном расизме, об исторических травмах, об угрозе изменения климата – не как о маргинальных темах, а как об общенациональных.
Поддержка инклюзивных движений. Он впервые выступил в поддержку однополых браков (второй срок), усилил юридическую защиту ЛГБТ+, инициировал реформы Title IX в университетах, касающиеся сексуального насилия и гендерной дискриминации.
Перезагрузка языка власти. При нём в политическом мейнстриме начали звучать такие выражения, как «white privilege», «microaggression», «diversity hiring», «implicit bias».
Появилась целая новая гвардия молодых прогрессивных интеллектуалов и политиков, вдохновленных не его делами, а его стилем – Алессандра Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Джамал Боуман и др.
Критики справедливо отмечали, что Обама часто выступал не как реформатор, а как пастор. Его культовое «Yes We Can» – это риторика мобилизации, за которой не всегда следовали действия. Он говорил языком новой Америки, но действовал в логике старого эстеблишмента. Однако его присутствие в Белом доме радикально изменило восприятие самого поля возможного.
Он доказал, что прогрессивный дискурс может стать культурной нормой, даже если политическая система по-прежнему находится под влиянием крупного капитала, лоббизма и институционального консерватизма. Этот разрыв между моральным символизмом и политическим реализмом стал впоследствии источником сильного когнитивного напряжения в американской демократии.
Сильные стороны
Слабые стороны
Легитимизация прогрессивной чувствительности
Отсутствие структурных реформ
Расширение тем идентичности в политике
Компромиссность с корпоративным истеблишментом
Рост активизма среди молодёжи
Рост разочарования у радикального крыла движения
Начало институциональной инклюзии
Консервативный реванш, приведший к Трампу в 2016
Эпоха Обамы была, по сути, временем надежды на обновление, но не временем его реализации. Она создала иллюзию прогресса, за которой прятались структурные противоречия: между глобализмом и национальной идентичностью, между мультикультурализмом и локальной бедностью, между «новыми» и «старыми» американцами.
Именно при Обаме начал формироваться идеологический ландшафт будущих политических баталий. На первый план вышли темы:
системного расизма;
языка ненависти;
инклюзивного образования;
трансгендерной репрезентации;
роли корпораций в социальной справедливости.
Всё это стало минным полем американской политики 2010-х годов, по которому в будущем пройдёт тяжёлая поступь Дональда Трампа. Но и успехи движения Black Lives Matter, и рост левого крыла Демпартии, и кризис белого среднего класса – все они начались именно тогда, в эпоху Обамы, когда прогрессивизм впервые посмотрел на страну с вершины власти.
РАЗДЕЛ II. ПРОГРЕССИВНЫЙ КРЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
История Демократической партии – это история метаморфоз. Когда-то она была партией тяжёлого труда, угольной пыли и профсоюзных собраний, сегодня – это политический флагман Google, Гарварда и Netflix. Этот переход не был мгновенным. Он развивался десятилетиями – болезненно, с конфликтами и отторжениями, но в итоге полностью переформатировал её политическую идентичность.
Когда-то Демпартия ассоциировалась с Фрэнклином Рузвельтом и «Новым курсом», Джоном Кеннеди и профсоюзной солидарностью, Линдоном Джонсоном и «Великой обществом». Это была партия экономического популизма, рассчитанного на работяг из Детройта, шахтёров из Западной Вирджинии и портовых грузчиков из Нью-Джерси.
Но в XXI веке партия радикально изменилась. Сегодня её бэкграунд – это университетские городки, цифровые гиганты Кремниевой долины, урбанизированные элиты, прогрессивная молодёжь и культурные институции, вроде Netflix, New York Times и университетов Лиги Плюща.
Главная причина – структурные изменения в экономике. С 1970-х годов началась деиндустриализация Америки. Производство переносилось в Мексику, Китай, Юго-Восточную Азию. Страны, выигрывающие от глобализации, вливали товары в США, где потребление оставалось, а рабочие места исчезали.
Крупные заводы в Мичигане, Огайо, Пенсильвании начали закрываться. Белый рабочий класс – ядро Демократической партии XX века – терял всё: стабильную работу, профсоюзы, пенсионную систему и, главное, уверенность в будущем. А партия, вместо того чтобы стать выразителем их боли, постепенно переключила внимание на другие группы, прежде всего – на городские и образовательные элиты.
Параллельно с упадком традиционного рабочего класса шёл бум высшего образования. Если в 1960-х только 10% американцев имели степень бакалавра, то к 2020 – уже более 35%. Это сформировало новый тип избирателя: образованный, урбанизированный, потребляющий медиа, ориентированный на ценности, а не только на доход.
Этот слой – преподаватели, аспиранты, ИТ-специалисты, студенты, научные сотрудники, креативный класс – оказался естественным союзником прогрессивной повестки: он с недоверием относился к религии, требовал признания разнообразия, интересовался климатом, гендером и правами меньшинств. Именно он стал новым «мотором» Демократической партии.
Третий фактор – альянс с новой буржуазией хай-тека. Кремниевая долина – Facebook, Google, Apple, Amazon – были воспитаны в университетской среде, и их ценностный код ближе к профессору социологии, чем к нефтяному магнату из Техаса.
Хотя эти корпорации – по своей сути олигополии, не менее хищные, чем банки Уолл-стрит, их пиар и внутренняя культура окрашены в либеральные и прогрессивные тона. Они финансируют инициативы по расовому разнообразию, платят за климатические проекты, продвигают квоты для женщин и ЛГБТ-сотрудников, поддерживают BLM, проводят DEI-обучения.
Это позволило Демпартии войти в симбиоз с новой элитой: она получает финансирование, контроль над цифровыми платформами, репутационную защиту, а взамен предлагает моральную легитимацию корпоративного прогрессивизма.
Ушли:
Белые рабочие из Индианы, Огайо, Висконсина.
Католические латиноамериканцы второго поколения.
Религиозные чернокожие в южных штатах.
Мужчины среднего возраста без высшего образования.
Пришли:
Студенты и аспиранты;
Молодые городские профессионалы;
ЛГБТ-сообщество и союзные им активисты;
Афроамериканские женщины;
Восточноазиатская урбанизированная молодёжь;
Прогрессивные белые из образованного среднего класса.
Это социологически другой электорат: не столько «пострадавшие», сколько «морально озабоченные»; не столько «требующие хлеба», сколько – уважения и признания различий.
Новая коалиция изменила не только политику – но и саму грамматику Демократической партии:
Раньше
Сейчас
«Jobs, jobs, jobs»
«Justice, equity, inclusion»
«Мы восстановим производство»
«Мы защитим идентичности»
«Средний класс – опора нации»
«Меньшинства – сердце прогресса»
«Америка – для всех»
«Америка – для всех, кого исключали»
Речь сместилась от универсального и материального – к партикулярному и моральному. Это не хорошо и не плохо – это факт. И он вызвал болезненный культурный конфликт внутри страны.
Однако у такого перехода есть обратная сторона:
Культурная изоляция. Новая элита, будь то профессор, стартапер или журналист, живёт в пузыре – географически, ментально, лексически. Они не понимают, как живёт страна «вне побережий», где людям важно не местоимение, а цена на бензин.
Языковой барьер с народом. Когда политика становится языком университетского семинара, значительная часть избирателей теряет к ней доступ – и интерес. Для многих она начинает звучать как моральное поучение.
Отчуждение от базовой экономики. Рабочие и мелкие предприниматели чувствуют: «Они больше не про нас. Они – про климат, расу и пол. А я – белый, христианин, без диплома – и теперь я не часть их Америки».
Превращение Демократической партии в партию кампусов и хай-тека стало триумфом прогрессивной чувствительности – и одновременно открыло фланг для мощной правой реакции. Ведь если один полюс забирает себе моральную повестку, другой обязательно отыграется на языке безопасности, патриотизма и традиции.
Таким образом, партия, рождённая в битвах за труд и солидарность, оказалась в 2020-х партией символов, университетов и программного кода. Она перестала быть народной – и этим самым дала шанс Трампу стать голосом заброшенного большинства.
Экономическая политика Демпартии при Обаме и особенно после него перестала быть чисто классической левой. Да, звучали предложения о росте минимальной заработной платы, доступном здравоохранении и помощи студентам, но сами риторические акценты сдвинулись.
Прогрессивная экономика больше не говорила языком классовой борьбы. Она говорила языком моральной ответственности:
«Экономика должна работать для всех, а не только для богатых» – звучит не как классовая мобилизация, а как этический упрёк.
Миллениалы и зумеры – основной актив Демпартии – не столько требуют перераспределения, сколько справедливости, компенсаций, «перепрошивки» системы.
Внутри партии при этом возник раскол:
Либеральный центр
Прогрессивное крыло
Джо Байден, Пит Буттиджич, Хиллари Клинтон
Берни Сандерс, Элизабет Уоррен, AOC
Эволюционные реформы
Структурная перестройка
Союз с корпорациями
Антикорпоративная повестка
Страх перед социализмом
Открытое использование слова "socialism"
Пример: Берни Сандерс в 2016 и 2020 годах говорил не об «инклюзии», а о системной несправедливости, вызванной концентрацией капитала. Однако партийный истеблишмент дважды не допустил его к номинации. Тем не менее его идеи (медицина для всех, бесплатное образование, налоги для миллиардеров) стали частью нового языка партии – даже если не политической программы.
Парадокс: партия усилила прогрессивную риторику, но осталась институционально зависимой от крупных доноров и корпораций, особенно в сфере технологий и финансов.
Если политическая борьба – это борьба за власть, то культурная борьба – это борьба за то, что считать нормальным, справедливым, допустимым и прогрессивным. Демократическая партия США в XXI веке сделала шаг за рамки традиционной политики. Она перешла в сферу культуры – и не просто как участник, а как архитектор нового лексикона эпохи.
Это не было спонтанным или формальным процессом. Культурный крен Демпартии стал результатом медленного, но последовательного движения от материальных интересов к моральным кодам, от классовых конфликтов к идентичностям, от экономической справедливости – к лингвистической и символической.
Чтобы объяснить, что такое культурный крен, полезно представить себе, как меняется сам язык политики. В 1950-х демократ мог сказать: «Нам нужно сократить безработицу». В 2020-х демократ говорит: «Нам нужно деколонизировать университетский канон, устранить микроагрессии и ввести гендерно-нейтральную терминологию в правовых текстах».
Это не просто другая риторика. Это – новое понимание цели политики. Если раньше целью считалось перераспределение материальных благ и уравнивание шансов, то теперь – создание инклюзивного, неоскорбляющего, справедливого языка и символического пространства.
Новая прогрессивная культура исходит из постулатa: язык не просто описывает реальность – он её формирует. А значит, контроль над языком означает контроль над мышлением.
Примеры:
«Мужчина и женщина» заменяются на «люди, способные рожать» и «персоны, идентифицирующие себя как мужчины».
Слова типа «нелегальный иммигрант» считаются стигматизирующими и заменяются на «неимеющий документов».
Вместо «тучный» говорят «персона с большим телом» (body-positive терминология).
В учебных курсах всё чаще используются формулировки «исследование привилегий», «колониальное мышление», «структурное угнетение».
Язык становится полем моральной чистоты, и любое отклонение от него трактуется как признак «реакционности» или «враждебной среды».
В эпоху индустриального общества ключевой идентичностью считался класс: рабочий, буржуа, крестьянин. В постиндустриальном – это раса, гендер, сексуальность, этничность, способность (ability), психическое здоровье и т. д.
Чем больше «пересечений» идентичностей (intersections), тем выше моральный капитал – это суть теории интерсекциональности. В результате происходит:
переосмысление истории через призму «угнетённых»;
требование квот в кино, корпорациях, политике;
замена универсальных критериев (достижения, опыт) на репрезентативные (кто ты, откуда, с каким прошлым).
В политической практике это означает: успех воспринимается как результат привилегии, а не труда, а критика представителя меньшинства – как акт угнетения.
Голливуд, Netflix, издательства, медиа, музыкальная индустрия – всё это давно стало реле трансляции прогрессивной нормы. Демократическая партия не дирижирует этим оркестром, но она – его голос в политике.
В каждой второй номинации на премии – женщина-режиссёр, актёр небинарного гендера или картина о травме меньшинства.
Детские книги массово переписываются, чтобы убрать «гендерные стереотипы».
