Китайская экономика: вызовы, текущие итоги, перспективы на будущее
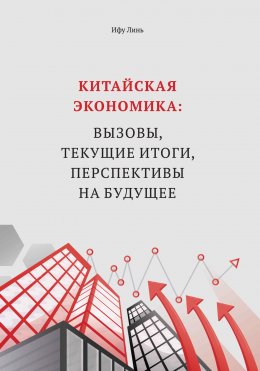
ПРЕДИСЛОВИЕ
Экономисты не должны упускать Китай – золотую жилу для исследований1
Реализация идеи великого возрождения китайской нации была общим стремлением китайской интеллигенции всех поколений со времён Опиумной войны. С момента образования Китайской Народной Республики и особенно в последние четыре десятилетия реформ и открытости экономическое развитие Китая стало беспрецедентным чудом в истории человеческой экономики. Китай превратился из традиционно отсталой в сельскохозяйственном отношении страны в крупную индустриальную страну и вторую по величине экономику мира. ВВП (валовой внутренний продукт) на душу населения вырос с менее чем одной трети среднего показателя беднейших стран Африки к югу от Сахары до 10 000 долларов США, а в 2025 году, как ожидается, превысит 12 700 долларов США. Реализация цели великого возрождения народа станет первым чудом веков в истории человеческой цивилизации, которая начиналась в расцвете, заканчивалась упадком и вновь расцветала. Новые теории возникают на основе новых явлений, и чудо развития Китая не может быть объяснено существующими теориями, но является золотой жилой для инноваций в области экономической теории, которую необходимо разрабатывать глубже.
Всемирный экономический центр и мастера экономики всегда шли рука об руку
В 1776 году Адам Смит опубликовал работу «Богатство народов», после чего экономика отделилась от философии и стала самостоятельным разделом общественных наук. Ближе к 1930-м годам столица мировой экономики находилась в Великобритании, и большинство экономистов, которые разрабатывали мировые экономические теории, происходили из этой страны; а ближе ко второй половине Второй мировой войны центр всемирной экономики переместился на территорию США, так что многие великие мастера экономики являются выходцами уже из этой страны.
Причина такого генеративного совпадения экономических центров и экономических гуру заключается в том, что любая теория представляет собой простую логику причинно-следственных связей. Как же определить, какие теории важны? Является ли экономист, предложивший теорию, хорошим экономистом? На самом деле, важная теория – это теория, объясняющая важное явление, а экономист, предложивший важную теорию, – важный экономист. Что же такое важные явления? Важное явление – это явление, происходящее в важной стране.
В 1776 году, когда была опубликована книга «Богатство народов», в Великобритании уже началась промышленная революция. Перед Первой мировой войной Британия была центром мировой экономики, британские экономические явления были самыми важными явлениями в мире, а теории, объясняющие британские явления, были самыми важными экономическими теориями. С точки зрения понимания британских экономических явлений британские экономисты были близки к воде (Имеется в виду цитата из китайской поговорки: «Терем, находящийся близ воды, раньше встречает восход луны». – Прим, ред.), поэтому, когда центр мировой экономики находился в Британии, она стала центром исследований в мировой экономике, и гуру, возглавившие новое направление мышления в мировой экономической теории, также были сосредоточены в Британии.
После Первой мировой войны центр мировой экономики постепенно переместился в США. К концу Второй мировой войны экономика США составляла почти половину мировой экономики, а экономические явления, происходящие в США, стали наиболее важными экономическими явлениями. Поэтому экономисты, предлагающие новые теории для объяснения экономических явлений в США и возглавляющие новые теоретические направления, являются либо американцами, либо иностранцами, работающими в США.
На рубеже XXI века экономический центр мира смещается в Китай: в 2014 году Китай уже был крупнейшей экономикой мира по покупательной способности, к 2030 году он станет крупнейшей экономикой мира по рыночным обменным курсам. Ак 2050 году, когда Китай станет современной социальной державой, его экономика будет вдвое больше, чем экономика США. По мере превращения Китая в центр мировой экономики он неизбежно станет важнейшим экономическим явлением в мире, а экономисты, объясняющие это явление, будут мэтрами экономики, ведущими мир к новым направлениям в экономической теории.
Новый экономический феномен в Китае нельзя объяснить «обучением у Запада»
Как максимально использовать возможности нашего времени? Новые теории возникают на основе новых явлений. Чтобы воспользоваться возможностями нашего времени, необходимо уметь непосредственно наблюдать явления, понимать их причинно-следственную логику и придумывать простые логические системы, объясняющие эти явления. Такой подход к обучению отличается оттого, чему нас долгое время учили.
Студенты в развивающихся странах, особенно в Китае, как правило, получают экономическое образование по принципу «учись у Запада» и привыкли изучать и использовать так называемые «передовые теории» развитых стран для объяснения собственных явлений и решения собственных проблем. Однако для того, чтобы Китай мог воспользоваться возможностями теоретических инноваций, открывающимися в связи с его превращением в мировой экономический центр, существующие основные теории не могут использоваться для объяснения новых явлений в Китае по принципу «посмотрим и увидим».
По мере роста масштабов китайской экономики после реформ и открытости Китая она становится всё более влиятельной в мире, и в настоящее время статьи о китайской экономике часто публикуются в ведущих международных экономических журналах. К настоящему времени в большинстве этих статей китайские данные уже используются для проверки международных данных.
Для объяснения проблем, возникающих в процессе развития и трансформации экономики Китая, принимаются мейнстримные теории или используются уже существующие мейнстримные теории. Такие исследования с большей вероятностью будут прочитаны рецензентами зарубежных журналов и, следовательно, с большей вероятностью будут приняты и опубликованы, однако такие работы лишь подтверждают существующие теории и не содержат инноваций, способных продвинуть развитие экономической теории, а экономисты, публикующие такие работы, не могут стать мастерами, ведущими новые направления в развитии теории.
С другой стороны, когда предлагаются новые теории, основанные на китайском феномене, эти теории находятся в конкурентной позиции с основными существующими международными теориями, и учёные, уже принявшие существующие теории, не сразу принимают новые теории, особенно из-за различий в этапах развития, условиях жизни, культурно-историческом окружении. Ещё труднее учёным принять теории, которые они не до конца понимают, не говоря уже о том, чтобы признать важность этих новых теорий с позиции конкуренции с феноменом.
Таким образом, даже преодолев трудности, связанные со сменой парадигмы и выдвижением оригинальных теорий, они всё равно сталкиваются с плетёными трудностями публикации. Под давлением принципа «опубликуй или погибни» многие китайские экономисты могут не устоять перед соблазном проверить существующие теории на китайских данных или объяснить китайские явления с помощью существующих теорий, тем самым упустив возможность обобщить китайские явления для теоретических инноваций.
Использование китайского пути для руководства новым направлением мировой экономической теории
Как преодолеть этот соблазн? Необходимо понять, зачем мы вообще изучаем и исследуем экономику. Для китайских интеллектуалов цель изучения и исследования теорий – «познать мир и преобразовать его», чтобы изменить к лучшему страну и общество.
Любое экономическое явление можно объяснить множеством различных теорий, а практика является высшим стандартом проверки истины; только теории, которые могут помочь людям изменить мир,– это теории, которые действительно могут помочь людям понять мир. Кажется, вполне нормально заимствовать современные господствующие экономические теории, полученные «учась у Запада».
Явления и проблемы развивающихся стран, в том числе и Китая, проанализированы достаточно полно, но каждый, кто хоть немного знаком с современной историей, знает, что практически ни одной развивающейся стране не удалось выработать политику в соответствии с теориями развитых стран. Те немногие страны, которым это удалось, такие как Япония, «четыре маленьких дракона Азии» (неофициальное название экономик Южной Кореи, Сингапура, Гонконга и Тайваня, демонстрировавших высокие темпы экономического развития с начала 1960-х до финансового кризиса 1990-х годов. – Прим, ред.) и Китай после реформ и открытости, проводили политику, которая в целом не соответствует доминирующим теориям.
Почему развивающиеся страны не смогли сформулировать политику, основанную на базовых теориях? Почему успешная политика несовершенна с точки зрения базовой теории? Как уже говорилось, основная причина заключается в том, что со времён Адама Смита центры мировых экономических исследований располагались сначала в Великобритании, а затем переместились в США. Основная теория этих центров мировых экономических исследований заключалась в изучении экономических явлений в Великобритании того времени и в США после Второй мировой войны и выведении на их основе теорий, которые имели бы простую причинно-следственную логику и могли объяснить эти явления.
Однако в каждой стране существуют тысячи социальных, экономических, политических и культурных переменных, связанных с её экономическим базисом и надстройкой, таких как стадия развития, структура промышленности, политическая система, ценностные ориентации, идеология и т.д. Только некоторые из них сохраняются в теоретических моделях, а остальные самостоятельно «отбрасываются»2 как неявные допущения теорий. Остальные переменные остаются за пределами теоретической модели. Оставшиеся переменные оказываются за пределами теоретической модели и становятся имплицитными допущениями теории. Таким образом, любая теория «встроена» в социальную, экономическую, культурную и политическую структуру страны, в которой она разрабатывается.
Когда такие «встроенные» теории применяются к развивающимся странам, не избежать того, что предположения, заложенные в них, не существуют, и что теории не могут быть адаптированы к новой ситуации, поскольку развивающиеся страны имеют отличные от развитых стран этапы развития, промышленные структуры, политическую культуру и социальные ценности. Эти теории не только не применимы к развитым странам, но и, как правило, усугубляют проблему, как это было в случае с неолиберализмом в Советском Союзе, Восточной Европе и Латинской Америке.
Поэтому, будучи интеллектуалами в современном Китае, мы не должны забывать о своих истоках и миссии.
Участники класса и групп изучают и исследуют экономические теории не только для собственной работы, но и для того, чтобы внести свой вклад в модернизацию страны и осуществление национального возрождения. В этом и состоит цель теоретических инноваций в условиях новой структурной экономики.
Новая структурная экономика – это новая теоретическая система, обобщающая успехи и неудачи экономического развития и трансформации в Китае и других развивающихся странах, но в чём её главное отличие от традиционной теоретической системы мейнстрима? Если традиционные теории неявно говорят о стадии развития, об экономической, социальной и политической структуре развитых стран, то новая структурная экономика утверждает, что структура стран, находящихся на разных стадиях развития, не одинакова, и не только не одинакова, но существует причина этого структурного различия, которая, по словам экономистов, является эндогенной.
Новая структурная экономика базируется на экономике развития и экономике переходного периода. Но, вводя в свои теоретические основы структурные различия и эндогенные характеристики стран, находящихся на разных уровнях развития, она трансформирует «двухмерную» экономику, неявно предполагающую структуру развитых стран, в «трёхмерную», имеющую различную структуру в странах, находящихся на разных уровнях развития, и тем самым способствует тому, что все основные теории современной экономики, включая теории денег, финансов, фискальную теорию, теорию промышленной организации, региональную теорию, теорию рынка труда, теорию человеческого капитала и теорию инноваций, нуждаются в пересмотре, что открывает возможности для теоретических инноваций.
17 мая 2016 года Си Цзиньпин на конференции по философии и социальным наукам заявил: «Это эпоха, которая нуждается в теориях и идеях и, безусловно, может их создавать. Мы не можем провалить эту эпоху»3. Экономическая школа Пекинского университета и Институт новой структурной экономики совместно основали Экспериментальный класс новой структурной экономики для подготовки студентов к освоению теоретической системы новой структурной экономики, использованию возможностей эпохи и руководству экономической теорией Китая.
Оригинальные теоретические инновации и выдающиеся таланты возглавят новое направление развития мировой экономической теории. Структурная экономика всё ещё находится на стадии «искры», мы должны объединить усилия для продвижения теоретических инноваций и углубления применения новой структурной экономики, чтобы революция в современной экономической структуре, вызванная новой структурной экономикой, стала «пожаром». Давайте вместе поймём этот момент и будем работать над его реализацией.
ГЛАВА 1 ОТКУДА БЕРУТСЯ ДОСТИЖЕНИЯ КИТАЯ
ЗАГАДКА ДЖОЗЕФА НИДЭМА И ВОЗРОЖДЕНИЕ КИТАЯ
Загадка Джозефа Нидэма и возрождение Китая
Джозеф Нидэм ((1900 – 1995) – английский учёный широкого профиля: биохимик и эмбриолог, синолог, более всего известный исследованиями традиционной китайской цивилизации и её науки. – Прим, ред.) – учёный, которым я восхищаюсь. Загадка Джозефа: почему Китай лидировал в технологическом и экономическом развитии в досовременные времена, но сильно отстал в современности – это предмет его многолетних исследований. Главной целью было изучение возможности китайского ренессанса. Начиная с новой структурной экономики (НСЭ), третьего этапа экономики развития, которую я начал отстаивать в 2009 году, когда был главным экономистом Всемирного банка, я проанализировал эту загадку, которая преследовала меня с юности, и создал теоретическую основу и перспективу.
Согласно обширному литературному исследованию Нидэма («Наука и цивилизация в Китае». – Прим, ред.), Китай был одной из самых развитых стран в мире до начала нового времени. Однако с началом промышленной революции в Англии в конце XVIII века Китай стал быстро отставать от Запада.
Экономическая база является важным показателем силы страны. Исследования историка-экономиста Мэддисона показывают, что в 1820-х годах экономика Китая ещё составляла треть тогдашней мировой экономики, но затем быстро снизилась.
На момент создания социалистического государства в 1949 году экономика Китая составляла всего 4,2% от общемировой. К 1978 году, когда Китай начал переход от плановой экономики к рыночной, темпы экономического роста выросли лишь до 4,9%.
Согласно исследованиям Макса Вебера, в XIII – XIV веках Китай переживал расцвет промышленной революции. Некоторые учёные утверждают, что уровень развития технологий текстильной промышленности в период правления династии Сун был сопоставим с уровнем развития Великобритании накануне промышленной революции в XVIII веке. Однако промышленная революция в Китае не произошла, и Китай потерпел тяжёлое поражение в современной гонке. Поэтому Нидэм поставил очень сложный вопрос. Почему Китай смог с большим отрывом опередить другие цивилизации в до современную эпоху, но не смог сохранить свои лидирующие позиции в современную эпоху? Ответ на этот вопрос связан с нашими суждениями о перспективах развития Китая.
Впервые этот вопрос был поставлен Джозефом Нидэмом в 1950-х годах. В то время он не мог предположить, что всего через полвека Китай приобретёт совершенно новый облик: с момента перехода к рыночной экономике в 1978 году Китай станет страной с самой быстрорастущей экономикой в мире. К 2016 году китайская экономика выросла с 4,9% мирового ВВП до 18,6% по паритету покупательной способности. На XIX Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая генеральный секретарь Си Цзиньпин заявил: «Мы сейчас ближе к цели великого возрождения китайской нации, чем когда-либо в истории».
Здесь мне хотелось бы проанализировать следующие вопросы. Во-первых, почему промышленная революция зародилась не в Китае? Ведь именно она стала отправной точкой поражения Китая в конкуренции с Западом. Во-вторых, почему Китай так быстро развивался после 1978 года? В-третьих, почему Китай не смог достичь того экономического уровня, который был у него до 1978 года? В-четвёртых, в этот период в других социалистических и несоциалистических странах также происходил переход от плановой экономики с государственным управлением к рыночной, однако у них случались экономические коллапсы, стагнации и кризисы, в то время как Китай сохранял стабильный и уверенный рост. Почему страны так сильно различаются по своим экономическим показателям, когда они переходят от одинаково плановой экономики к рыночной? В-пятых, как у монеты есть две стороны, так и у всего есть две стороны. Какую цену заплатил Китай за свой быстрый экономический рост? В-шестых, сможет ли Китай и дальше поддерживать свой быстрый рост и достичь китайского ренессанса, о котором беспокоятся китайские интеллектуалы и Джозеф Нидэм? После глобального экономического кризиса 2008 года на Китай ежегодно приходилась треть мирового экономического роста. Мировая экономика ещё не полностью оправилась от кризиса 2008 года, и в интересах всего мира поддерживать высокие темпы роста китайской экономики. Если темпы роста китайской экономики замедлятся, мировая экономика лишится локомотива роста. Это станет вызовом не только для Китая, но и для всего мира.
Почему промышленная революция не произошла в Китае
Прежде всего, необходимо понять, что подразумевается под термином «промышленная революция». Для многих людей промышленная революция означает появление парового двигателя, механизацию текстильной промышленности и распространение стали. Однако я не считаю такое определение верным. Потому что если бы в экономике появились только эти три инновации, то произошло бы лишь значительное увеличение производительности труда и не было бы устойчивого экономического развития.
Известно, что до XVIII века среднегодовые темпы роста национального дохода в западных странах составляли всего 0,05%. Это означает, что для удвоения дохода на душу населения потребовалось бы 1400 лет; с XVIII века ежегодные темпы роста национального дохода увеличились почти в 20 раз – с 0,05% до 1%, что позволило сократить время удвоения дохода на душу населения с 1400 лет до 70 лет. На Западе с середины XIX века по настоящее время темпы роста среднего национального дохода вновь удвоились и достигли 2%. Время, необходимое для удвоения доходов, также сократилось с 70 до 35 лет. Такое ускорение экономического роста связано не с использованием этих трёх новых технологий, а с быстрыми изменениями в науке и технике, благодаря которым экономический рост стал возможен в кратчайшие сроки.
Почему резко возросла скорость технологических инноваций и темпы модернизации промышленности? На мой взгляд, увеличение скорости технологических инноваций и темпов модернизации промышленности является основным и наиболее важным признаком промышленной революции.
Почему экономический рост на Западе внезапно ускорился? Я считаю, что это связано со сменой парадигмы технологических инноваций. До промышленной революции во всех обществах и цивилизациях технологические инновации возникали благодаря опыту фермеров и ремесленников. После промышленной революции, начиная с середины XVIII века, технологические инновации создавались в основном в результате исследований и экспериментов в лабораториях; начиная с XIX века технологические инновации стали осуществляться путём экспериментов, а затем и экспериментов, основанных на научных теориях. Эта смена парадигмы оказала фундаментальное влияние на Китай и весь мир.
До XVIII века инновации основывались на мастерстве и опыте, и в этом отношении Китай имел преимущество. Плодородные земли и благоприятный климат Китая очень хорошо подходили для сельскохозяйственного производства, что позволяло прокормить большое население. Большая численность населения означала также, что в Китае было больше крестьян и ремесленников, чем в любой другой стране, которые накапливали опыт и способствовали инновационному и экокомическому развитию китайского общества. Древние цивилизации, не только в Китае, но и в Древнем Египте и Древней Индии, зарождались на территориях с плодородной почвой в бассейнах великих рек. Именно поэтому Китай в прошлом был передовым. Однако когда инновации приобретаются эмпирическим путём, большая численность населения теряет своё преимущество. Ведь учёные могут проводить в своих лабораториях сотни и тысячи экспериментов в год, на которые у крестьян или ремесленников ушла бы целая жизнь.
Однако революция в области технологических инноваций стала результатом другой революции – научной революции XV и XVI веков. Научная революция позволила людям получать знания путём экспериментов. Даже если новая технология будет изобретена путём экспериментов, через некоторое время она, скорее всего, столкнётся с препятствиями в процессе внедрения. Одним из вкладов научной революции было то, что научные исследования расширили наши знания о мире природы и позволили преодолеть препятствия на пути технологических инноваций, что, в свою очередь, привело к появлению новых технологических изобретений. Этот новый экспериментальный метод технологических инноваций, основанный на науке, является результатом научной революции. Поэтому, если мы хотим ответить на вопрос, почему промышленная революция не произошла в Китае, мы должны сначала ответить на вопрос, почему научная революция не произошла в Китае.
Суть научной революции заключается в использовании математических моделей для обобщения законов мироздания и функционирования природы, а также в проверке гипотез, полученных на основе математических моделей, с помощью контролируемых экспериментов. Почему Китай до сих пор не открыл этот новый способ понимания того, как устроен мир? Для того чтобы произошла научная революция, необходимо любопытство к природным явлениям и очень просвещённое население. Любопытство и просвещённость в отношении природных явлений – это врождённые способности, и в Китае с его большим населением должно быть больше людей с такими способностями. Почему же эти гении не открыли новые и лучшие способы изучения природных явлений?
Моё объяснение связано с китайской социально-политической системой. В Китае существовала уникальная система императорских экзаменов, при которой простолюдины могли подняться в правящий класс. В традиционных обществах стать чиновником было почётной и наиболее высокооплачиваемой работой. Успех стать чиновником был очень привлекателен для широких слоёв населения. Начиная с династии Сун, китайская экзаменационная система требовала от кандидатов знания «Четырёх книг» и «Пяти классических произведений конфуцианства», поэтому талантливые молодые люди погружались в изучение конфуцианской классики для подготовки к императорским экзаменам. У них не было желания изучать математику или проводить контролируемые эксперименты. Таким образом, в Китае не хватало ни человеческого капитала, ни любознательности, и научная революция не состоялась.
По сравнению с Китаем, на Западе нет империалистической системы экзаменов и нет социальных причин, препятствующих талантливым людям изучать математику и проводить контролируемые эксперименты. Гении, интересующиеся природными явлениями, удовлетворяли своё любопытство с помощью математики и контролируемых экспериментов, создавая научную революцию. Без местной научной революции не было бы и местной промышленной революции.
Когда императорский экзамен стал национальной системой отбора талантов, математика стала одним из экзаменационных предметов. Однако позже император понял, что люди, хорошо владеющие математикой, бесполезны, и что преданность императору важнее. Конфуцианство в большей степени способствует развитию таланта, верности императору и патриотизма. Согласно конфуцианской философии, чтобы быть джентльменом, нужно быть добрым к другим, любить вещи и быть преданным императору. Даже если небо высоко, а император далеко, нужно быть строгим к себе и хранить верность императору. Таким образом, даже в условиях отсталости до современных информационных и управленческих технологий конфуцианское учение и императорская система испытаний позволили Китаю сохранить великое единство и политическую стабильность.
Империалистическая экзаменационная система, основанная на конфуцианстве, является институциональной инновацией. В прошлом, когда информационные технологии управления отставали, это было хорошо. Однако для математических исследований и управленческих экспериментов, ставших ключевыми для научной революции, такая институциональная схема была непригодна.
После научно-промышленной революции, проведённой Западом, Китай быстро превратился из наиболее развитой страны в наименее развитую. Одна из моих любимых цитат о сравнении китайской и западной экономик и обществ принадлежит господину Карло М. Чиполле в работе «Европейское общество и экономика до промышленной революции 1000 – 1700 гг.» (Before the Industrial Revolution: European Society and Economy 1000 – 1700). Согласно последнему предложению книги, в период с 1000 по 1700 год н. э. западный мир был в основном аграрным и находился в состоянии «тёмных веков». В этот период Запад был беднее и более отсталым, чем Китай. Однако начиная с XVIII века ситуация изменилась на противоположную. По мере быстрого роста экономической, военной и политической мощи Запада Китай, как и другие развивающиеся страны мира, был подавлен англичанами и другими западными державами и превратился в полуколониальное, полуфеодальное общество. Это и стало результатом того, что в Китае не произошла промышленная революция.
Почему Китай расцвёл после 1978 года
Как возродить Китай? Над этим вопросом упорно бьётся интеллектуальная элита современного Китая. После Опиумной войны китайская интеллигенция испробовала различные методы, включая вестернизацию, внедрение технологий, наращивание военной мощи, свержение монархии путём революции, начало нового демократического и научного культурного движения и построение социалистического государства. Однако до реформ 1978 года Китай оставался бедной и отсталой страной. Почему же Китай так быстро развивался после 1978 года? В течение 38 лет после реформы и открытости Китай поддерживал среднегодовые темпы роста ВВП на уровне 9,6%, а темпы роста торговли – 14,8%. Сохранение таких высоких темпов роста в течение столь длительного периода времени – это чудо, невиданное в истории человеческой экономики. В результате быстрого роста Китай в 2009 году обогнал Японию и стал второй по величине экономикой мира, а в 2010 году обогнал Германию и стал крупнейшим мировым экспортёром, а также получил звание «мировой фабрики».
После промышленной революции Великобритания стала мировой фабрикой. Затем настала очередь США, Германии, Японии, а теперь и Китая: в 2013 году Китай обогнал США и стал крупнейшей торговой державой мира; в 2014 году Китай стал крупнейшей экономикой мира по паритету покупательной способности. Почему последние 40 лет были столь преобразующими? Если Джозеф Нидэм сейчас переосмыслит вопросы, связанные с перспективами Китая, то, возможно, родится новая «загадка Джозефа Нидэма».
Почему Китай смог так быстро развиваться после 1978 года? Мой ответ очень прост: быстрый рост Китая после 1978 года был обусловлен тем, что Китай был «поздней страной». Экономическое развитие означает устойчивый рост ВВП на душу населения и доходов на душу населения, который зависит от устойчивого роста производительности труда. Как этого можно достичь? С точки зрения новой структурной экономики, необходимы устойчивые технологические инновации в существующих отраслях, появление новых отраслей с высокой добавленной стоимостью и перераспределение всех трудовых ресурсов из отраслей с низкой добавленной стоимостью в отрасли с высокой добавленной стоимостью. Быстрые технологические инновации и модернизация промышленности стали возможны только после промышленной революции.
Что касается передовых стран с высоким уровнем доходов, то их технологии и промышленность занимают передовые позиции в мире со времён промышленной революции. Что означает технологическая инновация для развитых стран? Это означает технологическое изобретение. Что такое модернизация промышленности? Это также изобретение новых отраслей промышленности. Изобретение требует значительных капиталовложений и сопряжено с большими рисками. Эмпирические данные показывают, что с середины XIX века среднегодовые темпы роста ВВП стран с высоким уровнем дохода, включая Великобританию, страны Западной Европы и Северной Америки, составляли около 3%.
Развивающиеся страны, желающие увеличить свои доходы, также должны повышать производительность труда. Помимо изобретения новых отраслей и технологий, развивающиеся страны могут заимствовать у стран с высоким уровнем дохода зрелые технологии, которые лучше тех, что они используют в настоящее время, или войти в зрелые отрасли с более высокой добавленной стоимостью, чем в их нынешних отраслях. Такие технологии и промышленные образцы значительно снижают затраты и риски на инновации и модернизацию промышленности. Если развивающиеся страны смогут в полной мере использовать эти преимущества, они смогут развиваться быстрее, чем уже развитые страны.
После Второй мировой войны в мире было всего 13 стран, которые смогли преодолеть своё технологическое и промышленное отставание от развитых стран и продолжали расти в среднем на 7% и более в год в течение более чем 25 лет. Китай входит в число этих 13 стран с 1978 года. Таким образом, исходя из понимания сути промышленной революции, ответ на второй вопрос достаточно прост. Разрыв в доходах между развивающимися и высокодоходными странами подразумевает технологический и промышленный разрыв. Если развивающиеся страны смогут в полной мере использовать возникающие в результате такого неравенства преимущества в области технологических инноваций и модернизации промышленности, то они смогут добиться быстрого роста.
Почему развитие Китая до 1978 года шло медленно
Преимущество «опоздавших» существовало в течение столетия до 1978 года. Этот разрыв сохранялся и рос со времён британской промышленной революции. В начале XVIII века на долю Китая по-прежнему приходилась треть мирового ВВП. Однако к 1949 году эта доля снизилась до 4,2%, что означало увеличение разрыва между Китаем и развитыми странами, а к 1978 году она составила всего 4,9%. Преимущество опоздавшего должно было существовать всегда, но почему Китай не воспользовался им до 1978 года? Мой ответ тоже прост: потому что Китай добровольно отказался от этого преимущества.
После поражения Китая в Опиумной войне главной темой стало великое возрождение китайской нации: в 1949 году была создана Китайская Народная Республика, и Китай стал политически независимым. Стремление государства в то время заключалось в том, чтобы как можно быстрее догнать развитые страны. Стратегия китайского правительства того времени заключалась в том, чтобы «превзойти Великобританию и догнать США». Такая ориентация на развитие означала, что Китай сразу же стремился создать такие же передовые, капиталоёмкие, крупномасштабные производства, какие были в то время в Великобритании и США. Однако эти передовые отрасли были защищены патентами, и за их внедрение приходилось платить большие роялти. Более того, поскольку эти отрасли связаны с национальной обороной и безопасностью, развитые страны не желают платить патентные отчисления, даже если бы захотели. Поэтому, если Китай хочет развивать эти отрасли, ему придётся изобретать их самостоятельно, тем самым потеряв преимущество опоздавших.
В то время Китай был крайне бедной сельскохозяйственной страной, не имевшей сравнительных преимуществ в капиталоёмких отраслях. В бедном капиталом Китае инвестиционные затраты были гораздо выше, чем в богатых капиталом развитых странах. Предприятия таких отраслей не могут самопроизвольно развиваться на рыночных принципах в развивающихся странах, поскольку они не могут сами развиваться в условиях открытого конкурентного рынка. Для создания таких отраслей требуется прямое привлечение и распределение ресурсов, а также всевозможная защита и помощь путём вмешательства и искажения рынка. Однако искажения, связанные с государственным вмешательством в рынок, неизбежно приводят к неправильному распределению ресурсов, и такой подход к развитию привёл к тому, что в 1960-х годах в Китае были проведены испытания атомных бомб, а в 1970-х – запущены спутники, однако общая эффективность развития Китая оставалась низкой. С 1949 по 1978 год доля Китая в мировой экономике выросла всего с 4,2 до 4,9%.
В 1978 году Китай изменил стратегию своего развития, перейдя на развитие трудоёмких отраслей в соответствии со своими сравнительными преимуществами. Экономика начала быстро развиваться после того, как государство воспользовалось ситуацией для создания конкурентных преимуществ, завоевания внутренних и внешних рынков, накопления капитала и изменения сравнительных преимуществ с целью использования отстающих в модернизации отраслей и технологий.
Почему другие страны с переходной экономикой переживают экономический коллапс, стагнацию и постоянные кризисы?
Однако такой анализ создаёт ситуацию, в которой приходится делать выбор. После Второй мировой войны все страны социалистического лагеря следовали сталинской модели капиталоёмкого развития. Страны, не входившие в социалистический лагерь, например, страны Латинской Америки, Южной Азии и Африки, также мечтали о том, чтобы при первом поколении политических лидеров вырваться из колониальных и полуколониальных стран и превратить свои страны в современные индустриальные государства с высокими доходами. Поэтому в 1950 – 1960-е годы страны всех социальных типов прибегали к прямой государственной мобилизации и распределению ресурсов с целью развития крупной капиталоёмкой промышленности на базе аграрной экономики. Но их неспособность использовать преимущества «опоздавших» и слабое государственное вмешательство привели к увеличению разрыва с развитыми странами.
В 1980 – 1990-е годы, когда Китай начал переход от плановой экономики к рыночной, другие развивающиеся страны также находились в процессе перехода к рыночной экономике. Однако этот переход проходил под сильным влиянием господствовавших в Великобритании тэтчеризма, американского рейганизма и неолиберализма. В то время преобладало мнение, что низкие экономические показатели развивающихся стран объясняются чрезмерным вмешательством государства в их экономику. Развивающиеся страны не имели такой развитой системы рыночной экономики и защищённых прав собственности, как страны с высоким уровнем доходов. Поэтому в то время предлагалось применить радикальную «шоковую терапию» для создания зрелой рыночной экономики и улучшения экономических показателей, способствуя приватизации, либерализации, рыночной и финансовой стабилизации, а также устранения всех видов государственного вмешательства в экономику и создания здоровой рыночной экономики. Многие страны следовали этой стратегии преобразований, но результатом этого стали коллапс, стагнация и кризисы.
Экономические показатели развивающихся стран в 1980 – 1990-е годы были даже хуже, чем в 1960 – 1970-е годы, с более низкими среднегодовыми темпами роста и более частыми кризисами, что позволило некоторым экономистам назвать 1980 – 1990-е годы «потерянными двумя десятилетиями» для развивающихся стран. Почему так произошло? Причина в том, что неолиберализм не смог осознать, что искажающий эффект государственного вмешательства в рынок заключается в защите компаний в капиталоёмких отраслях, которые не могут самостоятельно выжить на открытом конкурентном рынке. Если отменить все защитные субсидии, эти фирмы не смогут выжить и будут вынуждены обанкротиться. Если государство допустит банкротство предприятий, это приведёт к массовой безработице и нестабильной социально-политической ситуации. В таких условиях экономика не сможет развиваться. Кроме того, некоторые передовые капиталоёмкие отрасли тесно связаны с вооружёнными силами и обороной страны, и государство не допустит банкротства этих предприятий, если они будут приватизированы, в целях обеспечения национальной безопасности, как это происходит в России сегодня. Поэтому после приватизации государство будет продолжать защищать и субсидировать эти предприятия. Когда эти предприятия находились в государственной собственности, их руководителями были государственные служащие, которые говорили правительству: «Мы не выживем без защитных субсидий». Но в условиях защитных субсидий государства возрастает коррупционная составляющая.
Когда предприятия приватизируются, у них появляется больше стимулов добиваться от государства защитных субсидий, и чем больше субсидий они получают от государства, тем более законно и естественно они кладут деньги себе в карман. Коррупция, основанная на ренте, стала ещё хуже, а производительность труда ниже, чем до переходного периода. Неолиберализм имел благие намерения, но он привёл к экономическому краху, стагнации и постоянным кризисам.
Как же Китаю удалось сохранить стабильность и добиться быстрого роста в переходный период? В Китае была принята другая стратегия перехода – двухколейный постепенный переход. Китай пошёл по «новому» и «старому» пути, предоставляя субсидии на защиту в переходный период компаниям, которые не могли быть самодостаточными в традиционных капиталоёмких базовых отраслях, и либерализируя доступ к трудоёмким отраслям на основе сравнительных преимуществ. Изначально развитие инфраструктуры в Китае сильно отставало, а развитие инфраструктуры было очень важно для трудоёмких отраслей со сравнительными преимуществами, чтобы получить конкурентное преимущество на международном рынке. Однако одновременное развитие инфраструктуры по всей стране было невозможно. Поэтому в Китае создаются особые экономические зоны (ОЭЗ) и индустриальные парки, где будет развиваться новая инфраструктура. В Китае было много искажений и слабая деловая среда. Поэтому правительство ввело комплексное обслуживание в специальных экономических зонах и индустриальных парках. По данным Всемирного банка,по показателям бизнес-среды Китай занимал одно из последних мест в мире. Однако для компаний, инвестирующих и работающих в ОЭЗ и индустриальных парках, условия ведения бизнеса в Китае являются одними из самых высоких в мировом рейтинге. В условиях двухколейной прогрессивной реформы Китай сохранил стабильность и эффективно использовал своё преимущество позднего инвестора для достижения быстрого экономического роста. Это различие в эффективности преобразований, обусловленное различными стратегиями.
Что я хочу сказать сейчас, так это то, что в 1980 – 1990-е годы основным международным мнением было то, что если мы хотим перейти от плановой экономики к рыночной, то должны прибегнуть к «шоковой терапии», а двухколейная система считалась наихудшим способом преобразований. В ретроспективе то, что считалось лучшим способом, оказалось худшим, а худший способ – лучшим.
Издержки быстрого экономического роста
Китая Ценой постепенного перехода Китая к двухколейной системе стали коррупция и неравенство доходов. Поскольку традиционные капиталоёмкие отрасли требуют государственных субсидий для их защиты, эти субсидии генерируют экономическую ренту, что приводит к коррупции, направленной на получение ренты, и тому, что бедные субсидируют богатых. Например, традиционные отрасли являются капиталоёмкими, и стоимость капитала имеет решающее значение. В начале переходного периода Китай был экономикой, бедной капиталом, так как же правительство субсидировало эти отрасли? Одним из способов финансирования капиталоёмких отраслей было использование крупных банков и фондового рынка для вливания в них дешёвых денег: в 1980-х и 1990-х годах эти компании не только имели доступ к большим объёмам капитала, но и пользовались искусственно заниженными процентными ставками и стоимостью финансирования на фондовом рынке. Первоначально все предприятия были государственными, но в условиях двухколейной системы многие частные фирмы быстро влились в новый сектор. Сегодня многие предприятия являются крупными. Став крупными, они могут получать кредиты в банках, а также привлекать средства на фондовом рынке. Владельцы этих крупных предприятий богаты, а финансируются они за счёт сбережений простых фермеров, семей, малых и средних предприятий (МСП), которые не могут получить кредиты в крупных банках или на фондовом рынке. Они вкладывают свои сбережения в финансовую систему, получают искусственно заниженные банковские процентные ставки и доходность фондового рынка и субсидируют богатых, владеющих этими крупными корпорациями. Бедные субсидируют богатых, что, естественно, усиливает неравенство доходов. В то же время, чтобы получить эти кредиты и листинги, крупные компании подкупают государственных чиновников, которые имеют право решать, кто получит кредиты и листинги, что приводит к широкомасштабной коррупции. Это только один пример, а есть ещё множество других, включая искажающие налогообложение и роялти на ресурсы, монополии в телекоммуникационном, электроэнергетическом и финансовом секторах и получаемые ими монопольные прибыли, а также обусловленное ими рентоориентированное поведение.
Как можно решить эти проблемы?
В 1980 – 1990-е годы, когда капиталоёмкие отрасли утратили свои сравнительные преимущества и предприятия уже не могли самостоятельно генерировать доход, защитные субсидии для компаний были желанным облегчением и прагматичным подходом, необходимым для поддержания экономической стабильности. Однако, поддерживая среднегодовые темпы роста ВВП на уровне 9,6% на протяжении почти четырёх десятилетий, Китай превратился из страны с низким уровнем дохода в страну со средним уровнем дохода: ВВП на душу населения в 2016 году составил 8100 долларов США, капитал превратился из относительно дефицитного в относительно изобильный, а те отрасли, которые раньше были крупными и капиталоёмкими, теперь стали сравнительным преимуществом Китая, и компании смогли выжить в условиях открытого и конкурентного рынка. При правильном управлении эти предприятия должны иметь возможность получать приемлемую норму прибыли на рынке. Характер защитных субсидий изменился с «оказания помощи в случае необходимости» на «предоставление привилегий». Если раньше государственные субсидии на защиту были необходимостью, то сегодня они являются привилегией. Конечно, для бизнеса привилегии важны. Но для общества это означает политическую и социальную цену. Реформы должны идти в ногу со временем и устранять всевозможные вмешательства в рынок и искажения, унаследованные от двойной системы защиты и субсидирования капиталоёмких предприятий. Третий пленум ЦК КПК 18-го созыва в 2013 году призвал к всестороннему углублению реформ, предложив «настаивать на решающей роли рынка в распределении ресурсов и усилить роль государства». Было принято решение обеспечить решающую роль рынка в распределении ресурсов. Это решение означает, что для Китая настало время устранить все искажения. Если Китай сможет это сделать, то он сможет устранить коренные причины коррупции и неравенства доходов и наконец построить хорошо функционирующую рыночную экономику.
Сохраняется ли в Китае потенциал для быстрого роста?
Есть ли у Китая ещё потенциал для быстрого роста? Согласно предыдущим анализам, это зависит оттого, насколько велик технологический разрыв между Китаем и странами с высоким уровнем доходов. Как измерить технологический разрыв? Я думаю, что лучший способ – это посмотреть на разрыв в ВВП на душу населения. ВВП на душу населения отражает средний уровень технологического развития, поскольку представляет собой среднюю производительность труда в стране. Согласно исторической статистике, опубликованной Ангусом Мэддисоном, в 2008 году ВВП на душу населения в Китае составлял 21% от ВВП на душу населения в США, рассчитанного по паритету покупательной способности.
Такими же темпами росли Япония в 1951 году, Сингапур в 1967 году, Тайвань (Китай) в 1975 году и Корея в 1977 году. Эти четыре восточноазиатские страны входят в число упомянутых ранее 13 стран после Второй мировой войны, в которых среднегодовые темпы роста превышали 7% в течение 25 лет подряд. Учитывая, что ВВП на душу населения в этих четырёх странах Восточной Азии составлял 21% от ВВП США, они воспользовались своим преимуществом «опоздавших», чтобы достичь среднегодовых темпов роста в 8 – 9% в течение 20 лет. С точки зрения преимущества «опоздавших» Китай имеет потенциал для достижения среднегодовых темпов роста в 8% в течение 20-летнего периода, начиная с 2008 года.
В период до 2028 года Китай имеет потенциал для многолетнего среднегодового роста в 8% в год. Однако потенциал – это только возможность. Чтобы превратить эту возможность в реальность, Китаю необходимо углубить внутренние реформы, устранить различные перекосы, унаследованные от двухколейной системы, и обратить внимание на внешнюю среду мировой экономики, которая находится вне контроля Китая. После кризиса субстандартной ипотеки в США в 2008 году мировая экономика замедлилась, и темпы роста, скорее всего, будут оставаться вялыми в течение длительного периода времени. Тем не менее, если Китай будет раскрепощать свой разум, искать истину в фактах, использовать благоприятные внутренние условия и продолжать структурные реформы в сфере предложения, я уверен, что в течение следующего десятилетия Китай будет поддерживать темпы роста на уровне не менее 6%. Что означает темп роста в 6%? В 2016 году доля Китая в мировой экономике составила 18,6% по паритету покупательной способности (ППС) и 14,9% по рыночному обменному курсу. Темпы роста в 6% означают, что на Китай приходится около 1% мирового экономического роста в год. В настоящее время темпы роста мировой экономики составляют около 3%, при этом на Китай ежегодно приходится около 30% мирового экономического роста. В ближайшее десятилетие Китай будет оставаться локомотивом роста мировой экономики.
Таким образом, до XVIII века Китай с его многочисленным населением имел то преимущество, что технологические инновации генерировались на основе опыта крестьян и ремесленников. Когда парадигма технологического прогресса сменилась с накопления опыта на эксперименты, основанные на научных данных, Китай стал быстро отставать. Система имперских экзаменов и конфуцианство способствовали сохранению социально-политической стабильности и сплочённости Китая, но препятствовали смене парадигмы технологического прогресса. В результате тот факт, что Китай отстаёт от Запада, означает, что у него есть преимущество «опоздавшего», чтобы догнать Запад в экономическом плане.
Однако до начала реформ 1978 года Китай, как и большинство других развивающихся стран, не нашёл способа ускорить своё экономическое развитие, используя своё преимущество «опоздавших». Только после 1978 года Китай встал на правильный путь. Однако из- за недостаточной самостоятельности большого числа традиционных капиталоёмких предприятий тяжёлой промышленности переход от плановой экономики к рыночной мог быть осуществлён только путём раскрепощения и реалистичного продвижения двухколейной системы, позволяющей сохранить экономическую и социальную стабильность и одновременно обеспечить мощное экономическое развитие. Только освободив сознание и прагматично продвигая двухколейную систему, Китай сможет обеспечить мощное экономическое развитие и переход от плановой экономики к рыночной. Я считаю, что если Китай и дальше будет придерживаться такой открытой и прагматичной позиции, то в будущем он, безусловно, сможет поддерживать относительно высокие темпы экономического развития, догнать развитые страны и реализовать мечту о великом возрождении китайской нации.
Опыт развития Китая заслуживает изучения другими развивающимися странами. Все развивающиеся страны стремятся стать странами с высоким уровнем дохода. Когда я работал во Всемирном банке, я объездил весь мир и обнаружил, что лидеры развивающихся стран в целом разделяют те же амбиции, что и лидеры Китая, стремясь модернизировать и индустриализировать свои страны, но они идут по неверному пути. Они всегда берут за основу страны с высоким уровнем дохода и шаг за шагом подражают теориям, концепциям и практике стран с высоким уровнем дохода, и, несмотря на все усилия, результаты оказываются неудовлетворительными. Поэтому я предложил новый тип структурной экономики. Согласно этой разновидности структурной экономики, развивающиеся страны должны исходить из того, что они имеют, то есть из имеющихся у них в каждый момент времени факторных ресурсов, и из того, что они могут делать хорошо, то есть из своих сравнительных преимуществ, и помогать своим предприятиям делать хорошо и становиться сильнее в условиях рыночной экономики под активным руководством правительства. Страны с низким уровнем дохода, богатые трудовыми и природными ресурсами, но бедные капиталом, должны развивать отрасли, соответствующие их сравнительным преимуществам. Эти страны должны воспользоваться ситуацией под руководством государства, чтобы превратить потенциальные сравнительные преимущества своих отраслей в национальные конкурентные преимущества. Проводя экономические преобразования и исправляя различные перекосы, вызванные неправильной политикой прошлого, правительства должны прагматичными методами поддерживать политическую и социальную стабильность. Если развивающимся странам удастся это сделать, то они смогут эффективно использовать своё преимущество «опоздавших» и поддерживать высокие темпы экономического роста в среднем на уровне 8% или даже 10% в год в течение нескольких десятилетий, что позволит им превратиться из стран с низким уровнем дохода в страны со средним или даже высоким уровнем дохода.
Помимо создания огромного внешнего рынка в развитых странах, если люди из развивающихся стран смогут найти работу в своих странах, это также будет способствовать развитию и социальной стабильности развитых стран, так как не будет массовой нелегальной иммиграции из Африки и других стран с низким уровнем доходов, как это происходит сейчас на Западе.
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА КИТАЯ?5
Тема «Что движет экономикой Китая» была поднята в связи с тем, что после реформ и открытости в 1978 году экономика Китая продолжает быстро расти. 40 лет назад Китай был третьей беднейшей страной в мире. По данным Всемирного банка, в 1978 году ВВП на душу населения в Китае составлял всего 156 долларов США, что меньше трети среднего показателя для стран Африки к югу от Сахары. Однако с 1978 года Китай кардинально изменился.
В период с 1978 по 2017 год валовой внутренний продукт (ВВП) Китая рос в среднем на 9,5% в год. Это беспрецедентный случай в истории человечества, когда бедная страна с большим населением достигает таких высоких темпов экономического роста в течение столь длительного периода времени. При таких темпах роста ВВП на душу населения в Китае в 2017 году превысил 8,8 тыс. долларов. За последние 40 лет из бедности вырвалось более 700 млн человек.
В перспективе ожидается, что к 2025 году ВВП на душу населения в Китае достигнет 12 700 долларов, и он станет третьей по величине экономикой после Тайваня и Южной Кореи, превратившейся из экономики с низким уровнем доходов в экономику с высоким уровнем доходов со времён Второй мировой войны.
Что именно стало причиной быстрого экономического роста
Китая за последние 40 лет? Как экономист я могу объяснить, что неустанные усилия китайского народа по улучшению своей жизни, предприимчивость предпринимателей, использующих любую возможность для получения прибыли, и стремление китайских государственных чиновников всех уровней «служить народу всю жизнь и работать в интересах одной партии» во время пребывания на своём посту, несомненно, объясняются кропотливой работой по достижению процветания под руководством Коммунистической партии Китая (КПК). Однако такая динамика существовала в Китае задолго до 1978 года, а также в равной степени присутствует и в других странах.
В качестве главного экономиста Всемирного банка я посетил многие страны Африки, Латинской Америки, Центральной и Южной Азии. Там люди разделяют одну и ту же волю и желания, предприниматели и социальная элита – одну и ту же мудрость и стремление, а правительства хотят внести свой вклад в процветание своих стран. Поэтому действительно важный вопрос заключается не в том, что является движущей силой экономического развития Китая, а в том, что способствовало его быстрому росту в течение последних 40 лет. Чтобы ответить на этот вопрос, я считаю необходимым представить свою теорию экономического развития, то есть новую структурную экономику (НСЭ). С моей точки зрения, экономическое развитие означает, конечно же, устойчивый рост доходов. Этого можно достичь только путём последовательных структурных изменений, включая непрерывные технологические инновации и модернизацию промышленности для повышения уровня производительности труда, а также постоянное совершенствование жёсткой и мягкой инфраструктуры для снижения транзакционных издержек. Только в этом случае производительность труда и уровень доходов рабочих и фермеров будут продолжать расти, а их жизнь – улучшаться.
Эти структурные изменения требуют от предпринимателей конкуренции на рынке, поиска новых источников прибыльного роста и принятия на себя рисков, внедряя новые технологии и развивая новые отрасли. В то же время роль государства крайне важна. Государство должно создавать необходимые стимулы для предпринимательской деятельности и обеспечивать необходимую жёсткую и мягкую инфраструктуру для новых отраслей, чтобы снизить транзакционные издержки и превратить их в конкурентные преимущества на рынке.
Одним словом, я считаю, что экономический рост – это результат органичного сочетания эффективных рынков и отзывчивых правительств, играющих свою роль.
Эта формула применима не только к развивающимся странам, таким как Китай, но и к странам с высоким уровнем дохода, таким как США и страны Европы. Разница заключается в том, что технологии и отрасли стран с высоким уровнем дохода уже занимают передовые позиции в мире, а разработка новых технологий и создание новых отраслей промышленности требуют самостоятельных инноваций, что сопряжено с большими инвестициями и рисками. Для развивающихся стран с низким уровнем дохода технологические инновации и модернизация промышленности могут позволить им с меньшими затратами и рисками использовать уже отработанные технологии и отрасли развитых индустриальных стран и развиваться быстрее, чем развитые страны. После Второй мировой войны 13 экономик мира нашли рецепт использования этого потенциала, достигнув темпов роста более 7% в год и 25-летнего экономического развития, в том числе и Китай с 1978 года.
Поэтому достижения Китая за последние 40 лет реформ и открытости объясняются рядом факторов, и преимущество «опоздавших» – один из очень важных факторов. Теперь, когда Китай стал страной с уровнем дохода выше среднего, где находится новый импульс для экономического развития в будущем? Многие отрасли в Китае уже занимают передовые позиции в мире. Эти отрасли, как и отрасли в развитых странах, получили новые технологии и продукты, необходимые для развития, благодаря самостоятельным исследованиям и разработкам. Однако в 2017 году ВВП на душу населения в Китае составлял более 8,8 тыс. долларов по сравнению с примерно 60 тыс. долларов в США. Иными словами, между промышленностью и технологиями Китая и развитых стран, таких как США, по-прежнему существует большой разрыв. В будущем необходимо использовать независимые инновации в качестве движущей силы развития, а также учиться, изучать и идти в ногу с направлением научно-технического развития, чтобы способствовать экономическому развитию.
Таким образом, Китай имеет потенциал для того, чтобы расти быстрее развитых стран, превысить уровень стран со средним уровнем дохода и войти в число стран с высоким уровнем дохода. Насколько велик этот потенциал? Мы проанализировали возможности Китая в период до 2030 года достичь темпов роста в 6% и более при благоприятных условиях внутреннего роста. К этому времени Китай также станет крупнейшей экономикой мира по рыночному обменному курсу, ежегодно внося 30% и более в мировой рост.
По мере превращения Китая в страну с высокими доходами и крупнейшую экономику мира его ответственность перед миром становится всё более тяжёлой, поскольку, развиваясь сам, он также должен будет помогать развиваться другим развивающимся странам.
Как экономист я считаю, что движущие силы экономического роста в каждой стране во многом одинаковы: люди хотят жить лучше, предприниматели – развивать свои навыки и создавать больше богатства, а правительства – процветать. Однако большинству стран не удалось выбраться из ловушки среднего или даже низкого уровня доходов. В этом и заключается суть проблемы: аналогичное развитие событий наблюдалось в Китае до 1978 года, но ситуация была не столь благоприятной, и в 1978 году Китай всё ещё оставался третьей беднейшей страной мира.
Согласно анализу новой структурной экономики, для эффективного использования инициативы народа, предпринимателей и правительства для достижения экономического процветания необходимо создать почву для развития предпринимательства посредством рыночной конкуренции, и в то же время правительство должно постоянно совершенствовать жёсткую инфраструктуру и мягкую институциональную среду в соответствии с потребностями экономического развития, чтобы дать предприятиям возможность развиваться и расти. Это необходимо. Если в прежних экономических теориях и практиках акцент делался либо на роли государства, либо на роли рынка, то в новой структурной экономике на основе обобщения успешного и неуспешного опыта Китая и других развивающихся стран делается акцент на органичном сочетании «эффективных рынков и эффективных государств», что позволит ликвидировать бедность и достичь процветания во всех странах. Идея состоит в том, чтобы найти выход для стран, всё ещё погрязших в ловушке низкого и среднего уровня доходов, привнести идеи развития, помочь им избавиться от бедности и осуществить мечту о процветании. В этом заключается ответственность Китая как мировой державы и его величайший вклад в глобальную экономику.
ОБЗОР 40-ЛЕТНЕГО РАЗВИТИЯ ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КИТАЕ
Чудо китайской экономики и развитие частного хозяйства за 40 лет реформ и открытости
В 1978 году ВВП на душу населения в странах Африки к югу от Сахары составлял 490 долларов, а в Китае – менее одной трети от этого показателя. В то время 81% населения Китая проживал в сельской местности, 84% – менее чем на 1,25 доллара в день, а экспорт и импорт составляли лишь 4,1% и 5,6% ВВП соответственно, или в общей сложности 9,7%. Иными словами, более 90% национальной экономики Китая того времени не соответствовало мировой экономике, а отправная точка развития была настолько низкой, что сегодня её невозможно себе представить. С 1978 по 2017 год темпы роста ВВП Китая составляли в среднем 9,5% в год, что было беспрецедентным и не имело аналогов в экономической истории человечества, и превзошло все ожидания.
Товарищ Дэн Сяопин был движущей силой китайских реформ и открытости, и в самом начале своей пропаганды реформ и открытости он выдвинул задачу «четырёхкратного роста» экономики за 20 лет.
Это означает, что среднегодовые темпы экономического роста Китая должны составлять 7,2%. Согласно популярной в то время в международной экономике теории «естественных темпов роста», любой стране в обычных условиях очень сложно достичь темпов роста в 7%, за исключением периода восстановления после войны или крупного стихийного бедствия, когда темпы роста в 7% и выше могут быть достигнуты в течение двух-трёх лет. Вместо 20-летнего среднегодового темпа роста в 7,2% Китай достиг 39-летнего среднегодового темпа роста в 9,5%. Если исходить из 39-летнего среднегодового темпа роста в 7,2%, то китайская экономика сегодня в 15 раз больше, чем в 1978 году. В нашей стране среднегодовой темп роста экономики за 39 лет составил 9,5%, а размер нашей экономики сегодня в 34 раза больше, чем в 1978 году.
За последние 40 лет реформ и открытости торговля Китая развивалась быстрыми темпами. Статистика показывает, что за последние 39 лет среднегодовые темпы роста китайского импорта и экспорта достигли 14,5%. Если в 1978 году общий объём торговли составлял всего 9,7% ВВП, то сегодня он превышает 30%. Степень открытости страны обычно измеряется долей торговли в ВВП, которая в экономической науке называется «торговой зависимостью». По показателю «торговая зависимость» Китай имеет самый высокий показатель среди всех крупных стран с населением более 100 млн человек.
В результате устойчивого и быстрого экономического роста в 2009 году Китай обогнал Японию, став второй по величине экономикой мира; в 2010 году объём китайского экспорта превысил объём экспорта Германии, при этом кардинально изменился состав экспортируемой продукции: в 1978 году более 75% китайского экспорта составляли сельскохозяйственные или переработанные сельскохозяйственные продукты, а в настоящее время более 97% экспорта составляют промышленные товары, поэтому Китай известен на международном уровне как мировая фабрика, основа мировой обрабатывающей промышленности. В 2013 году общий объём торговли Китая превысил объём торговли США, что сделало его крупнейшей торговой державой мира. В 2014 году общий объём ВВП Китая превысил объём ВВП США, что сделало его крупнейшей экономикой по паритету покупательной способности. В 2017 году ВВП на душу населения в Китае составил 8 800 долларов США, что позволяет отнести страну к верхнему уровню среднего дохода, а к 2025 году, по общему мнению, Китай станет страной с высоким уровнем дохода, и ВВП на душу населения будет превышать 12 700 долларов США. Согласно статистике, после Второй мировой войны из более чем 200 развивающихся стран мира только двум удалось превратиться из стран с низким уровнем дохода в страны с высоким уровнем дохода, причём одной из них является Тайвань, а другой – Южная Корея.
К 2025 году Китай, вероятно, станет третьей страной в этом списке. В настоящее время только 15% населения мира проживает в странах с высоким уровнем дохода, но если Китай станет страной с высоким уровнем дохода, то эта доля увеличится с 15 до 34%.
При этом более 700 млн человек в нашей стране превысили международную черту бедности в 1,25 доллара на душу населения в день, внеся существенный вклад в глобальное сокращение бедности. После Второй мировой войны все развивающиеся страны сосредоточили свои усилия на экономическом развитии. Такие международные организации, как Всемирный банк, Международный валютный фонд и Программа развития ООН, прилагают все усилия, чтобы помочь развивающимся странам и странам с формирующейся рыночной экономикой развивать свою экономику и сокращать масштабы бедности, причём вклад Китая в глобальное сокращение бедности превысил 70%.
За 40 лет, прошедших с момента начала реформ и открытости в Китае, он стал единственной страной в мире, не пережившей финансового кризиса. Мало того, когда разразился мировой финансовый кризис, экономическое развитие Китая внесло значительный вклад в восстановление мировой экономики. В 1997 году разразился восточноазиатский финансовый кризис, и во всём мире считалось, что экономика стран Восточной Азии никогда не восстановится. Однако на самом деле в 2000 году восточноазиатские страны вернулись к прежнему быстрому уровню развития, главным образом потому, что юань не обесценился и обеспечил стабильную опору для восточноазиатских экономик, а Китай сохранил высокие темпы роста в 8% во время восточноазиатского финансового кризиса, эффективно стимулируя восстановление экономики в соседних странах. Международный финансовый кризис, разразившийся в 2008 году, по своим масштабам не уступал Нью-Йоркскому биржевому краху 1929 года, ввергшему мировую экономику в десятилетнюю депрессию. Китай как ответственная крупная экономика немедленно принял агрессивную фискальную политику, известную как «пакетный план». Рост возобновился в первом квартале 2009 года, другие страны с развивающимися рынками вернулись к росту во втором квартале, а страны с развитой экономикой смогли прекратить отрицательный рост в третьем квартале. Мы все очень гордимся этим вкладом.
За 40 лет реформ и открытости частная экономика Китая достигла весьма удовлетворительных результатов. С 1978 года по настоящее время частная экономика прошла путь от нуля до малых и крупных предприятий. Статистика показывает, что в 1978 году на долю системы собственности всего народа приходилось 80,8% структуры национальной экономики Китая, а на долю системы коллективной собственности – 19,2%. Не было ни городских, ни сельских индивидуальных хозяйств, ни частных предприятий, ни совместных предприятий, ни предприятий с иностранным капиталом.
В 1992 году, когда товарищ Дэн Сяопин совершал поездку по Южному Китаю, на долю государственной экономики приходилось 51,4% ВВП Китая, на долю коллективной экономики – 35%, на долю городской и сельской частной экономики – 7,8%, а на долю частных, совместных и иностранных предприятий – 5,8% национальной экономики, причём доля последних двух компаний составляла менее 14%. По данным Всекитайской федерации промышленности и торговли, по состоянию на конец 2017 года в Китае насчитывалось 27 263 млн частных предприятий с уставным капиталом более 165 трлн юаней, 65 793 млн частных домохозяйств, более 50% налоговых поступлений, 60% валового внутреннего продукта, инвестиций в основной капитал и нефинансовых прямых иностранных инвестиций, 70% инноваций и новой продукции, более 80% занятости в городах. Доля технологических инноваций и новой продукции составляет более 70%,доля городской занятости – более 80%, а вклад в создание новых рабочих мест – более 90%. В настоящее время частная экономика стала той основой, которая обеспечивает рост экономики Китая, стимулирует технологические инновации, увеличивает занятость и улучшает условия жизни населения. Если достижения экономического развития Китая за последние 40 лет реформ и открытости – это чудо, не имеющее аналогов в экономической истории человечества, то развитие частной экономики, несомненно, является чудом среди чудес.
Двухколейная система является важной причиной быстрого развития частной экономики и многочисленных препятствий на этом пути
Однако развитие частной экономики после реформ и открытости не было гладким и сталкивалось с проблемами «стеклянных, пружинных и вращающихся дверей», которые ограничивали развитие частной экономики. Эти проблемы и устойчивое и быстрое развитие Китая после реформ и открытости неразрывно связаны между собой, ограничивая развитие частной экономики и в то же время создавая стабильную и благоприятную среду для её развития.
Переход от плановой экономики к рыночной в Советском Союзе, Восточной Европе и других социалистических странах также позволил развить частное предпринимательство, но этот переход привёл к экономической стагнации, краху и постоянным кризисам. В 1980 – 1990-е годы социалистические страны плохо развивались в условиях плановой экономики. Преобладающая международная теория заключалась в том, что социалистические страны слабо развивались в условиях плановой экономики из-за слишком активного вмешательства государства в экономику, что привело к неправильному распределению ресурсов, коррупции, связанной с поиском ренты, и неэффективности. Вашингтонский консенсус (англ. Washington Consensus – тип макроэкономической политики, который в конце XX века рекомендовало руководство МВФ и Всемирный банк к применению в государствах, испытывающих финансовый и экономический кризис. – Прим, ред) утверждал, что в этих странах с переходной экономикой следует использовать «шоковую терапию» для продвижения приватизации, маркетизации и либерализации, создавая полноценную рыночную экономику после устранения всех помех и искажений.
Но этот метод трансформации игнорирует одну проблему: цель первоначального интервенционного искажения – защитить и субсидировать тяжёлую промышленность, которая является очень капиталоёмкой, технологически развитой и крупномасштабной. Эти «передовые» отрасли в нарушение своих сравнительных преимуществ не обладают самостоятельностью в условиях открытого конкурентного рынка и после отмены защиты и субсидий неизбежно разрушатся, что приведёт к массовой безработице, социально-политической нестабильности и трудностям в экономическом развитии. В этих условиях, даже если будет проведена полномасштабная приватизация, олигархами станут лишь несколько предприятий, захвативших в ходе приватизации большие объёмы природных ресурсов, или естественные монополии, такие как телекоммуникации и электроэнергетика, а остальному частному сектору будет трудно развиваться и расти в условиях общего низкого уровня экономического развития и постоянных кризисов.
После реформы и открытости экономика Китая росла стабильно и относительно быстро, а частная экономика – от силы к силе и от малого к большому. Важной причиной этого является то, что реформы в Китае шли по другому пути. В эпоху плановой экономики в Китае, как и в Советском Союзе, социалистических странах и регионах Восточной Европы, существовала государственная экономика, в которой государственная собственность была основной, а коллективная – вспомогательной. Такая экономическая система была создана в то время для быстрого построения капиталоёмкой, технологически передовой тяжёлой промышленности из-за отсутствия финансов. Для нищей, бедной капиталом, преимущественно аграрной экономики развитие капиталоёмкой тяжёлой промышленности противоречило её сравнительным преимуществам и требовало от государства прямой мобилизации и распределения ресурсов, существенной защиты и субсидий, монопольного положения государственных предприятий на рынке, не позволяющего конкурировать с ними другим формам собственности. С одной стороны, продолжалась необходимая защита и субсидирование крупных капиталоёмких государственных предприятий тяжёлой промышленности, созданных в период плановой экономики, с другой – либерализовался доступ к традиционно ограниченным трудоёмким отраслям на основе их сравнительных преимуществ, и на рынок были допущены многие негосударственные предприятия, в том числе поселковые и сельские. Преимущество такого подхода к преобразованиям заключалось в том, что при сохранении стабильности большое количество частных предпринимателей получило возможность в полной мере реализовать свои таланты и воплотить в жизнь личные ценности, а доля частной экономики постепенно выросла с нуля в 1978 году до 13,6% в начале 1992 года и в настоящее время составляет половину национальной экономики.
Однако при этом крупные капиталоёмкие государственные предприятия в противоречии с их сравнительными преимуществами не могут стоять на ногах и борются за выживание без защитных субсидий, а государство, помимо финансовой поддержки банков и бирж, обеспечивает им монопольное положение на рынке, делая другие формы собственности, включая частные и иностранные компании, неконкурентоспособными и «стеклянной, пружинной и вращающейся дверью», ограничивающей их доступ в частный отрасли.
Развитие частной экономики означает приход новой весны
После 40 лет реформ и открытости ВВП на душу населения Китай в 2017 году достиг 8,8 тыс. долларов, и он больше не является бедной, отсталой, испытывающей недостаток капитала страной. Большинство отраслей обрабатывающей промышленности, включая производство крупного оборудования, уже достигли сравнительных преимуществ, а продолжающиеся защитные субсидии этим крупным государственным предприятиям превратились из «помощи в случае необходимости» в «предоставление привилегий». Реформы должны идти в ногу со временем: На Третьем пленуме ЦК КПК 18-го созыва в 2013 году было предложено полностью углубить реформы и обеспечить решающую роль рынка в распределении ресурсов, что подразумевает отмену всех видов защиты и субсидий, унаследованных от двухколейной системы, с тем чтобы предприятия всех форм собственности могли конкурировать на рынке на справедливой основе. Таким образом, по мере углубления реформ «стеклянная, пружинная и вращающаяся дверь» доступа частного сектора в промышленность будут исчезать одна за другой.
В 2017 году на долю китайских частных компаний пришлось 16 из 500 крупнейших компаний мира. Это напомнило мне 2003 год, когда я был приглашён выступить с основным докладом о развитии китайской экономики и китайского бизнеса на Всемирном конгрессе китайских предпринимателей в Пекине: в 2002 году из 500 крупнейших мировых компаний, входящих в список Fortune 500,11 были китайскими и 198 – американскими. В своём выступлении я предсказал, что к 2030 году в Китае будет 120 крупнейших компаний мира, а в США – 120, и что Китай и США будут находиться в равных условиях. В то время в международном сообществе была широко распространена «теория краха Китая», и многие считали, что я слишком оптимистичен. На самом деле, всё произошло даже быстрее, чем я тогда предсказывал: в 2017 году из 500 крупнейших компаний мира 124 были американскими, а в Китае их было 115 (в том числе 16 частных).
В 2003 году я основывал эту оценку на том, что количество компаний, входящих в список Fortune 500, положительно коррелируется с общим размером мировой экономики той или иной страны: в 2002 году на долю китайской экономики приходилось 4,2% мировой экономики, а на долю США – 32,9%. Из 500 крупнейших компаний мира 11 имели высокую корреляцию с Китаем, а 198 – с США. В то время я считал, что если мы пойдём по пути Китая, освободим свой разум, будем искать истину в фактах, идти в ногу со временем, продвигать реформы и открытость, то к 2030 году наша экономика обгонит США даже при расчёте по рыночным ставкам. С 2003 года темпы роста превысили эти ожидания. В 2017 году наша экономика стала крупнейшей в мире. Если на её долю приходилось 16%,то на долю экономики США – 23,4%. Как я и предсказывал в 1994 году в своей книге «Китайское чудо», сейчас в международном сообществе принято считать, что к 2030 году наша экономика превзойдёт американскую и будет составлять более 20% мировой экономики.
К этому времени из 500 крупнейших компаний мира не менее 125 будут китайскими. К 2050 году, когда будет построена современная социалистическая сверхдержава, китайская экономика будет более чем в 1,5 раза превышать экономику США и составлять более 25% мировой экономики, а китайские компании, вероятно, будут составлять 150 из 500 мировых компаний, входящих в список Fortune 500. В 2017 году среди 500 крупнейших мировых компаний китайских было 115, из которых 16 были частными предприятиями, что составляло более одной десятой. Импульс роста, присущий частным предприятиям, сильнее, чем у других форм собственности. По моим прогнозам, если к 2030 году китайские предприятия достигнут 125 из 500 крупнейших предприятий мира, то 40 из них будут частными; если к 2050 году китайские предприятия достигнут 150 из 500 крупнейших предприятий мира, то 75 из них могут быть частными предприятиями.
История развития частного предпринимательства после реформ и открытости показывает, что частные предприниматели пользовались уважением. Частные предприниматели воспользовались возможностью реформ и открытости, активно поднимались, быстро развивались, накапливали капитал и быстро меняли сравнительные преимущества Китая, субсидии на защиту крупных капиталоёмких государственных предприятий превратились из «помощи в трудные времена» в «предоставление привилегий», субсидии на защиту были отменены в 2013 году, а реформы углублялись. Были созданы условия и устранены «стеклянная, пружинная и вращающаяся двери», ограничивающие развитие частного предпринимательства.
В докладе XIX Всекитайского съезда КПК утверждается, что «мы будем неуклонно укреплять и развивать экономику государственного сектора и неуклонно поощрять, поддерживать и направлять развитие экономики негосударственного сектора». Я верю, что честная конкуренция в рыночной среде позволит многим частным предпринимателям в полной мере реализовать свой предпринимательский дух, воплотить в жизнь свои индивидуальные ценности и развитие предприятия, а также внести свой вклад в великое возрождение китайской нации.
ГЛАВА 2 ОПЫТ РАЗВИТИЯ КИТАЯ
НЕКОТОРЫЕ УРОКИ, ИЗВЛЕЧЁННЫЕ ИЗ РАЗВИТИЯ КИТАЯ
За период реформ и открытости Китай добился огромного прогресса в экономическом развитии, превратившись из бедной страны во вторую по величине экономику мира. Развитие Китая повысило способность развивающихся стран к модернизации и открыло новые возможности для стран и народов всего мира, желающих ускорить своё развитие, сохранив при этом независимость. В целом экономическое развитие Китая преподало бедным странам четыре урока для их собственного развития.
В своё время Китай был одной из беднейших стран мира. В 1978 году ВВП на душу населения составлял всего 156 долларов США, а более 80% населения проживало в сельской местности; в 1981 году 84% китайского населения жило ниже международной черты бедности, составляющей 1,25 доллара США в день. Однако стремительное развитие Китая в период реформ и открытости позволило ему войти в число стран с уровнем дохода выше среднего, а ВВП на душу населения в 2018 году приблизился к 10 000 долларов США. Всего за 40 лет Китай совершил экономическое чудо, пройдя путь от бедности до процветания. Он доказал, что бедность – не судьба, и дал остальным странам мира, которые до сих пор страдают от нищеты, уверенность в том, что они тоже могут индустриализироваться и модернизироваться на пути к процветанию и изобилию. Это первый урок, извлечённый из развития Китая.
Для многих бедных стран вопрос о том, как вырваться из нищеты и обеспечить собственное развитие, является актуальным. Во многих бедных странах, для которых характерны традиционное сельскохозяйственное производство и низкая производительность труда, для выхода из бедности необходимы преобразования в сельском хозяйстве и в сельской местности. Во-первых, необходимо активно использовать современные технологии сельскохозяйственного производства, удобрения и качественные семена для повышения уровня производительности труда и уровня жизни фермеров. Во-вторых, необходимо активизировать строительство водохранилищ и улучшить условия орошения сельскохозяйственных земель, чтобы предотвратить и смягчить негативные последствия непредвиденных явлений и обеспечить устойчивость сельскохозяйственного производства в случае засух и наводнений. Опять же, фермеров необходимо мотивировать на производство. Это является ключом к повышению производительности труда в сельском хозяйстве. Введя систему договорной ответственности домохозяйств, Китай значительно мобилизовал производственную мотивацию крестьян, изменил сельский ландшафт и приоткрыл завесу реформ. Наконец необходимо более эффективно использовать роль государства. С одной стороны, модернизация сельского хозяйства неотделима от выращивания качественных семян, а поскольку выращивание качественных семян – это в значительной степени общественное благо, то трудно обеспечить эффективное предложение, полагаясь на рыночные силы, и роль государства должна быть использована в полной мере. С другой стороны, полагаясь только на фермеров, трудно решить такие проблемы, как строительство крупных водохранилищ на сельскохозяйственных землях и улучшение ирригационных условий в сельском хозяйстве, и роль государства должна быть использована в полной мере. Второй урок китайского развития заключается в том, что искоренение бедности и развитие должны начинаться с модернизации сельского хозяйства.
Конечно, одного развития сельского хозяйства недостаточно, чтобы вывести страну из состояния бедности и сделать её процветающей. Необходимо стимулировать и индустриализацию. Модернизация – это процесс сокращения доли сельского хозяйства и сельскохозяйственного населения. Если бедные страны хотят выйти из бедности и развиваться, они должны способствовать индустриализации, переключать фермеров с сельского хозяйства на современную промышленность, постоянно повышать уровень индустриализации и развития, а также оптимизировать структуру промышленности. Одним из главных уроков развития Китая с 1978 года является индустриализация и урбанизация на основе реформирования сельских районов и активного развития современной сферы услуг. Это третий урок развития Китая.
На самом деле, ряд стран также понимают смысл того, чтобы сначала провести модернизацию сельского хозяйствам затем индустриализацию и урбанизацию, но почему так мало из них добились успеха?
Основная причина этого заключается в том, что в процессе модернизации своих стран они выбрали неверную схему, основанную на том, что делали и делают развитые страны. После Второй мировой войны, в соответствии с господствовавшей в то время западной структуралистской теорией, в условиях крайнего дефицита капитала для развития крупномасштабных капиталоёмких производств использовались стратегии импортозамещения, которые не уступали по капиталоёмкости производствам в развитых странах. В результате краха сравнительных преимуществ у компаний отсутствовала способность генерировать собственные доходы на открытых и конкурентных рынках, и такие отрасли могли возникнуть лишь в беспомощном состоянии благодаря прямому вмешательству государства и искажённой защите рынков.
Начиная с 1980-х годов некоторые страны, следуя господствовавшим в то время западным неолиберальным концепциям, пытались провести приватизацию, рыночные преобразования и стабилизацию путём «шоковой терапии» с целью создания рыночной экономики наравне с развитыми странами, игнорируя роль государства в процессе реструктуризации и развития экономики, но в результате уже созданные промышленные системы разрушились, а новые промышленные системы не были созданы и привели к деиндустриализации. Это привело к экономической стагнации, коллапсу и кризисам в некоторых странах, переходящих к рыночной экономике. Почему же Китай добился успеха? Главная причина заключается в том, что Китай может в полной мере использовать доминирующую роль государства в рыночной экономике и способствовать долгосрочной стабильности и быстрому развитию китайской экономики, делая отрасли, которые могут преуспеть на основе своих сравнительных преимуществ, определяемых собственными условиями поставок, более крупными и сильными, и превращая их сравнительные преимущества в конкурентные преимущества, благодаря чему китайская экономика может быть более стабильной и развиваться быстрее в долгосрочной перспективе. Это четвёртый урок развития Китая.
ЧЕМУ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ МОГУТ НАУЧИТЬСЯ У РАСТУЩЕГО КИТАЯ
В 2018 году исполнилось 40 лет с момента перехода Китая от плановой к рыночной экономике. Этот юбилей совпал с исключительным моментом в истории, когда США вышли из глобализации и предоставили Китаю явную возможность активизировать свою деятельность в качестве «сторожевого пса» мировой торговой системы.
Кроме того, превращение Китая из бедной страны в мировую державу за последние несколько десятилетий послужит ценным уроком для других развивающихся стран, особенно в условиях, когда администрация Трампа продолжает проводить антиглобализационную политику.
Если в 1978 году ВВП на душу населения в Китае был крайне низким, а доля внешней торговли в ВВП составляла всего 9,7%, что делало Китай эгоцентричной страной, то сегодня она составляет 32,7%.
Экономический рост Китая с конца 1970-х годов был феноменальным: в 2009 году Китай обогнал Японию и стал второй по величине экономикой мира; в 2010 году обогнал Германию как крупнейший мировой экспортер; в 2013 году стал крупнейшей торговой страной мира; в 2014 году обогнал США по паритету покупательной способности и стал крупнейшей экономикой мира.
За это время более 700 млн китайцев вырвались из нищеты. Китай – единственная развивающаяся экономика, которая за последние 40 лет не пережила ни одного собственного финансового кризиса.
В настоящее время Китай относится к странам с уровнем дохода выше среднего, ВВП на душу населения составляет около 9000 долларов США, но к 2025 году этот показатель может превысить 12 700 долларов США, что позволит ему стать страной с высоким уровнем дохода. Китай также является крупнейшим в мире производителем сырьевых товаров и одной из наиболее конкурентоспособных стран мира.
Китай полностью принял глобализацию. Он выступил с амбициозной инициативой «Пояс и путь», которая направлена на то, чтобы соединить Китай с рынками Азии, Европы и Африки посредством развития инфраструктуры. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), предложенный Китаем для поддержки инициативы «Один пояс – один путь», первоначально встретил открытое противодействие со стороны США, но в настоящее время превратился в одну из крупнейших в мире многосторонних организаций развития с 77 странами-членами.
В 2015 году Международный валютный фонд (МВФ) включил юань в список пяти валют, входящих в корзину специальных прав заимствования, куда входят доллар США, японская иена, евро и британский фунт стерлингов. Это ещё на один шаг приблизило юань к статусу международной резервной валюты.
Следует отметить, что и Советский Союз, и страны Восточной Европы пережили экономический крах после проведения экономических преобразований, однако Китай оказался более успешным, что объясняется, главным образом, различиями в подходах.
На ранних этапах переходного периода в Китае существовало большое количество государственных предприятий (ГП), которые не были самодостаточными в таких капиталоёмких отраслях, как тяжёлое машиностроение и металлургия. В условиях конкурентного рынка эти отрасли не могут выжить без защиты и субсидий. Поэтому китайское правительство субсидирует эти предприятия, одновременно открывая возможности для инвестиций в трудоёмкие отрасли, где Китай имеет сравнительные преимущества. Такая двухколейная система позволила Китаю сохранить стабильность и добиться быстрого развития.
Аналогичная стратегия была принята и при либерализации китайской экономики. Китай ограничил приток иностранного капитала в капиталоёмкие отрасли, где доминируют государственные предприятия.
В то же время трудоёмкие отрасли были открыты для внешнего мира с целью привлечения иностранных инвестиций.
Двухколейные реформы требуют больших затрат. Вмешательство в рыночные отношения и искажения приводят к росту коррупции и несправедливому распределению доходов. В связи с бурным развитием обрабатывающей промышленности ухудшилось загрязнение окружающей среды. Для решения этих проблем Си Цзиньпин в течение первых пяти лет своего пребывания на посту главы государства с 2012 по 2017 год развернул комплексную антикоррупционную кампанию, устранил перекосы в ходе двухколейных реформ, позволивших рынку играть решающую роль в распределении ресурсов, и выступил за ужесточение экологических норм.
По мере роста экономической мощи Китая растёт и его влияние на глобальное управление. В октябре 2017 года на XIX Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин был избран руководителем страны на второй пятилетний срок. Текущая задача Си Цзиньпина- обеспечить завершение перехода Китая к эффективной открытой рыночной экономике и внести вклад в формирование нового международного порядка в интересах мира и развития.
Китай продолжит реализацию программ по искоренению бедности и голода как внутри страны, так и во всём мире. Китай будет и впредь придерживаться принципа невмешательства, продолжая предоставлять развивающимся странам помощь, торговые и инвестиционные возможности, а не навязывать свои ценности и идеологию в качестве обязательного условия для оказания гуманитарной помощи, как это делается на Западе.
С конца 1970-х годов Китай добился успеха благодаря сочетанию сильного руководства и прагматизма. Китай сохраняет дальновидность и открытость и стремится вернуть себе историческую роль ведущей мировой сверхдержавы.
ОПЫТ КИТАЯ ВНОСИТ ВКЛАД В ГЛОБАЛЬНОЕ ИСКОРЕНЕНИЕ БЕДНОСТИ
Китайское чудо реформ и открытости
За последние 40 лет реформ и открытости Китай добился больших успехов в экономическом и социальном развитии. Каковы особенности процесса реформ и открытости в Китае по сравнению с другими странами?
Одна из главных причин выдающегося развития Китая заключается в том, что он не подражал прошлым теориям и не перенимал готовые иностранные теории, а шёл своим путём, освобождал свой разум и искал истину в фактах. Исходя из существующих проблем, Китай тщательно проанализировал их причины и изучил условия и ограничения, подходящие для их решения. Постепенно реформируя двухколейную систему, используя старые и новые методы, он будет в полной мере использовать два рынка и два вида ресурсов внутри страны и за рубежом для достижения быстрого экономического развития при сохранении стабильности.
В других странах, которые пытались сразу решить свои внутренние проблемы, следуя зарубежным теориям или «идеальным» моделям, преобразования почти всегда заканчивались экономическим крахом, стагнацией или кризисом.
Двухколейный путь постепенных реформ в Китае, основанный на либерализации и стремлении к истине, рассматривался сторонними наблюдателями как «худшая» форма переходного периода в 1980 – 1990-е годы, но на самом деле стал причиной стабильности и быстрого развития Китая. Конечно, на этом пути возникли такие проблемы, как коррупция, несправедливое распределение доходов и ухудшение состояния окружающей среды. Перед лицом трудностей Китай также освобождал свой разум, искал истину в фактах, объективно анализировал их и позитивно реагировал на них. Это и есть тот самый важный опыт, который постепенно привёл Китай к успеху в процессе реформ и открытости.
Китай станет экономикой с высоким уровнем дохода к 2025 году
На Давосском форуме я предсказал, что к 2025 году Китай станет третьей экономикой со времён Второй мировой войны, которая перейдёт из категории стран с низким уровнем доходов в категорию стран с высоким уровнем доходов. Так за счёт чего же будет происходить экономический рост в Китае?
У нас есть механизм внутренней мотивации, который постоянно направлен на экономическое развитие, и мы стремимся к великому возрождению китайской нации, что является изначальным намерением Коммунистической партии Китая (КПК), изначальным намерением всех китайских интеллектуалов и изначальным намерением всего китайского народа. Это и есть внутренняя мотивация нашего развития.
Благополучная жизнь не может существовать без роста доходов, необходимым условием которого является повышение производительности труда, что, в свою очередь, требует постоянных технологических инноваций. В начале реформ и открытости между Китаем и развитыми странами существовал огромный разрыв по всем параметрам. Китай воспользовался промышленным и технологическим отставанием от развитых стран, используя своё положение «опоздавшего» для принятия, усвоения и освоения передовых иностранных технологий, значительно снизив затраты и риски, связанные с технологическими инновациями и модернизацией промышленности. Это одна из главных причин успешного проведения реформ и открытости Китая.
ВВП на душу населения в Китае в 2017 году составил 8,8 тыс. долларов США, что относит его к группе стран с уровнем дохода выше среднего по сравнению с 60 тыс.долларов США,44 тыс. долларов Германии, 34 тыс. долларов Японии и 30 тыс. долларов Южной Кореи.
В настоящее время в Китае существуют некоторые пробелы в промышленных и технологических стандартах, что даёт ему преимущество «позднего» прихода на рынок по сравнению с развитыми странами. Однако, будучи крупной страной с уровнем дохода выше среднего, Китай стал мировым лидером в некоторых отраслях, таких как бытовая электроника, высокоскоростные железные дороги и энергетическое оборудование, и в развитии этих отраслей может полагаться только на собственные инновации. Есть также развивающиеся отрасли с коротким циклом исследований и разработок (НИОКР), такие как интернет и мобильная связь, где преобладают инвестиции в человеческий капитал. Будучи крупной страной с населением около 1,4 млрд человек, Китай обладает преимуществом в плане человеческого капитала и способностью превзойти развитые страны и напрямую конкурировать с ними в этих развивающихся отраслях.
Это даёт уверенность в том, что мы станем третьей экономикой, которая осуществит переход от экономики с низкими доходами к экономике с высокими доходами. Если это произойдёт, то станет очень важной вехой в истории человечества. Доля населения Земли, проживающего в странах с высоким уровнем дохода, увеличится с нынешних 16% до 35%.
Китай должен выдвигать собственные теории на международной арене
В настоящее время Китай является второй по величине экономикой мира. В 2014 году по паритету покупательной способности он стал крупнейшей экономикой мира. С ростом масштабов китайской экономики растёт и интерес к ней со стороны международных организаций. Кристин Лагард, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ), однажды заявила, что штаб-квартира МВФ может переехать в столицу Китая Пекин в течение десяти лет. В то же время китайские лица появляются во всё большем числе международных организаций.
Голос и влияние Китая в системе международного управления, несомненно, будут расти по мере улучшения его экономического положения.
Мне посчастливилось стать первым человеком из развивающейся страны, назначенным главным экономистом и старшим вице-президентом Всемирного банка в 2008 году. Восемь человек, занимавших эту должность до меня, были выходцами из развитых стран и являлись ведущими фигурами в области экономики, некоторые из них были Нобелевскими лауреатами по экономике. Они также имели большой политический опыт, в том числе в качестве председателя Экономического консультативного комитета при Белом доме и главы Центрального банка.
Я имею такую возможность благодаря развитию Китая, потому что целью развития этих международных агентств по развитию является сокращение бедности, а стремительное развитие за последние 40 лет позволило вывести из бедности более 700 млн человек в Китае, что способствовало сокращению более 70% бедности в мире. Само собой разумеется, что моё восхождение к должности экономиста, которая когда-то считалась самой высокой в мире, является отражением больших достижений Китая в области развития и борьбы с бедностью.
Сегодня всё больше китайцев работают в международных институтах развития, например, директор-распорядитель Всемирного банка, директор-распорядитель Международного валютного фонда и исполнительный директор Организации Объединённых Наций по промышленному развитию – все китайцы. Однако в целом наш голос всё ещё относительно невелик и не вполне соответствует нашей экономической доле в мировой экономике. В настоящее время на международной арене по-прежнему доминирует западная теория и западный дискурс. Несмотря на достижения китайской трансформации, международное сообщество рассматривает китайский опыт в основном с точки зрения западной теории. С точки зрения западной теории Китай – это страна со множеством проблем, и «теория краха Китая» повторяется во всём мире.
Однако за успехом Китая должна стоять какая-то причина. Если обобщить причины успеха Китая, то ими могут быть китайская мудрость и китайские решения. Применимость теорий зависит от схожести условий, а поскольку предпосылки развития Китая относительно близки к условиям развития других развивающихся стран, китайские теории имеют большое значение для решения проблем, стоящих перед другими развивающимися странами. Со времён Второй мировой войны развитые страны оказали развивающимся странам помощь на сумму более 3 трлн долларов, что является огромной суммой и очень хорошей отправной точкой. Но это основано на развитых странах как на системе отсчёта и на теориях развитых стран, а эффект от помощи очень неэффективный. Если не принимать во внимание снижение уровня бедности в Китае после реформ и открытости, то число бедных в мире не уменьшилось даже в 2000 году.
По мере повышения международного статуса Китая будет расти и число китайцев, работающих в международных организациях. Более эффективное обобщение китайского опыта, продвижение новых теорий и создание новых дискурсивных систем будет способствовать снижению уровня бедности в мире.
Действия государства должны основываться на эффективности рынка
Преобладает мнение, что реформа вошла в «глубоководную зону». Какие «твёрдые кости» нам ещё предстоит разгрызть? Какую роль должны играть правительство и рынки? Достижения реформ и открытости за последние четыре десятилетия были нелёгкими. Действительно, в 1980-е и 1990-е годы все социалистические страны упорно стремились к переменам, но мало кому это удалось. В результате большинство стран пережили экономический крах, стагнацию и постоянные кризисы.
В процессе реформ и открытости Китай придерживается прогрессивного подхода по двум направлениям. С одной стороны, он защищает и субсидирует первоначальные крупные государственные предприятия, которые до сих пор сохраняют многие интервенционистские перекосы эпохи плановой экономики. С другой стороны, компания использует сложившуюся ситуацию, открывая доступ частным и иностранным предприятиям для создания государственных предприятий в отраслях, которые в прошлом подавлялись, соответствовали сравнительным преимуществам Китая, были конкурентоспособными, создавали рабочие места и способствовали росту экспорта. Несмотря на то что национальная инфраструктура и институциональная среда в то время были слабыми, Китай быстро превратил отрасли со сравнительными преимуществами в конкурентные и добился стабильного и быстрого развития.
В 1980-х и 1990-х годах такие двухколейные постепенные реформы рассматривались как наихудшая форма перехода. В то время преобладало мнение, что для перехода от плановой экономики к рыночной необходимы приватизация, маркетизация и либерализация, а также скорейшее устранение рыночных диспропорций и государственного вмешательства.
Почему постепенная реформа двухколейной системы, нарушающей господствующую западную экономическую теорию, оказалась успешной? Главным образом потому, что: такой подход защищает капиталоёмкие промышленные секторы, которым не хватает сравнительных преимуществ и возможностей для самообеспечения, которые были приоритетными до реформы в переходный период, и эффективно поддерживает экономическую и социальную стабильность; в то же время правительство либерализовало доступ к ранее сдерживаемым трудоёмким секторам, соответствующим сравнительным преимуществам, и способствовало их развитию в соответствии с ситуацией, что позволило поддерживать устойчивый рост экономики, а развитие этих секторов создало большое количество рабочих мест и позволило избыточной рабочей силе в сельской местности перейти в промышленный сектор в городах; кроме того, быстрый рост секторов, соответствующих сравнительным преимуществам, привёл к накоплению капитала, так что предприятия, которые раньше нарушали сравнительные преимущества и не имели возможности самообеспечения, превратились в предприятия, соответствующие сравнительным преимуществам и имеющие возможность самообеспечения, а различные защитные субсидии в переходный период превратились из «оказания помощи в случае необходимости» на «предоставление привилегий», и их можно постепенно сокращать и даже отменять.
В настоящее время большинство основных отраслей совпадает с нашими сравнительными преимуществами. Однако в интересах обороны и безопасности страны необходимо оказывать определённую поддержку, как и в других странах с высоким уровнем дохода. Число таких отраслей очень невелико, и метод поддержки должен быть таким же, как и в других странах: субсидии должны поступать непосредственно из бюджетных ассигнований, а не искажать рыночные цены. Поэтому Третий пленум ЦК КПК 18-го созыва предлагает идти в ногу со временем, всесторонне углублять реформы, устранять все искажения и добиваться того, чтобы рынок играл решающую роль в распределении ресурсов.
Однако в процессе экономического развития неизбежны провалы рынка. Поэтому для устранения провалов рынка также необходимо перспективное государство. Отношения между государством и рынком взаимодополняемы: рынок должен быть эффективен для государства, а государство – для рынка, что является основой взаимной не самодостаточности. В этом заключается основной опыт успешного проведения реформ и открытости в Китае и основа новой структурной экономики, за которую я выступаю.
Институциональные различия должны быть гармонизированы, чтобы использовать преимущества динамично развивающейся зоны залива Гуандун – Гонконг – Макао
Гуандун – самая быстроразвивающаяся провинция после реформ и открытости. В начале реформ и открытости принцип «дополнять свои сильные и слабые стороны» (обработка поступающих материалов, обработка образцов, сборка поступающих деталей и компенсационная торговля) был самым ранним опытом, созданным в провинции Гуандун. В связи с ростом цен на рабочую силу и изменением сравнительных преимуществ Гуандун также первым предложил идею обмена «клеток на птиц», которая заключалась в «переносе» существующей традиционной обрабатывающей промышленности с существующей промышленной базы, а затем в передаче «повышенной производительности» для достижения экономических преобразований и модернизации промышленности.
В этом процессе Гуандун мобилизовал предпринимателей на более эффективное использование роли рынка и в то же время более активно использовал роль государства, оживлённо развивая инфраструктуру, создавая благоприятную политическую среду и решая проблемы, которые не могли быть решены предпринимателями.
Технологические инновации, модернизация промышленности и инновации предприятий также неудержимы. Гуандун должен и впредь в полной мере проявлять этот новаторский дух, постоянно выявлять новые возможности и преодолевать различные существующие институциональные, организационные, мягкие и жёсткие инфраструктурные барьеры. Для того чтобы Гуандун и в будущем оставался в авангарде экономического развития страны, различные инновации в провинции также должны идти в ногу со временем.
Район залива Гуандун – Гонконг – Макао имеет самый высокий уровень дохода и стадию развития в стране и одну из крупнейших экономик в мире. По сравнению с районами Нью-Йоркского залива, Сан-Франциско и Токио район залива Гуандун – Гонконг – Макао имеет наибольшие внутренние различия. Это одновременно и глобальный финансовый центр, и крупнейшая в мире производственная база. Эти внутренние различия свидетельствуют о взаимодополняющем характере их экономик. И если эти различия и взаимодополняемость будут использованы в полной мере, то это будет самый динамичный регион.
В настоящее время самым серьёзным препятствием для развития района залива являются огромные различия между различными институциональными структурами. Например, Шэньчжэнь – это особая экономическая зона, а Гонконг и Макао – два специальных административных района. Необходимо изучить вопрос о том, как примирить институциональные различия, как сохранить сильные стороны первоначальной системы и преодолеть её слабые стороны, чтобы каждая из экономик региона залива могла воспользоваться её синергетическим эффектом.
При возникновении торговых разногласий мы должны бороться на месте, а не убегать
Развитие Китая невозможно отделить от внешней среды, представленной глобализацией. Глобальная система свободной торговли сталкивается с серьёзными проблемами в результате введения Соединёнными Штатами всеобъемлющих импортных пошлин на стальную и алюминиевую продукцию и конкурирующих региональных торговых соглашений.
Но в торговой войне нет победителей. Нет победителей в США, нет победителей в Китае и нет победителей в остальном мире. После того как Трамп объявил о введении карательных мер против Китая, фондовый рынок США резко упал, то же самое произошло и с фондовыми рынками других стран. Действительно, в США существует очень серьёзная проблема торгового дисбаланса, но она обусловлена в основном внутренними причинами в самих Соединённых Штатах. Во-первых, в США слишком низкая норма сбережений и слишком высокая норма потребления, что является основной причиной дефицита торгового баланса Соединённых Штатов. Во-вторых, доллар является международной резервной валютой, США могут полагаться на печатание денег для восполнения дефицита, что является причиной того, что дефицит торгового баланса США может существовать в течение длительного времени.
Однако американские политики всегда обвиняли другие страны, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем и извлечь личную политическую выгоду: соглашение «Плаза» было заключено в 1980-х годах, когда США имели огромный дефицит по отношению к Японии и «четырём маленьким драконам Азии». В соответствии с соглашением «Плаза» Япония и «четыре маленьких дракона Азии» должны были повысить курс своих валют и взять на себя инициативу по ограничению экспорта и переносу своих заводов в США, но в результате дефицит США не сократился, а увеличился. Если Соединённые Штаты не повысят норму сбережений, результат в США будет таким же.
В этом контексте мы должны придерживаться высоких моральных принципов и продолжать продвигать глобализацию, которая хороша для Китая и для всего мира, именно поэтому важная речь Си Цзиньпина на Давосском форуме 2017 года получила одобрение во всём мире. В условиях торговых трений мы должны быть рациональными и оправданными и принимать необходимые контрмеры. В то же время конечная цена повышения американских импортных тарифов ляжет на население США через рост цен на отечественный импорт. Потери, которые понесут как производители американского экспорта, так и потребители импорта, подтолкнут американских избирателей к пониманию того, что торговля должна быть взаимовыгодной и беспроигрышной, что, в свою очередь, изменит отношение американских избирателей к торговым санкциям против Китая и намерению президента Трампа использовать торговые санкции против Китая для завоевания голосов избирателей. Они ослабят его намерения, перестанут избегать Китая и попытаются обойтись тем, что есть.
Интернационализация юаня не является нашим односторонним желанием
Международный финансовый кризис 2008 года и Восточноазиатский финансовый кризис 1997 года научили нас тому, что даже в стабильные времена мы должны быть готовы к опасности. До 2008 года американское экономическое сообщество считало, что в США макроэкономическая теория очень зрелая, что достигнута так называемая «великая умеренность» и что любой считал, что у него есть средства для сглаживания колебаний делового цикла. Когда начался кризис субстандартного кредитования, он не считался серьёзным, поскольку его размер составлял всего 700 млрд долларов. Крах Lehman Brothers в сентябре 2008 года превратил кризис в США в глобальный. То же самое было и перед Восточноазиатским экономическим кризисом 1997 года. С 1950-х годов экономики стран Восточной Азии занимали доминирующее положение, но в 1997 году они неожиданно оказались в кризисе.
Финансы – важная часть современной экономики. Они подобны воде, без которой растения не могут расти. Но вода также может унести или опрокинуть корабль. Поэтому нам необходимо защищаться от возможных финансовых кризисов, и именно поэтому мы определили предотвращение и разрешение крупных рисков в качестве одной из трёх основных задач. Это не означает, что кризис уже наступил, но такие проблемы, как высокий леверидж (долг) в финансовой системе, необходимо решать на ранней стадии.
Что касается интернационализации юаня, то это лишь вопрос времени. Сегодня мы являемся крупнейшей в мире торговой страной и крупнейшей в мире экономикой по паритету покупательной способности. По рыночному курсу мы занимаем второе место в мире, но примерно к 2030 году мы станем крупнейшей экономикой мира. В этом случае интернационализация юаня принесёт пользу не только Китаю, но и всем странам, торгующим с ним. К 2030 году потенциал развития Китая останется огромным, и он продолжит развиваться достаточно быстрыми темпами, способствуя росту мировой экономики.
После финансового кризиса ежегодный вклад Китая в рост мировой экономики превысил 30%. Полагаю, что эта тенденция сохранится. При этом интернационализация юаня не является нашей односторонней волей, а деноминация в юанях позволяет всем странам снизить транзакционные издержки и риски. Конечно, нельзя пытаться преодолеть эту ситуацию силовыми методами, поскольку это и так будет выгодно для всех.
Кроме того, мы также должны осознать, что превращение юаня в международную резервную валюту также является «палкой о двух концах». Будучи международной резервной валютой, доллар США принёс большие удобства Соединённым Штатам, но позволил их торговому дефициту сохраняться в течение длительного времени, скрывая многие внутренние проблемы, и в конечном итоге перерос в кризис. Мы должны предотвратить возникновение подобных ситуаций.
ГЛАВА 3 КИТАЮ НУЖНА СОБСТВЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ КИТАЯ ПОСЛЕ XIX НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА
XIX Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая (КПК) стал знаковым событием, на котором стало ясно, что развитие Китая вступило в новую эру.
Смысл новой эпохи и мысль Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху
В моём понимании новый период имеет два значения. Во-первых, фундаментальное противоречие Китая изменилось с противоречия между растущими материальными и культурными потребностями народа и отсталыми производительными силами на противоречие между растущими потребностями народа в лучшей жизни и несбалансированным и неадекватным развитием; во-вторых, Китай перешёл от «эпохи обогащения и процветания» прошлого к «эпохе становления могущества» настоящего, и Китай, как никогда ранее, уверен в себе и способен реализовать великое возрождение китайской нации.
Для достижения цели великого возрождения китайской нации в докладе XIX Всекитайского съезда КПК развитие Китая в период до 2050 года разделено на несколько этапов: период до 2020 года является решающим для построения умеренно процветающего во всех отношениях общества; в период с 2020 по 2035 год в основном будет осуществлена социалистическая модернизация; в период с 2035 по 2050 год Китай будет превращён в богатую, сильную, демократическую, цивилизованную, гармоничную и красивую современную социалистическую державу. Для реализации этого грандиозного замысла на XIX Всекитайском съезде была создана концепция «Мысли о социализме с китайской спецификой в новую эпоху» Си Цзиньпина. Мысль Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху охватывает все аспекты экономики, политики, культуры, общества и экологии и находит своё отражение в общей схеме «пять в одном», стратегической схеме «четыре в одном», а также в «пяти концепциях развития», которые Си Цзиньпин обсуждает со времени проведения Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва.
Пять концепций развития и структурные реформы в области предложения
Развитие Китая после XIX Национального конгресса анализируется с точки зрения новых «пяти концепций развития». Во-первых, развитие должно быть ориентировано на человека и, что особенно важно, должно удовлетворять растущие потребности людей в лучшей жизни. Как можно удовлетворить эти потребности? В целом в процессе развития производительных сил необходимо преодолеть диспропорции и неэффективность развития. Структурные реформы в сфере предложения являются основным направлением преодоления дисбаланса и неадекватности развития. Существует пять аспектов структурных реформ в сфере предложения: сокращение избыточных производственных мощностей, сокращение запасов, сокращение задолженности, сокращение издержек и компенсация недостатков. Сокращение производственных мощностей, запасов, долгов и издержек, в первую очередь, направлено на решение проблем дисбаланса. Дисбаланс мощностей возникает в результате несоответствия между возможностями предложения в каждом секторе и уровнем спроса, и производственные мощности стороны предложения необходимо привести в соответствие с уровнем спроса, что и является направлением подъёма мощностей. Что касается дестокинга, то он возникает в основном при дисбалансе между производством и рыночным спросом. Если производство слишком велико, а спрос на рынке недостаточен, то накапливаются запасы, что приводит к потерям и, следовательно, к необходимости перехода к дестокингу. Поскольку слишком высокие коэффициенты финансового рычага приводят к накоплению финансовых рисков, снижение коэффициентов финансового рычага происходит в основном за счёт дисбаланса между финансовой и реальной экономикой. Снижение издержек в основном связано с дисбалансом между хозяйственной деятельностью и управлением, поскольку операционные расходы компаний очень высоки, что приводит к большим затратам со стороны управления, которые необходимо сокращать.
Для устранения дефицита, удовлетворения спроса и повышения уровня производительности необходимо понять и решить нерешённые проблемы.
При структурных реформах в сфере предложения основным способом устранения дисбалансов является проведение более глубоких реформ, а для устранения недостатков необходимо дальнейшее развитие. Процесс развития должен проходить в соответствии с пятью принципами развития, изложенными в речи «Мысли о социализме с китайской спецификой в новую эпоху» Си Цзиньпина: инновации, координация, экологичность, открытость и совместное использование. Эти пять направлений делятся на средства и цели. Средства – это инновации, направленные на повышение уровня производительности труда. Что касается целей, то за инновациями должно следовать производство, необходимо координировать спрос и предложение, избегать избыточных мощностей и запасов, в то же время соблюдать экологические стандарты и удовлетворять стремление людей к лучшей жизни, иметь два рынка, внутренний и внешний, два типа открытой экономики, полностью использовать ресурсы и, наконец, делиться плодами развития со всеми гражданами.
Пять типов производств и инноваций
С точки зрения экономиста, технологическая инновация – это использование для будущего производства более совершенной технологии, чем существующая в настоящее время, или вхождение в отрасль с более высокой добавленной стоимостью, чем существующая в настоящее время, то есть модернизация промышленности. В первом случае, когда существующая технология уже занимает передовые позиции в мировой экономике, инновация приравнивается к технологическому изобретению; когда же существует разрыв между существующей технологией и передовой технологией, инновация может быть реализована не только за счёт оригинального изобретения, но и за счёт внедрения, ассимиляции и абсорбции. Во втором случае, когда существующие отрасли уже занимают лидирующие позиции в мировой экономике, модернизация промышленности должна осуществляться путём изобретения новых продуктов и новых отраслей. Однако если всё ещё существует разрыв между добавленной стоимостью существующих отраслей и добавленной стоимостью ведущих отраслей мировой экономики, то это также может быть достигнуто путём внедрения, ассимиляции и абсорбции в рамках промышленной модернизации.
В рамках концепции «новой структурной экономики» в Китае выделяются пять типов отраслей, которые в настоящее время классифицируются как отрасли со средним и высоким уровнем дохода.
Первый тип – это догоняющие отрасли, которые можно встретить не только в Китае, но и в более развитых, чем Китай, странах, например, в производстве оборудования. Китай – мировой лидер по производству оборудования, Германия – мировой лидер по производству оборудования. Производство оборудования с одинаковой функциональностью в Китае обходится в 1 млн долларов США, а в Германии – в 5 млн долларов США. Таким образом, Китай всё ещё находится в стадии догоняющего развития.
Второй тип – ведущая отрасль, означающая, что китайские технологии в этой отрасли, например, в производстве бытовой техники (телевизоров, холодильников, стиральных машин) и высокоскоростных железных дорог, уже являются ведущими в мире. Китай уже является самым передовым в мире.
Третий тип – трансформационные отрасли, к которым относятся отрасли, в которых Китай лидировал в прошлом, но больше не лидирует в связи с изменением сравнительных преимуществ Китая.
Четвёртый тип – догнать уже существующие в мире отрасли. Исследования и разработка новых технологий и продуктов в отраслях этого типа базируются в основном на инвестициях в человеческий капитал, при этом циклы разработки продуктов и технологий коротки. В настоящее время Китай, являясь страной с уровнем дохода выше среднего, не сильно отстаёт от развитых стран по уровню человеческого капитала. Разница с развитыми странами заключается главным образом в накоплении финансового и физического капитала, который в развитых странах накапливался в течение 200 – 300 лет, а в Китае начал быстро накапливаться только после реформ и открытости, и здесь кроется отставание. Изобретение и создание новых продуктов и технологий в промышленности в основном базируется на вкладе человеческого капитала, однако Китай не имеет явных сравнительных преимуществ перед развитыми странами в структуре предложения элементов. В этих отраслях с коротким циклом развития, основанных на человеческом капитале и требующих относительно небольших финансовых вложений, Китай может напрямую конкурировать с развитыми странами и обогнать их, уйдя с дороги, и в этом отношении Китай по-прежнему имеет значительное преимущество. Китай обладает большим количеством людей и талантов, а также огромным внутренним рынком, поэтому новые изобретения, вновь созданные в стране продукты и технологии могут быстро завоевать большой рынок. Китай также имеет сравнительное преимущество в инновациях, обгоняя существующее производство в мире, поскольку именно в этой стране имеется наибольшее количество комплектующих, когда для продукта требуется аппаратное обеспечение.
Пятый и последний тип – это оборона и безопасность и новые стратегические отрасли. Инновационный подход в таких отраслях противоположен инновационному подходу к захвату уже существующих в мире отраслей. Здесь также требуется высокий человеческий капитал, но цикл НИОКР особенно длителен и составляет 10 – 20 лет, а также требуются большие финансовые вложения. Если рассматривать сравнительные преимущества, определяемые исключительно имеющимися факторами производства, то Китай пока не обладает сравнительными преимуществами в этой области, но у него есть материалы для обороны и безопасности, которые невозможно приобрести за рубежом и без которых оборона и безопасность не существовали бы в том виде, в котором они существуют сегодня. Поэтому в данном случае Китай также должен поддерживать это развитие.
Для некоторых стратегически новых отраслей, хотя они и не обязательно связаны с национальной обороной и безопасностью, время исследований и разработок также достаточно велико, финансовые и материальные капиталовложения также достаточно велики, по сути, Китай не имеет сравнительного преимущества, однако если направление развития новой отрасли уже очень чётко определено, а Китай отказывается от исследований и разработок в этой области из-за отсутствия сравнительного преимущества, это приведёт к занятию стратегических позиций развитыми странами, и если Китай захочет войти в эту отрасль в будущем, многие технологии не могут быть импортированы или требуют очень высоких затрат на импорт. Поэтому, даже если сейчас эти отрасли не имеют сравнительных преимуществ, в долгосрочной перспективе, если не инвестировать в них сейчас, затраты и риск повторного вхождения в них в будущем будут слишком велики.
Существующие отрасли промышленности Китая разделены на эти пять категорий, каждая из которых имеет свои особенности с точки зрения инноваций. Догоняющие инновации в основном базируются на внедрении, переваривании и усвоении. Передовые модели и инновации в сфере национальной обороны и безопасности, а также в стратегических развивающихся отраслях в основном опираются на независимые исследования и разработки. Инновационный метод трансформационных отраслей может заключаться в том, чтобы войти на оба конца кривой с высокой добавленной стоимостью, включая действующие бренды, дизайн продукции, управление маркетинговыми каналами и т. д., что требует инноваций в разработке продукции или методах управления. Речь также может идти о перемещении частей производства, утративших свои сравнительные преимущества, в места с более низкой оплатой труда как внутри страны, так и за рубежом, что, в свою очередь, требует управленческих инноваций в зависимости от места происхождения. Разные отрасли должны использовать разные способы инноваций, чтобы добиться максимальной эффективности.
В инновационном процессе также важно учитывать новые платформенные технологии, такие как «умное» производство и возможности интернета, а «зелёные» технологии должны использоваться на протяжении всего процесса. Только таким образом можно достичь целей пяти столпов развития – инноваций, сотрудничества, устойчивости, открытости и обмена опытом.
Инновации и финансирование
Инновации должны быть интегрированы с финансами, поскольку инновации требуют капиталовложений. Догоняющие отрасли, как правило, являются инновационными и нуждаются в финансовой поддержке в основном в виде банковских кредитов и облигационных займов, однако банки делятся на крупные и мелкие в зависимости от размера фирм в отрасли и их потребностей в финансировании. Для крупных компаний догоняющее развитие поддерживается в основном банками, в том числе за счёт слияний и поглощений. Что касается малых и средних предприятий, то им могут пойти навстречу малые и средние банки.
Другие источники финансирования характерны для передовых промышленных инноваций, которые должны использовать собственные НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) в качестве основного метода инновационной деятельности. Фирмы в передовых отраслях, как правило, достаточно зрелые, чтобы полагаться на финансирование с фондового рынка для удовлетворения своих потребностей в капитале. Для предприятий, ориентированных на трансфер, разработку новой продукции или управление каналами и качеством, потребности в капитале зависят в основном от банковской поддержки. Отрасли, перерастающие устоявшиеся в мире фирмы, нуждаются в самостоятельных инновациях, и такие отрасли в большей степени зависят от бизнес-ангелов, венчурного капитала и других финансовых инструментов, позволяющих распределить риск.
Для оборонно-промышленного комплекса и стратегических развивающихся отраслей, где пока нет сравнительных преимуществ, НИОКР требуют государственной финансовой поддержки в основном в виде прямых финансовых субсидий, хотя государство может также создать фонд для субсидирования НИОКР и закупок через национальное казначейство.
В целом, для вступления в новую эпоху, за которую ратовал XIX Всекитайский съезд, для осуществления великого возрождения китайской нации, для укрепления Китая и удовлетворения потребностей людей, стремящихся к лучшей жизни, необходим целый ряд инноваций. В инновационном процессе должны использоваться различные подходы в зависимости от особенностей каждого сектора. Для того чтобы финансы способствовали развитию реальной экономики, они должны поддерживаться соответствующими финансовыми механизмами в соответствии с развитием каждой отрасли и инновационным подходом. В инновационном процессе также следует уделять внимание координации, экологичности, открытости и обмену опытом. Если этого удастся достичь, то, я думаю, цели великого возрождения китайской нации и укрепления Китая будут достигнуты.
ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ЗА 70 ЛЕТ РАЗВИТИЯ11
Поскольку в 2019 году исполняется 70 лет со дня основания Нового Китая, я хотел бы проанализировать современную экономическую теорию с точки зрения развития китайской экономики за последние 70 лет и в целом обсудить необходимость и направление самостоятельного обновления современной экономической теории.
Экономическое развитие Китая за последние 70 лет и доминирующее международное мышление
С широкой точки зрения экономическое развитие Китая за последние 70 лет можно разделить на два этапа: первый – с 1949 по 1978 год, когда была реализована плановая экономическая система, и второй – с момента проведения реформ и открытости в конце 1978 года по настоящее время, когда была создана социалистическая рыночная экономика с китайской спецификой.
В период плановой экономики теориями, которые мы анализировали, были оригинальные марксистские тексты и советская социалистическая политэкономия, а опытом, на который мы ссылались, был опыт Советского Союза, который в основном пытался построить полную систему тяжёлой промышленности на безденежной основе.
Анализируемая нами советская социалистическая политэкономия в то время во многом соответствовала доминирующей мировой экономической теории того времени: кейнсианство стало доминирующей макроэкономической теорией на Западе после Великой депрессии 1930-х годов, подчёркивая несостоятельность рынка и государственное вмешательство в ответ на это и утверждая, что для успешного экономического развития любой страны необходимо опираться на государство, чтобы преодолеть ограничения рынка в распределении ресурсов для успешного экономического развития любой страны. В то же время после Второй мировой войны многие развивающиеся страны вышли из колониального и полуколониального статуса и начали модернизацию своих государств под руководством лидеров первого поколения. В ответ на эту потребность в западной экономической науке возникла новая дисциплина – экономика развития.
Первое поколение теории экономики развития, известное сегодня как структурализм, утверждало, что для того, чтобы развивающиеся страны стали богатыми и сильными и догнали развитые страны, им необходимо развивать современную крупномасштабную промышленность наравне с развитыми странами. Это объясняется тем, что для «обогащения народа» и получения такого же уровня доходов, как в развитых странах, им необходим такой же уровень производительности труда, как в развитых странах; для того чтобы иметь такой же уровень производительности труда, как в развитых странах, им необходим такой же уровень передовых технологий и промышленности, как в развитых странах; а для того чтобы «сделать свои страны сильными», им необходима передовая военная техника, произведённая на основе передовых технологий и промышленности. Однако на самом деле вся промышленность развивающихся стран в то время базировалась на традиционном сельском хозяйстве и природных ресурсах. Поскольку производительность труда была очень низкой, то и уровень доходов был очень низким, а страна не обладала национальной мощью. Поэтому структурализм утверждает, что развивающиеся страны должны стремиться к развитию современной и передовой промышленности, что, собственно, соответствует цели нашей страны – «догнать Великобританию и перегнать США» в 1950 – 1960-е годы. Однако в развивающихся странах эти современные отрасли не могут быть созданы рынком, поэтому они рассматриваются как провалы рынка, и развивающиеся страны должны напрямую мобилизовать и распределять ресурсы для развития современных отраслей путём импортозамещения.
Такой тип развития позволяет развивающейся стране быстро построить современную промышленную систему на базе бедности. В частности, в 1960-х годах Китай смог испытать атомную бомбу, а в 1970-х – запустить в небо спутники, что, безусловно, является очень выдающимся достижением. Однако общие показатели экономического развития в развивающихся странах, придерживающихся такого подхода к развитию, оказались довольно низкими. Если посмотреть на ситуацию внутри страны, то уровень жизни населения долгое время оставался невысоким. К 1978 году, когда начался процесс реформ и открытости, уровень индустриальной структуры нашей страны казался очень высоким и передовым, но уровень дохода на душу населения был очень низким. После 30 лет упорного труда, прошедших с момента образования Нового Китая, уровень дохода на душу населения в нашей стране не достигал и трети от уровня беднейших африканских стран мира.
Другие социалистические страны находятся в той же ситуации, что и мы. Они могут быть передовыми с точки зрения индустриальных систем, но сильно отстают по уровню жизни. Другие несоциалистические развивающиеся страны, в том числе страны Латинской Америки, Южной Азии и Африки, под влиянием господствующей в то время теоретической идеологии также преуспели в индустриализации, но пережили экономическую стагнацию и различные кризисы, не сумев поднять уровень жизни населения.
В конце 1978 года Китай стал первой социалистической страной, перешедшей от плановой экономической системы к рыночной экономике. Другие социалистические страны, включая Советский Союз и страны Восточной Европы, начали процесс перехода в 1980 – 1990-х годах, в то время как другие несоциалистические развивающиеся страны Латинской Америки, Южной Азии и Африки также перешли от государственной импортозамещающей экономики к открытой рыночной экономике.
Доминирующей международной идеологией в 1980-е годы был неолиберализм, утверждавший, что низкий уровень экономического развития социалистических и других развивающихся стран обусловлен различными искажениями, вызванными чрезмерным вмешательством государства в рынок, и что низкий уровень экономического развития связан с неэффективностью государства. Эмпирически эффективность государственной экономической системы не столь эффективна, как эффективность рыночной экономической системы в развитых странах. Поэтому целью преобразований стал переход к рыночной экономической системе. В то время преобладало мнение, что переход к рыночной экономике требует создания необходимых институциональных механизмов рыночной экономики. Каковы же необходимые институциональные механизмы для рыночной экономики? Преимущество рынков заключается в том, что они позволяют эффективно распределять ресурсы. Как можно добиться эффективного распределения ресурсов?
Цены должны устанавливаться, а до переходного периода все виды цен в основном устанавливались государством, поэтому первая рекомендация заключается в том, чтобы страны вывели цены на рынок и затем позволили спросу и предложению на самом рынке определять окончательную цену, а также позволить цене определять распределение ресурсов. Более высокие цены на тот или иной товар означают, что спрос на него высок, и ресурсы направляются на увеличение производства для удовлетворения спроса. И наоборот, если цена на товар падает, то ресурсов на этот товар выделяется меньше. Эта логика очень понятна.
Цены не только устанавливались на рынке, но в то время в Китае и других странах с переходной экономикой и развивающихся странах существовало большое количество государственных предприятий, и даже если цены устанавливались на рынке, если предприятие было государственным, то государство должно было субсидировать его, а предприятие перечислять государству любую прибыль, так что цены не могли выполнять функцию распределения ресурсов. В этом случае, даже если цены на различные ресурсы и элементы определяются на рынке, по сути, в рыночной экономике, если цена на элемент повышается, компании должны использовать его экономно, чтобы повысить производительность, но в случае государственных предприятий, если цена на элемент повышается, это повышение не является явной проблемой, поскольку государство всё равно его субсидирует. Даже если цены на факторы растут, они не прибегают к мелким мерам по снижению издержек. В то же время, если цены на производимую продукцию растут, то, по логике рыночной экономики, они должны стремиться производить больше и получать больше прибыли. Однако поскольку прибыль государственных предприятий должна перечисляться государству, то при росте цен на продукцию государственные предприятия не стремятся к увеличению производства. Поэтому в то время существовало мнение, что все государственные предприятия должны быть приватизированы, чтобы рыночные цены играли решающую роль в распределении ресурсов, и эта логика была очень ясной и понятной.
Ещё одним условием того, чтобы цены играли решающую роль в распределении ресурсов, является их стабильность. Если инфляция высока, то поведение потребителей искажается. Если цена на тот или иной товар постоянно растёт, потребители будут спешить купить больше этого товара, когда цена на него низкая, это приведёт к значительному увеличению спроса. С точки зрения производителей, когда компании видят, что цены продолжают расти, они откладывают продажи и ждут три-шесть месяцев, прежде чем возобновить продажи, и цены растут дальше. В результате получается замкнутый круг: высокие цены приводят к значительному увеличению спроса и значительному сокращению предложения. Таким образом, стабильные цены являются необходимым условием эффективного распределения ресурсов на рынке.
Как достигается ценовая стабильность? Необходимым условием является сбалансированность государственного бюджета. Если государственный бюджет не сбалансирован и существует дефицит, то этот дефицит в конечном итоге будет монетизирован. Увеличение количества денег приводит к инфляции, а инфляция – к искажениям.
Поэтому в 1980-х годах появился так называемый Вашингтонский консенсус, основанный на неолиберальном мышлении того времени. В соответствии с ним для успешного перехода в этих странах необходимо обеспечить маркетизацию, приватизацию и макростабилизацию, причём эти три реформы должны проводиться одновременно, чтобы быть эффективными. Если рынки будут либерализованы, а права собственности не будут реформированы, то результаты не будут положительными. Даже если рынки будут либерализованы, а права собственности реформированы, результаты будут неудовлетворительными, если будет наблюдаться макроэкономическая нестабильность.
Опыт трансформации моей страны и размышления о нём
Реформы, начатые нами в 1978 году, не соответствовали сложившейся в то время международной точке зрения. В процессе перехода к рынку мы проводили двухколейные поэтапные реформы, руководствуясь принципами либерализации и прагматизма: предоставляли защитные субсидии на переходный период государственным предприятиям, которые ранее были приоритетными для развития, либерализовали доступ в некоторые трудоёмкие отрасли, подавляемые в прошлом, и активно направляли их развитие в соответствии с обстоятельствами. Поскольку инфраструктура изначально была очень слабой, а условия ведения бизнеса – очень плохими, были созданы особые экономические зоны и зоны переработки и экспорта для улучшения инфраструктуры, предоставления услуг по принципу «одного окна» и создания благоприятных местных условий для преодоления недостатков в инфраструктуре и условиях ведения бизнеса.
В 1980 – 1990-е годы в мире сложилось мнение, что переход от плановой экономики к рыночной может быть успешным только в том случае, если институциональные механизмы, необходимые для рыночной экономики, будут внедрены в одночасье с помощью «шоковой терапии». Существовал также международный консенсус о том, что постепенный переход на двухколейную систему, подобную той, которая была реализована в Китае, когда ресурсы распределяются и рынком, и государством, является наихудшим из возможных институциональных механизмов и что он приведёт к экономике ещё менее эффективной, чем первоначальная плановая экономика, и с ещё большим количеством проблем. Почему это худший институциональный механизм? Из-за одновременного существования плана и рынка низкая цена государственного плана и высокая цена рынка создают возможности для арбитража, порождают коррупцию и ведут к увеличению разрыва в доходах.
В Китае такое явление возникло после переходного периода, и одна из наиболее распространённых сделок в 1980-е годы получила название демпинга. До 1978 года таких сделок не было, но после постепенного внедрения двухколейных реформ в 1978 году появились демпинг запланированных государством товаров и сделки, основанные на получении распределения между запланированными и рыночными ценами. Более того, чтобы получить эти дешёвые плановые товары, демпингующие вынуждены использовать все свои связи для извлечения ренты, что приводит к коррупции и создаёт проблемы распределения доходов.
Именно из-за этих практических проблем в Китае в 80-е годы прошлого века началось противодействие постепенному реформированию двухколейной системы, что и стало причиной появления «теории краха Китая», когда экономическое развитие страны замедлилось. Однако за последние 40 лет наша экономика не только быстро росла, но и сделала Китай единственной страной в мире, не испытавшей за это время экономического кризиса. В большинстве других социалистических и развивающихся стран изменения проводились в соответствии с господствующим Вашингтонским консенсусом, что привело к экономическому краху, стагнации и кризисам. Кроме того, проблемы коррупции и разрыва между богатыми и бедными, проявляющиеся в нашей стране, существуют и в других странах, причём зачастую более серьёзные, чем в нашей стране. Всемирный банк и Европейский банк развития провели ряд эмпирических исследований в Советском Союзе, Восточной Европе и Латинской Америке, которые подтверждают эту точку зрения. Они обнаружили, что после маркетизации, приватизации и макростабилизации средние темпы роста в этих странах были ниже, чем в 1960 – 1970-е годы до начала переходного периода, кризисы случались чаще, а такие проблемы, как коррупция и растущее неравенство доходов, были более серьёзными, чем в Китае.
Почему доминирующая экономическая теория не смогла преобразовать развивающиеся страны?
У китайского делового сообщества есть вопрос, над которым стоит задуматься. Теории призваны понять и преобразовать мир, но почему так получается, что основные экономические теории так успешно понимают проблемы развивающихся стран и стран с переходной экономикой, но развивающиеся страны неизменно не могут сформулировать политику развития и преобразования в соответствии с этими теориями? Я думаю, что основная причина заключается в том, что эти теории исходят из развитых стран и используют развитые страны в качестве системы отсчёта, игнорируя тот факт, что различия между развивающимися и развитыми странами являются эндогенным результатом различных условий.
Например, если в развивающихся странах отрасли, как правило, трудо- или ресурсоёмкие и имеют низкую производительность труда, то в развитых странах сосредоточены капиталоёмкие, технологически развитые и высокопроизводительные отрасли. Однако такая дифференциация в структуре промышленности определяется эндогенными факторами. Развитые страны имеют капиталоёмкие и технологически передовые отрасли, поскольку после двух-трёх веков накопления капитала в результате промышленной революции они стали относительно богатыми капиталом и получили сравнительные преимущества в таких отраслях. Каковы общие характеристики развивающихся стран? Они не имеют сравнительных преимуществ в капиталоёмких отраслях из-за крайнего дефицита капитала.
Если страна развивает отрасли, в которых она не имеет сравнительных преимуществ, например, трудоёмкие производства в развитых странах и капиталоёмкие – в развивающихся, то эти отрасли неизбежно не способны к саморазвитию на открытых конкурентных рынках и не могут выжить без защиты и субсидий. Однако основная теория развития, возникшая после Второй мировой войны, не признавала, что промышленная структура отдельных стран определяется эндогенными факторами, и рассматривала в качестве проблемы только низкую производительность традиционных отраслей в развивающихся странах, а также способствовала развитию передовых капиталоёмких отраслей, не меняя экзогенных причин эндогенных следствий, что приводило к провалам и неизбежно заканчивалось неудачами.
Первоначально неолиберальная теория очень убедительно доказывала, что государственное вмешательство и искажения неизбежны в переходный период. Однако следование этим идеям в переходный период привело к замедлению темпов экономического роста по сравнению с первоначальными представлениями. Почему же политика, которая следовала таким аргументам, на самом деле привела к снижению темпов экономического развития и увеличению частоты кризисов? Основная причина заключается в том, что неолиберальная теория игнорирует тот факт, что различные искажения, предшествовавшие переходному периоду, также были эндогенными. Почему эти перекосы, интервенции и защитные субсидии существуют? Причина в том, что отрасли, которым следовало бы отдать предпочтение до начала переходного периода, настолько капиталоёмки, что предприятия этих отраслей не могут самостоятельно существовать на открытом и конкурентном рынке и не могут выжить без защитных субсидий. Согласно неолиберальным представлениям, для создания эффективных рынков, аналогичных рынкам развитых стран, необходимо одновременно проводить маркетизацию, приватизацию и макростабилизацию, чтобы сбалансировать государственный бюджет, что требует немедленного отказа от защитных субсидий всех видов. В результате отмены субсидий отрасли, не отвечающие сравнительным преимуществам, не смогут выжить, что приведёт к частым банкротствам предприятий, массовой безработице, социальной нестабильности, политической нестабильности и экономическому коллапсу. В то же время многие капиталоёмкие отрасли связаны с национальной обороной и безопасностью, и без защиты и субсидий они не смогут выжить, а национальная оборона и безопасность не будут гарантированы. Так было и на Украине. Когда-то она могла производить ядерные бомбы, авианосцы и самые большие в мире самолёты, но когда в 1990-е годы в стране произошла трансформация, она не получила субсидий для обеспечения финансового равновесия и была вынуждена отказаться от всех этих отраслей.
Конечно, большинство стран не будут настолько наивны, чтобы отказаться от оборонной промышленности и промышленности, связанной с обеспечением безопасности, поэтому даже если некогда крупные государственные оборонные компании будут приватизированы, государство будет продолжать предоставлять им защитные субсидии. При ближайшем рассмотрении оказывается, что государство вынуждено субсидировать эти компании, поскольку они необходимы для обеспечения национальной обороны и безопасности, то есть несут стратегическую политическую нагрузку. В 1990-е годы я общался со многими экономистами, как отечественными, так и зарубежными, и в научных кругах преобладало мнение, что эти компании субсидируются потому, что они находятся в государственной собственности. Со своей стороны, я считаю, что эти компании несут стратегическое бремя обороны и безопасности, и до тех пор, пока это стратегическое бремя существует, они должны субсидироваться, независимо оттого, находятся ли они в государственной или частной собственности. Кроме того, если говорить о механизмах стимулирования, то на государственных предприятиях директора и руководители заводов будут говорить, что без субсидий предприятию не выжить, и хотя после получения субсидий невозможно не набить свои карманы, но набивание карманов – это хищение, которое карается тюремным заключением или смертной казнью, если поймают. Единственный выход – быть хитрее и воровать деньги по мелкому. Однако при приватизации предприятия его владельцы не дотируют государство, но по той же причине добиваются от него защитных субсидий, в которых оно не может отказать. Но в чём разница с государственными предприятиями? Чем больше владельцы частных компаний получают субсидий от государства, тем больше обогащаются их карманы. В результате возрастает стимул к поиску ренты, а что бы вы сказали чиновникам при поиске ренты? «Деньги, которые вы мне даёте, всё равно не ваши, а деньги страны, так почему бы вам не дать мне больше? Давайте откроем счёт в Швейцарии или Панаме и разделим их между собой».
В 1990-е годы эти мои взгляды носили чисто теоретический характер. Сегодня существует масса информации, подтверждающей эту точку зрения. Помимо эмпирических исследований Всемирного банка, Европейского банка развития и ряда учёных из СССР, Восточной Европы и Латинской Америки, «панамские документы», широко обсуждавшиеся в международных СМИ пару лет назад, содержат большое количество документов, свидетельствующих о том, что феномен приватизации корпораций был очень распространён в период экономических преобразований в СССР, Восточной Европе и развивающихся странах.
Игнорируя эндогенную природу таких искажений, мейнстримные теории изменений, несмотря на строгую логику своих теоретических моделей и основанные на них чёткие рекомендации, приводят к тому, что результаты изменений, следующих за этими рекомендациями, оказываются хуже, чем это возможно. Постепенная трансформация двухколейной системы, осуществлённая в Китае, действительно привела к «предательству», поиску ренты, проблемам коррупции и ухудшению распределения доходов, как и предсказывала теория мейнстрима. Однако экономика развивалась быстрыми темпами, поскольку сравнительные преимущества рухнули, стабильность сохранялась, так как фирмы, не имеющие собственных мощностей, продолжали получать защитные субсидии в переходный период, доступ к трудоёмким отраслям был либерализован, и государство активно использовало эту ситуацию. Такое бурное развитие привело к быстрому накоплению капитала, и отрасли, изначально выступавшие против сравнительных преимуществ, постепенно стали им соответствовать, а характер защитных субсидий изменился с «помощи в трудные времена» на «предоставление привилегий». «Предоставление привилегий» не только не способствует поддержанию стабильности, но и ведёт к коррупции с целью получения ренты, неравномерному распределению доходов и другим социально-политическим проблемам. Поэтому на Третьем пленуме ЦК КПК 18-го созыва в 2013 году было предложено всесторонне углубить реформы, чтобы позволить рынку играть решающую роль в распределении ресурсов, и в качестве обязательного условия для этого отменить защитные меры, унаследованные от двухколейного периода.
