Ход Гоголем
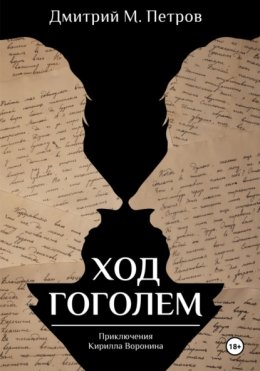
Пролог
Ранним морозным утром 9 февраля 1852 года, когда ни один луч солнца ещё не показался из-за горизонта, по центру Москвы шёл человек.
Несмотря на сильную вьюгу, одет он был в лёгкий осенний плащ. Голова была не покрыта, так что чёрные волосы развевались на сильном ветру. Человек не боялся замёрзнуть – он знал, что не простуда убьёт его, а болезнь гораздо более тяжёлая, которая к тому же уже давно набрала силу и теперь только и ждала своего часа, чтобы нанести решающий удар.
Сгорбленная фигура передвигалась медленно, опираясь на тонкую трость, – идти по рыхлому снегу было тяжело, каждый шаг давался с трудом. Ледяной ветер пронизывал до костей, но человек не замечал холода – ему нужно было дойти, непременно дойти до цели!
Хотя путь был коротким, он отнял слишком много сил – человек с трудом поднялся на крыльцо и заколотил набалдашником трости в деревянную дверь церкви.
Вскоре дверь отворилась, и ранний визитёр ступил внутрь храма.
– Николай Васильевич! В такую рань! – ахнул открывший дверь священник.
– Времени нет, отче, – прохрипел человек, смахнув иней с отросших и неухоженных усов. – Я прошу вас сохранить этот свёрток.
С этими словами он достал из-под плаща туго перемотанный бечёвкой бумажный пакет.
– Это то, о чём вы говорили, Николай Васильевич? Рукопись?
Гость зашёлся в кашле и, отдышавшись, произнёс:
– Кто-нибудь придёт за свёртком. Пока не знаю, кто: Толстой, Аксаков, может быть, Шевырёв. Только, ради Бога, не отдавайте её отцу Матвею! Он уничтожит её, не позволит напечатать!
Священник вздохнул:
– Он так ничего и не понял? Такой светлый ум, но такой ограниченный…
– Кто бы ни пришёл за свёртком с желанием напечатать рукопись, скажите ему: печатать без правок, сколько бы времени ни понадобилось, чтобы книгу одобрили. В этом весь смысл! Народ поймёт, что я хотел сказать. – Он опять закашлялся. – Запомните: печатать без правок! Так завещал Гоголь.
Глава 1
Кирилл Воронин сидел покачиваясь в вагоне метро и активно злился на самого себя.
«Чёрт меня дёрнул открыть рот! Ну чего не сиделось молча, как обычно? Нет же, надо было выступить… Как будто у меня и без этого доклада дел мало…»
До пункта назначения оставалось ещё несколько станций, поэтому Кирилл продолжил предаваться мысленному самобичеванию и раз за разом прокручивал в голове события того утра.
А утро в тот день, 8 ноября 2021 года, выдалось необычным – Кирилл проснулся непривычно рано. Он уже и забыл, каково это, – просыпаться по будильнику, но сегодня иначе было нельзя, ведь естественный ход вещей должен был в очередной раз измениться. Но тогда Кирилл даже представить себе не мог, насколько.
Обычно он неплохо высыпался на своей старой скрипучей кровати в комнате студенческого общежития, но не в этот раз. Взглянув на часы на экране телефона, он поморщился, лениво потянулся, повалялся ещё пару минут, борясь со сном, но в конце концов встал.
Его взгляд упал на рабочий стол: в центре стоял выключенный старенький ноутбук, вокруг которого валялись в хаотичном беспорядке десятки документов, не считая ручек, карандашей и его драгоценного блокнота в кожаной обложке – подарка родителей перед отъездом в Москву. «Опять уснул прямо за работой – мне бы учёбой с таким усердием заниматься, – укорил себя Кирилл. – Надо быть осторожнее – нельзя, чтобы кто-то увидел мои бумаги». Он бросил короткий взгляд на кровать соседа по комнате – как и последние несколько недель, она была пуста. Прекрасно понимая, что причиной отсутствия приятеля стал очередной загул, Кирилл ухмыльнулся – то ли от злорадства, то ли он неприязни. Одобрить поведение соседа он никак не мог.
Воронин захлопнул крышку ноутбука и аккуратно сложил бумаги в стопку, особенно осторожно обращаясь с одним пожелтевшим от времени листом – его он сначала положил в отдельный файл, а затем ещё и в пластиковую папку-уголок. Всю стопку он положил в старую картонную папку со стандартной надписью «Дело №» и зашнуровал. Коротко полюбовавшись наклейкой с изображением старинного герба, который он сам нарисовал и раскрасил разноцветной тушью, парень убрал документы в потайное отделение в ящике стола.
Взглянув в окно без штор, Кирилл увидел хмурую темноту раннего ноябрьского утра без всякого намёка на рассвет. Несмотря на деревенское детство и ежедневные подъёмы с петухами, почти два года дистанционного обучения в университете без необходимости вставать на пары ни свет ни заря сделали своё дело – он уже отвык просыпаться так рано.
«Теперь всё будет по-другому», – подумал Кирилл и стал морально готовиться к предстоящему дню.
Жизнь большинства людей уже давно вернулась в привычное русло – почти нигде не требовались прививки и анализы, в кафе можно было попасть без предъявления непонятных кодов, а наличие на лице медицинской маски уже вызывало больше вопросов, чем её отсутствие.
И лишь студенты до этого самого дня, как и полтора предыдущих года, продолжали учиться дистанционно, за исключением редких очных занятий. Кирилла, впрочем, такая учёба вполне устраивала: он не слишком хорошо умел общаться с людьми, тушевался перед преподавателями, не любил находиться в большом коллективе и вообще в центре внимания. А без этого в учёбе никуда.
Так что дистанционное обучение вполне ему подходило. Самостоятельное изучение методических материалов вместо лекций, видеоконференции вместо ответов у доски, онлайн-экзамены, списать на которых было проще простого, – всё это прочно вошло в студенческую жизнь и сейчас собиралось наконец покинуть её.
– Теперь всё будет по-другому, – повторил Кирилл, с неохотой натянул шорты и майку и вышел из комнаты.
Коридор общежития был непривычно оживлённым – все студенты в кои-то веки встали одновременно, к первой паре. Повсюду сновали полуголые молодые люди, с кухни доносился запах жареных яиц, а в туалет – вот удивительно! – была очередь, в конец которой и встал Кирилл.
– Ну что, Кирюха, готов к настоящей учёбе? – подмигнул ему старшекурсник Артём Соколов – звезда исторического факультета.
Его извечное хорошее настроение Кирилла немного раздражало. Артём был весел всегда, независимо от того, о чём шёл разговор и сколько он выпил накануне на очередной студенческой вечеринке. Никто не понимал, как ему удаётся успешно совмещать совершенно разгильдяйский образ жизни и блестящую учёбу – ещё на четвёртом курсе Артём успел сделать себе имя, найдя саркофаг с захороненным в нём знатным аланским воином во время археологической практики на Кавказе. Казалось, ему – высокому и спортивному любимцу девушек – место на страницах приключенческого романа, а не на «скучном» историческом факультете.
– Тём, хорош, и без тебя тошно, – поморщился Кирилл. – Я лёг три часа назад. Представь, как я себя чувствую, и сам ответь на свой вопрос.
– Опять за своими книгами сидел?
– Угу.
– Вот объясни мне, как так получается, что ты любишь книги больше всех, кого я знаю, но с учёбой у тебя не очень?
– Не люблю читать, когда заставляют. И зубрить не люблю, и отвечать по прочитанному. Да и что у нас за программа такая? Разве это интересно? Проходили бы мы фантастику, детективы или какие-нибудь приключения…
– Послушай, дружище. – Он положил руку Кириллу на плечо. – Книги – это, конечно, здорово, и без них в нашем деле никуда. Но и отдыхать же надо уметь!
– Я умею отдыхать, – проворчал Кирилл.
– За чтением книг? – Артём расхохотался. – Эх, что за пропащее поколение!
– То же, что и у тебя, – ты всего на два года старше меня. Заходи давай, не задерживай очередь.
Спустя минуту подошла и очередь Кирилла. Взглянув в заляпанное следами брызг зеркало, он оценил свой видок. Растянутая майка прикрывала худощавое тело – плечи вроде бы широкие, но вот было бы на них хоть немного мышц! Кирилл в очередной раз подумал, что стоило бы заняться хоть каким-нибудь спортом, а то совсем нездоровый вид получается. А если прибавить сюда худое бледное лицо с острым подбородком, мешками под глазами и взъерошенными тёмными волосами, то можно представить, что в зеркале Кирилл увидел то ли зомби, то ли вампира из фильмов ужасов, которые он так не любил. Даже обычно синие глаза потускнели и стали почти серыми. «Надо начинать ложиться пораньше, – промелькнуло в голове. – Теперь спать до обеда уже не получится».
Приведя себя в порядок, насколько это вообще было возможно, Кирилл вернулся в комнату и начал собираться. «История русской литературы, правоведение, синтаксис, – прочитал он расписание на экране смартфона. – Ну и скукота! Особенно правоведение – зачем оно мне? Где хоть что-нибудь интересное?»
Кирилл был студентом третьего курса филологического факультета МГУ. Не то чтобы он всю жизнь мечтал учиться именно здесь: несмотря на то, что он с самого детства любил книги и зачитывался ими с того самого момента, как только научился читать, сама наука филология казалась ему чем-то непонятным, несовременным и ненужным. Зачем учить свой язык, если все и так на нём разговаривают? И тем более, зачем учить историю своего языка? Все эти яти, еры, ижицы и юсы? Все книги, написанные с их использованием, уже давно переведены на современный язык, значит, никому знание этих букв, а тем более какой-то там «исторической грамматики русского языка» больше не нужны! Конечно, какие-то предметы Кириллу были всё-таки интересны, например, этимология – наука о происхождении слов, или компьютерная лингвистика – одна из основ невероятного прорыва в разработке нейросетей, случившегося в последние годы. Но не вся филология в целом, это уж точно.
Однако обстоятельства сложились так, что поступать Кириллу пришлось именно на филфак. Обстоятельства, которые теперь занимали все его мысли: пожелтевший листок, спрятанный в столе, и днём и ночью не давал ему покоя. Когда-нибудь он обязательно разгадает его тайну, но это будет ещё не скоро – для начала нужно изучить массу материалов, а самое главное – получить доступ в такие места, куда просто так не попасть. «И тогда потраченное на учёбу время окупится сторицей», – удовлетворённо улыбнулся Кирилл и тут же задумался. Подойдя к столу, он написал в своём блокноте: «Узнать, что такое “сторица”». Он часто записывал мысли, которые считал важными. Вечером у него будет время, чтобы изучить значение этого фразеологизма, но не сейчас – сейчас третьекурсник постарался сосредоточиться на предстоящей учёбе и выкинуть все посторонние мысли из головы, ведь для решения задачи ему нужно было учиться не просто хорошо, а отлично. А это не очень просто, когда учёба тебе не интересна.
Кирилл бросил шорты и майку на спинку стула, на которой уже возвышалась гора другой одежды, после чего натянул мятую футболку, потёртые джинсы и серую толстовку с капюшоном. Надев видавшее виды пальто, будущий филолог закинул на плечо сумку на длинном ремне, провёл рукой по непослушным волосам, делая вид, что причёсывается, и покинул комнату.
Выйдя из подъезда общежития, он окунулся в мерзкое ноябрьское утро. «Ну хоть дождя пока нет», – подумал Кирилл и зашагал по мрачной улице. В запасе оставалось минут десять, можно было сделать небольшой крюк через смотровую площадку на Воробьёвых горах. Он любил приходить сюда, особенно утром, когда смотровая не занята ни туристами, ни свадебными фотосессиями, ни наглыми стритрейсерами. Раннее утро – отличное время для любования Москвой, на которую только-только начинает падать солнечный свет, пусть и сквозь облака, выхватывая из темноты северной части неба силуэты зданий.
Москва Кириллу не нравилась. Кроме Воробьёвых гор и ещё пары мест, всё здесь было ему не по душе. Этот город – шумный, переполненный людьми и машинами, живущий в вечной спешке и никогда не спящий – не принимал его. В первое время он пробовал гулять по Москве, исследовать её, знакомиться с достопримечательностями, но быстро сдался – это был точно не его город. Поэтому и знал столицу Кирилл не очень хорошо. Конечно, отчасти виной тому карантинное время, проведённое практически взаперти, но основная причина – природная Кириллова лень и привычка откладывать всё на потом.
«Что она, куда-то денется, Москва эта? – часто отвечал Кирилл, когда немногочисленные приятели звали его погулять по центру. – Успею ещё». И оставался в общежитии или ехал один в одно из немногих любимых им мест в городе.
Вот и сейчас он в одиночестве стоял в точке с самым лучшим видом на Москву и смотрел на приходящий в себя после ночи город. Небо было затянуто серыми облаками, и лишь где-то на востоке виднелся просвет, через который пробивались первые лучи солнца. Окинув взглядом сталинские высотки по ту сторону Москвы-реки, он обернулся и посмотрел на самую знаменитую из них.
«Главное здание МГУ, моя альма-матер».
За два с лишним года Кирилл не перестал испытывать чувство восхищения. Здание Московского Государственного университета вызывало у него трепет с тех самых пор, как он впервые его увидел. Не считая Останкинской башни и монструозного стеклянного оазиса Москва-сити, оно было самым высоким в Москве.
Кирилл двинулся к высотке, не в силах отвести взгляд от колоссального сооружения. Контраст между освещёнными утренним солнцем участками фасада и участками, остававшимися в тени, создавал величественное и немного жуткое ощущение. Огромное здание, казалось, обнимало прилегающую площадь своими восемнадцатиэтажными крыльями.
Студент бросил взгляд на башню правого крыла: стрелка расположенного там термометра с механическим циферблатом показала плюс пять градусов.
– Ощущается как минус пять, – пробормотал он, передразнивая ведущего прогноза погоды, и поёжился. Переведя взгляд на симметричные термометру часы на левой башне, он с грустью осознал, что пора идти на учёбу.
Нехотя он двинулся в сторону главного здания МГУ, но, подойдя практически вплотную, свернул налево и пошёл на соседнюю улицу. Да, Кирилл мечтал о том, чтобы учиться в главном корпусе, и часто представлял, как прямо на лекциях смотрит в окно, любуясь Москвой с высоты птичьего полёта. Но его факультет – филологический – располагался совсем в другом строении.
– Ну здравствуй, страшилище, – уныло поприветствовал Кирилл здание Первого гуманитарного корпуса.
Оно было построено уже после принятия знаменитого хрущёвского Постановления «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», поэтому представляло собой типичный для постсталинской архитектуры уродливый серый параллелепипед. Здание считалось самым некрасивым учебным корпусом МГУ, причём, как считал Кирилл, совершенно заслуженно.
У входа в корпус он задержался, поднял глаза на бетонное панно над дверьми. «Удивительно, что никто так до сих пор и не понимает, что же тут изображено!»
Входную группу украшали примитивные изображения четырёх мужчин атлетического телосложения в окружении самых разных предметов и необычных символов. Тут были и египетские иероглифы, и славянские буквы, и космонавт, и совсем уж неуместная голая женщина, и многое другое. Студенты уже пятьдесят лет ломали голову над значением этого барельефа, строя самые невероятные догадки: от тайного послания архитектора до инопланетного следа.
«Да уж, одна из загадок человечества, над которой так любят ломать голову студенты вместо учёбы. И находят же время заниматься такой ерундой?» – подумал Кирилл и зашёл в учебный корпус.
С громким вздохом он окинул взглядом знакомые интерьеры: серые колонны тянулись от серого пола до серого потолка. Ровные ряды квадратных светильников тускло освещали помещение – всё в нём было строгим, геометрически выверенным и непременно серым. Выделялась из общего тоскливого антуража разве что изогнутая лестница на второй этаж. Каждая её ступенька опиралась на одну-единственную узкую дугообразную опору, а по краям поддерживалась тянущимися к потолку блестящими трубками, отчего казалось, что вся конструкция парит в воздухе.
Внутри царило необычайное оживление. Студенты разбились по кучкам и общались в ожидании первой пары. Кто-то давно не виделся, кто-то – первокурсники – вообще впервые встретились в университете, а кто-то успел обзавестись ребёнком и теперь получал поздравления от подруг или подколки от друзей – жизнь возвращалась в привычное русло.
Кирилл знакомых лиц не увидел, поэтому сразу направился к аудитории. «История русской литературы XIX века», – вздохнул он – этот предмет уж точно не относился к числу любимых. В иных обстоятельствах Кирилл приготовился бы полтора часа бороться со сном, но сейчас, к счастью, делать этого не пришлось – преподаватель завладел вниманием аудитории, едва войдя в помещение.
Николай Васильевич Решетников был настоящим знатоком русской литературы. Казалось, он мог выудить уместную цитату из абсолютно любого произведения, а ориентировался в бесконечном потоке фамилий, исторических фактов, тем и идей так, будто сам жил в те времена. И при всех этих знаниях его никак нельзя было назвать занудным – он умел увлечь своей лекцией студентов, распаляя в них интерес к книгам, которые раньше казались им скучными. А с каким энтузиазмом, с каким рвением рассказывал он о своём предмете!
Решетникову было слегка за пятьдесят, хотя его энергии позавидовал бы и тридцатилетний – о возрасте говорили лишь проблески седины в аккуратно уложенных волосах, старомодные усы и очки в толстой оправе. Одет он был как типичный профессор – чёрная водолазка и пиджак, застёгнутый на обе пуговицы. Впрочем, в отличие от одежды многих преподавателей старшего поколения, его пиджак выглядел довольно стильно, хоть и был маловат в плечах, отчего сидел не слишком удачно.
Кириллу Решетников нравился. Под его руководством он уже прошёл дистанционно курсы русской литературы с XI до XVIII века. Теперь же наступил черёд века XIX.
– Доброе утро! – бодро воскликнул Решетников, заходя в аудиторию. – Тратить время на перекличку и составление списка мёртвых душ не будем – на мою оценку в конце семестра присутствие на лекциях никак не повлияет. Поэтому если кто-то считает, что прогулка в парке или чашка кофе в кафетерии важнее, чем один из ключевых предметов вашей специальности, я спорить не буду. Итак…
Решетников окинул взглядом аудиторию, в которой присутствовала лишь горстка студентов, – даже на профильном предмете посещаемость была не на высоте. Он равнодушно пожал плечами, наверняка подумав: «Ну что ж, дело ваше – экзамен вам сдавать». Расстроенным профессор не выглядел – все знали, что он предпочитал, чтобы на пары ходили только заинтересованные студенты. Тогда для всех – и для преподавателя, и для самих студентов – лекция протекала с интересом и пользой.
Тут взгляд Решетникова задержался на девушке, сидящей на задней парте отдельно от всех. Она увлечённо жевала жвачку, но в то же время её внимание было полностью направлено на профессора.
– А вы, девушка, кто? – спросил он. – Не помню вас на дистанционных занятиях.
Студентка встала, и в её следующих словах послышалась некоторая дерзость – большая, чем требовалась для ответа на такой простой вопрос:
– Алиса Сенкевич. Я с исторического.
Кирилл удивлённо оглянулся на неё: редко когда студенты посещали не свои занятия, тем более по предмету, традиционно считающемуся скучным. А тут – студент-историк! У них же и своих неинтересных занятий хватает, разве нет?
– И что же привело вас на урок истории литературы, Алиса Сенкевич? – добродушно поинтересовался Решетников. – У нас тут немного не та история.
Девушка без раздумий парировала:
– Хочу понять, как жили люди в XIX веке. Я считаю, что совместное изучение истории и литературы может быть очень полезно.
– Совершенно согласен, – кивнул преподаватель. – Но обычно, когда так говорят, имеют в виду изучение литературы на фоне исторического контекста. То есть это литературоведам необходимо знать историю, а не наоборот.
Алиса готова была ответить и на это:
– Да. Но и историкам бывает полезно художественные книжки почитать. Там же всё совсем не так, как в энциклопедиях и справочниках. Это как Пугачёв у Пушкина – он же его описывает совсем иначе, чем учебники истории. А если ещё и исторические книги разных эпох почитать… то в каждом из них своя правда. Мне интереснее знакомиться с оценками исторических событий не от историков и учёных, которые – ну, вы знаете – часто пишут то, что выгодно нынешним правителям, а простого народа: от крестьян до писателей. Так что я бы послушала ваш курс. Если вы, конечно, не против, – с вызовом добавила она.
– Что ж, раз так, – Решетников засмеялся, – я не против. Пытливым умам мы всегда рады. Только жвачку уберите, пожалуйста, – не люблю, когда жуют на парах. Итак, Золотой век русской литературы. С кого начнём?
И началось занятие. Дискуссия, которая в ином случае могла бы быть вялой, сейчас протекала на удивление оживлённо – в том, что на паре присутствуют только те студенты, которым интересен предмет, есть своё преимущество, в этом Решетников был прав.
Кирилл, к сожалению, к таким студентам не относился – он-то на паре находился как раз вынужденно. Хоть читать он и любил, русская литература XIX века к его интересам никак не относилась. Ну как можно читать о будничных похождениях Онегина, Печорина или какого-нибудь Чацкого с бесконечными балами, приёмами и разговорами, когда в это же самое время жили и творили такие авторы, как Роберт Льюис Стивенсон, Джеймс Фенимор Купер или Жюль Верн со всеми своими пиратами, индейцами и фантастическими путешествиями? Нет, этого Кирилл понять не мог. А с познавательной точки зрения… Ну что такого могли поведать ему о жизни помещиков, дворян и офицеров Пушкин с Лермонтовым, чего бы он не смог узнать из семейных преданий и мемуаров своих предков? Так что русская литература Золотого Века практически не интересовала Кирилла. Поэтому и обязательную школьную программу он осилил далеко не полностью, рассчитывая, что в университете сможет наверстать упущенное – изучали здесь, в общем-то, те же самые книги, только намного глубже, да ещё и с научной, литературоведческой точки зрения. Но и учёба в вузе не смогла заразить Кирилла интересом.
Говорили на первом очном занятии не о каком-то конкретном произведении, а о литературе XIX века в целом – пытались найти в героях разных произведений некие общие черты, характеризующие этот период времени. Звучали фамилии персонажей Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Толстого, Достоевского и других выдающихся писателей и поэтов.
Кирилл молча слушал все эти разговоры, лениво пытаясь выудить из памяти смутные обрывки знаний, оставшихся со школы. Нет, вступать в дискуссию он не планировал, потому что очень слабо разбирался в её предмете, но нужно было быть готовым к тому, что преподаватель может обратить своё внимание на него и задать внезапный вопрос. Он очень не хотел попасть в немилость к Решетникову, поэтому судорожно вспоминал героев различных произведений. Фамилии и образы вереницей проносились в его голове, смешиваясь и путаясь друг с другом, как и события, участниками которых становились эти герои. В какой-то момент Кирилл, увлечённый размышлениями, неожиданно для самого себя пробормотал:
– Да что тут обсуждать: сволочи они все…
Он тут же понял, что высказал свою мысль вслух, и прикусил язык. Но было уже поздно: внимание всей аудитории, в которой резко наступила тишина, мгновенно переместилось на него.
– Что вы сказали, молодой человек? – удивлённо поднял бровь Решетников. – Воронин, если не ошибаюсь? Поделитесь и с нами своим мнением.
Кирилл мысленно выругался на себя за то, что привлёк нежелательное внимание к своей персоне, и встал.
– Я… я сказал: «Сволочи они все», – робко произнёс он. – Я имел в виду, что во всей русской классической литературе вряд ли найдёшь положительных персонажей. Как минимум, все они спорные, а в большинстве своём – отрицательные. Лентяи, лжецы, снобы, мошенники и убийцы.
– Кого конкретно вы имеете в виду?
– Да если подумать… – неуверенно проговорил Кирилл, – то кого угодно. Кого ни возьми – идеальных нет!
– А в жизни вы много идеальных видели? – с лукавой улыбкой допытывался Решетников.
Кирилл запнулся:
– Не много. Но литература на то и художественная, чтобы отличаться от жизни. Нужно же показывать хорошие примеры, чтобы читатель видел, к чему можно стремиться.
– А в нашей литературе хороших примеров, получается, нет?
– Ну… если и есть, то очень мало и я их сходу не назову. Ведь у нас как? Даже если персонаж на первый взгляд ничего, то рано или поздно он делает что-то такое, что ясно показывает его натуру. – Увлечённый, Кирилл незаметно для себя начал говорить громче. – Онегин, Печорин, Чацкий…
– Чацкий? – В голосе Решетникова слышалось неподдельное удивление.
– Чацкий, – без заминки подтвердил Кирилл. – Сноб, хам и глупец – какое уж тут горе от ума?
– Поясните.
– Три года не писать возлюбленной и ожидать, что она встретит его с распростёртыми объятьями? Глупец. Высмеять и разнести в пух и прах все устои человека, воспитавшего его и заменившего отца? Хам. Забыть, что в чужой монастырь со своим уставом не лезут, и начать критиковать и пытаться унизить членов окружающего общества, давя своим мнимым интеллектом? Высокомерный сноб. В современном значении, конечно же.
– Продолжайте. – Профессор с неподдельным интересом смотрел на студента, не отводя взгляда.
– Так вот, Онегин, Печорин, Чацкий, Обломов, Чичиков… Продолжать можно долго. И это я ещё не говорю о персонажах второго плана и антагонистах! Все сплошь мерзавцы и негодяи, причём законченные.
– То есть…
– То есть без возможности исправления.
– Без возможности исправления… – задумчиво повторил Решетников и поднял глаза на Кирилла. – И Чичиков тоже?
– А он чем лучше?
Решетников сделал паузу и, расправив плечи, неторопливо продолжил:
– Знаете, Кирилл Александрович, а ведь я свою докторскую защищал по «Мёртвым душам». Готовы подискутировать со специалистом по Гоголю?
Кирилл замялся – ему совсем не нравилось внимание, которое он привлёк. Но, чёрт возьми, ему нужно было произвести впечатление на Решетникова, ведь тот вёл один из основных предметов на факультете! Тем более, он уже ввязался – не идти же теперь на попятную? Нет, надо было выкручиваться, поэтому спустя несколько секунд Кирилл промямлил:
– Давайте попробуем. Только я ведь совсем не специалист по Гоголю, Николай Васильевич.
– Это как раз не страшно – специалистом никто не рождается, всему нужно учиться. А ваши какие годы? Сколько вам, двадцать?
– Да. То есть… почти.
– Ну вот, видите – у вас всё впереди. Я здесь затем и нужен: чтобы вас обучить, да и самому от вас чему-нибудь научиться – кто знает, какая истина родится в нашем споре? Ну а ваши товарищи нас, я надеюсь, рассудят – такие дебаты очень полезны для всех присутствующих.
Он пробежался глазами по аудитории – все молчали в ожидании интересной дискуссии.
– Ну так что, вы считаете, что Чичиков не заслуживает прощения и искупления?
– Конечно, нет! И не только я – какой-то писатель вроде бы называл Чичикова воплощением чёрта, – с удивлением для самого себя озвучил Кирилл мысль, всплывшую откуда-то из глубин подсознания. – Только я не помню кто.
– Дмитрий Мережковский, – кивнул Решетников.
– Впервые слышу. – Кирилл пожал плечами. – В любом случае чёрт – это же синоним дьявола, олицетворение зла.
– Ну, Кирилл Александрович, какой же это дьявол? Чёрт – это так, мелкая сошка. К тому же он скорее не злой, а лукавый – вспомните «Ночь перед Рождеством» того же Гоголя. Позволил бы дьявол вот так оседлать себя?
– Но он же в любом случае отрицательный персонаж? Он не заслуживает прощения и искупления. Значит, и Чичиков – такой же лукавый, такой же хитрый – тоже.
– Неужели? И вы так в этом уверены? Впрочем, насчёт чёрта Мережковский, конечно же, ошибался. Думаю, он не знал изначальной задумки Гоголя насчёт Чичикова и его дальнейших похождений. Да и что за аргументация была у Мережковского? «Лицо чёрта у Гоголя страшно не своей необычайностью, а своей обыкновенностью, близостью и знакомостью»? Детский лепет, ей-богу.
Решетников вышел из-за своего стола и присел на него, скрестив руки на груди.
– Если вы спросите меня, Кирилл Александрович, – продолжил он, – то я своего тёзку считаю вообще величайшим русским писателем. Что там Пушкин! Нет, простите, не так выразился. Александр Сергеевич бесспорно велик, но вот Николай Васильевич! Вот кто показал настоящую жизнь России!
– И в страшных сказках тоже?
– Ещё бы! «Страшные сказки», как вы их назвали, ничем не уступают по своему значению реалистическим произведениям, если заглянуть вглубь. А уж если говорить о «Мёртвых душах»… Это magnum opus Гоголя. Жаль, он не довёл работу до конца.
– Вы про сожжённый второй том? – спросил Кирилл.
– Конечно. Про второй и про третий.
– Про третий? – Настал черёд Кирилла удивляться. – Был ещё и третий?
– Был в планах, – пояснил Решетников. – Гоголь активно собирал для него материалы о Сибири: брал у друзей карты, справочники, атласы. В третьей книге Чичиков – обыкновенный мошенник, между прочим, а не какое-то там воплощение библейского зла – должен был оказаться на каторге в Сибири и там получить своё искупление. То самое, в котором вы, Кирилл Александрович, ему отказали, назвав законченным негодяем. Но сюжет третьего тома известен лишь примерно, в отличие от второго, содержание которого мы практически полностью можем узнать из черновиков и писем Гоголя к друзьям.
– И много таких писем?
– Достаточно, чтобы какой-нибудь грамотный специалист, – Решетников подмигнул, – мог создать реконструкцию книги и даже издать её.
– Вы написали второй том «Мёртвых душ»? – с недоверием спросил Кирилл.
– Я написал реконструкцию второго тома «Мёртвых душ», – поправил профессор, – это не то же самое. Написать второй том мог только сам Гоголь, таким, каким он его видел. А я всего лишь собрал воедино отрывки из черновиков и писем и восполнил недостающие фрагменты. На обложке даже моё имя написано гораздо мельче, чем имя Николая Васильевича. – Решетников сделал паузу. – Вот с третьим томом было поинтереснее.
– Вы и третий том написали?! – удивился Кирилл, и на этот раз его удивление разделили все студенты в аудитории.
– Написал, – коротко ответил Решетников. – Это уже больше моя работа, чем Гоголя. Но целиком и полностью основанная на его идее. Без ложной скромности скажу, что тут уже нужно быть отличным специалистом по Николаю Васильевичу, знать его характер и подробности последних лет его жизни, его планы и идеи.
– И что же там за идеи? Что за подробности последних лет жизни?
– А вот это, Кирилл Александрович, уже вы нам расскажете на следующей неделе в виде небольшого доклада. Изучите вопрос, почитайте письма Гоголя – все они есть в интернете, попытайтесь ответить на вопрос, как мог измениться Чичиков во втором и третьем томах – правда ли он достоин лишь порицания и не достоин прощения? Если сумеете меня удивить, то обещаю вам дополнительный балл на экзамене. И, Кирилл Александрович, раз уж у нас дебаты, прошу вас выразить именно свои мысли по этому поводу. Так что у меня будет только одно требование: пользуйтесь любыми источниками, но, пока не сдадите доклад, не читайте мои книги-реконструкции. Хотя они, конечно, доступны в любом книжном магазине, – Решетников обвёл взглядом аудиторию, сияя своей обаятельной улыбкой.
– А вы, разумеется, получаете за это свои авторские отчисления? – внезапно с заднего ряда раздался голос Алисы Сенкевич. – Зарабатываете на имени великого писателя?
Решетников снисходительно посмотрел на неё и пожал плечами:
– Зарабатываю на своём знании биографии, творчества и характера великого писателя. Знаете, я считаю, что достаточно много сил вложил в изучение его жизни, чтобы это вернулось мне в виде прибавки к окладу преподавателя. Довольно неплохой, кстати. Огромные тиражи моих книг дают понять, что людям до сих пор интересно всё, что связано с Гоголем. И мои труды помогают им удовлетворить этот интерес. Так что же плохого в том, что я при этом ещё и зарабатываю, госпожа Сенкевич?
Алиса, насупившись, упёрла взгляд в парту.
– Итак, господа, наше занятие окончено. Следующую лекцию проведёт Кирилл Александрович со своим докладом, а мы с вами послушаем и подискутируем. До встречи!
Глава 2
Вспоминая утро того дня и ругая себя за неумение держать язык за зубами, Кирилл с нетерпением ждал своей станции. Он решил не терять времени и отправился к самому подходящему человеку, чтобы узнать о последних днях Гоголя, а особенно о его письмах, раз уж они так важны для написания доклада.
Не желая делать пересадку, Кирилл доехал до станции Кропоткинская и вышел из метро. Несмотря на то, что рабочий день ещё не закончился, центр Москвы утопал в пробках. «Кто все эти люди? – как и всегда, недоумевал Кирилл. – Неужели у них нет работы? Не могут же все они быть таксистами, курьерами и безработными студентами с дурацкими заданиями?»
Город постепенно погружался в сумерки, но фонари ещё не зажглись. К счастью, небо было чистым. Кириллу даже показалось – наверняка именно показалось, – что он увидел отражение ранней звезды в луже, что для залитого светом центра Москвы было совсем уж невероятно. Где-то короткой трелью пропел зяблик, почему-то опоздавший с отлётом на юг, но всё же в основном центр города наполняли гудки стоящих в пробках машин.
Но не только дороги были переполнены – на бульваре тоже хватало людей. Кто-то гулял с собакой, молодые парочки жались друг к другу в попытках согреться, пенсионеры мерно прохаживались, делясь свежими сплетнями. Кирилла часто удивляло, почему людям в такую промозглую погоду не сидится дома. Как можно променять удобное кресло, горячий кофе и хорошую книжку на прогулку по лужам среди облысевших деревьев, когда с неба того и гляди посыплется дождь, а то и снег? Нет, летом – совсем другое дело. Летом можно немного и погулять, тем более что бульвар в тёплое время года был совсем другим – ярким, живописным, зелёным. Кирилл и сам любил иногда пройтись, особенно если было не слишком жарко – жару он любил ещё меньше, чем ноябрьскую серость и сырость.
В тот день он шёл по бульвару, ссутулившись и спрятав нос в поднятый воротник пальто, практически не замечая никого вокруг, – все его мысли занимало полученное нелепое задание.
«Гоголь, блин… “Мёртвые души”! Да кому это вообще интересно? Два тома там было, три или десять. Но придётся угодить Решетникову с этим докладом – лишний балл на экзамене не помешает и позволит уделить больше времени другим предметам».
Дойдя до конца бульвара, Кирилл упёрся в памятник. Обойдя его и подняв глаза, он поморщился и проворчал:
– Ну ещё бы. Это же Гоголевский бульвар.
С пьедестала на него смотрел Николай Васильевич, величественный и импозантный, с мужественным и немного высокомерным лицом. Он горделиво стоял, и во взгляде писателя Кириллу привиделась ухмылка. Или это была гримаса лёгкого презрения? Мол, не по силам тебе, студент, раскрыть тайный смысл моего главного произведения. По крайней мере, именно такое впечатление создалось у Кирилла.
Памятник стоял посреди четырёх фонарных столбов, установленных на бронзовые основания в виде странных львов с обезьяньими мордами. Ох и глупыми же казались они Кириллу! Но, наверное, для того времени, когда были установлены эти столбы, такой дизайн был вполне привычным. Кирилл бросил взгляд на львов, презрительно фыркнул, затем перешёл дорогу и юркнул на Арбат.
Арбат был одним из немногих мест в Москве, которые Кириллу нравились. В этом районе, где каждый уголок дышал историей, а в каждом доме можно было обнаружить мемориальную квартиру какого-нибудь выдающегося деятеля, третьекурсник чувствовал себя в своей тарелке. Конечно, сейчас музеи терялись среди светящихся круглые сутки вывесок ресторанов, баров и прежде всего сувенирных магазинов, но и просто гулять по улице в окружении отреставрированных особняков и доходных домов было приятно. Главное, попытаться отбросить всё лишнее: весь этот современный визуальный шум, прилавки торговцев барахлом и электрический свет на фасадах – и тогда, вот она, атмосфера XIX века! Совсем рядом, ближе некуда – лишь руку протяни. Казалось, ещё вчера здесь можно было встретить неспешно прогуливающихся Пушкина и Лермонтова, Герцена и Аксакова, Булгакова и Блока. Сейчас, конечно, их заменили торговцы, курьеры и многочисленные туристы, но самое главное – атмосфера того, старого Арбата – осталось, достаточно лишь включить фантазию. Но как раз с этим у Кирилла проблем не было.
К тому же здесь всегда хватало интересных артистов и занятий. Он любил остановиться, послушать музыкантов, посмотреть на работу художников, а иногда – под настроение – и на выступление уличных танцоров. Возникало стойкое ощущение, что любой творческий человек, когда у него возникало желание – или нужда – заработать немного денег, не задавался вопросом «где?», потому что ответ казался очевидным: «Конечно, на Арбате!» В погожие дни артистов здесь собиралось столько, что в любом месте улицы можно было услышать сразу нескольких музыкантов, при этом наблюдая за рабочим процессом художника, а то и не одного. Даже молодые люди, читающие стихи на публику, на Арбате делали это с такой экспрессией, что возникал вопрос: они просто хорошие актёры, пытающиеся заработать хоть какую-то прибавку к нищенской зарплате служителя театра, или городские сумасшедшие?
В этот раз из-за сырости и холода никаких артистов не было, только один паренёк с длинными сальными волосами, надрываясь, пел под гитару что-то из русского рока. Кирилл задержался на секунду, чтобы насладиться музыкой, но насладиться не удалось: во-первых, парень пел на редкость фальшиво, а во-вторых, Кирилл быстро вспомнил, что у него есть дело. Поэтому он вздохнул и пошёл дальше.
Закончился рабочий день, и из окружающих Арбат офисных зданий повалил народ. Внезапно вокруг стало очень людно и улица наполнилась голосами и смехом. Не как в выходной день, конечно, но Кириллу то и дело приходилось лавировать между прохожими, чтобы ненароком никого не задеть, – большинство людей шли ему навстречу, к ближайшему метро. «Простите… Извините…» – то и дело бурчал он себе под нос, уворачиваясь от очередного встречного.
Через несколько минут таких манёвров он свернул в боковой переулок, а затем ещё в один и оказался во дворе старинного дома. Подойдя к знакомой неприметной двери, ведущей в полуподвальное помещение, он прочитал на табличке рядом: «Мельпомена. Книжный салон и букинистический магазин. Профессор Покровский В.А.»
Кирилл, как и всегда, улыбнулся. Никаким профессором Всеволод Андреевич Покровский не был: книготорговцем – да, страстным коллекционером книг – безусловно, но не профессором.
«Люди больше доверяют тому, кто может похвастаться учёной степенью, государственными наградами или ещё какой-нибудь бумажкой, – любил говорить Всеволод Андреевич. – А в моём деле доверие очень важно!»
С Покровским Кирилл познакомился ещё на первом курсе, во время написания работы по старославянскому языку. Оказалось, что в коллекции букиниста хранится одна из древнейших русских книг – «Изборник» 1075 года. Кирилл не мог поверить, что такая ценность находится не в музее или государственном фонде, а в частной коллекции в одном из московских подвалов. Он связался с Всеволодом Андреевичем и, что называется, напросился.
Кирилл никогда не забывал то волнение, какое охватило его, когда он первый раз зашёл в «Мельпомену».
Его встретило несколько стеклянных витрин с древними книгами и высокий прилавок, единственными предметами на котором были стилизованный под старину стационарный телефон в деревянном корпусе с позолоченной трубкой и маленький серебряный звонок. Кирилл долго не решался нажать на него, вместо этого разглядывая книжные шкафы из лакированного красного дерева, рядами уходящие в полумрак, – помещение было освещено редкими светильниками с тусклым жёлтым светом. В нескольких закутках виднелись удобные кресла и небольшие журнальные столики, на которых могли поместиться только книга и настольная лампа. Кирилл с удивлением заметил, что, несмотря на явную старину практически всего здесь находящегося, ему не бьёт в нос обычный для таких мест запах пыли, неухоженной старости и нафталина, – всё было идеально убрано, деревянные полки блестели от ежедневной протирки, а на книгах, казалось, не было ни пылинки.
Борясь со стеснением, Кирилл наконец нажал на звонок. Раздался высокий звон, и тут же где-то в темноте послышались торопливые шаги.
Из тени показался невысокий полноватый мужчина с пышной шевелюрой седых волос. Его внешний вид полностью соответствовал интерьеру салона – в винтажном, но безупречно выглядящем бордовом костюме-тройке, с антикварным зажимом для галстука и толстой серебряной цепочкой, уходящей от пуговицы жилетки куда-то под пиджак, он как будто и сам был гостем из XIX века.
– О! Вы Кирилл? – Он радостно протянул руку для приветствия. – Здравствуйте! Не так часто встретишь молодого человека, интересующегося старинными книгами.
– Я… не то чтобы интересуюсь, – засмущался Кирилл. – Мне для учёбы. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили.
– Вы были так вежливы в вашем письме, что я не мог отказать! Как говорится, на добрый привет добрый и ответ.
Знакомство сразу заладилось. Букинисту пришёлся по душе вежливый и скромный молодой человек, а Кирилла поразили невероятное обаяние и начитанность Всеволода Андреевича. Если бы преподаватели в университете были такими, кто знает, может, и учёбой он занимался бы куда охотнее?
Разумеется, Покровский не сразу предоставил Кириллу доступ к уникальной книге. При первой встрече он ограничился демонстрацией экспоната в закрытой витрине из бронированного стекла. После этого они долго пили чай – конечно, за свободным от книг столиком – и беседовали о книгах, истории и учёбе Кирилла на филологическом факультете.
Постепенно букинист проникся симпатией к студенту – Кирилл стал частым гостем в лавке-музее Покровского. Когда наступил период жёсткого карантина, ему приходилось пробираться к Арбату дворами и проулками, чтобы не попасться на глаза бдительным полицейским. А иногда он даже был вынужден приходить в «Мельпомену» ночью, под покровом темноты – Покровский с радостью приветствовал своего юного гостя в любое время. К тому же Всеволода Андреевича можно было застать в салоне всегда – Кирилл был уверен, что тот даже ночует здесь, в какой-нибудь потайной комнате, скрытой за неприметной дверью.
Самого Кирилла такие ночные вылазки тоже нисколько не беспокоили – если на учёбу не нужно вставать рано утром, то почему бы и не провести ночь за чтением старинных томов? Тем более что, к его собственному удивлению, это оказалось довольно интересным занятием. Он никогда не думал, что работа с книгами будет приносить ему столько удовлетворения. Может быть, дело было в подходе Покровского: тот никогда не сидел над душой и позволял Кириллу работать самостоятельно, появляясь только тогда, когда у студента возникали вопросы. Правда, чтобы заслужить такое доверие, пришлось проявить изрядную усидчивость и аккуратность. Зато теперь он с удовольствием проводил дни и ночи, разглядывая старинные книги, рукописи и письма известных людей.
Единственное замечание, которое в самом начале общения сделал Всеволод Андреевич Кириллу, было совершенно заслуженным: придя в «Мельпомену», студент увидел на прилавке книгу XVIII века и сразу же принялся её листать.
– Ну что же вы, Кирилл! – с напускной строгостью произнёс Покровский, выходя на свет из глубины помещения. – Нельзя так с ценными экспонатами! Помните: кто аккуратен, тот и людям приятен. Пожалуйста, в дальнейшем прикасайтесь к книгам только в перчатках.
С этими словами букинист добродушно улыбнулся и протянул Кириллу пару белоснежных перчаток из тончайшей материи – они не мешали аккуратно касаться книг и в то же время надёжно защищали бесценные страницы от пота и кожного жира. Кирилл урок усвоил и с тех пор всегда имел при себе пару перчаток – кто знает, когда и где ему доведётся прикоснуться к старинному изданию?
В тот же вечер Кирилл наконец получил разрешение поработать с «Изборником». И волнение, испытанное в тот момент, запомнилось ему навсегда.
– Пойдёмте, Кирилл, – по-отечески сказал Покровский. – Я думаю, вы готовы к «Изборнику».
Студент тут же вскочил с кресла, прятавшегося в одном из тёмных углов магазина. Но сразу спохватился, вернулся и аккуратно закрыл книгу, которую читал, после чего убрал её на полку – все книги в «Мельпомене» хранились на строго определённых местах, рассортированные по жанрам, датам, алфавиту и даже цветам обложек. Система хранения Покровского была настолько сложна, что вряд ли кто-то, кроме него, мог в ней разобраться. Сам же букинист всегда находил нужный том буквально за несколько секунд.
Убрав книгу на место и обернувшись, Кирилл увидел одобрительную улыбку букиниста.
– Вы точно готовы.
Они подошли к одной из стеклянных витрин, в которых хранились самые ценные экспонаты коллекции Покровского. Кирилла всегда удивляло отсутствие замочных скважин, засовов или ещё каких-то механизмов. Все бронированные витрины были закрыты на невидимые замки с магнитными датчиками и сканерами отпечатков пальцев – для такого страстного любителя старины Всеволод Андреевич демонстрировал просто невероятное пристрастие к современным методам охраны. Кирилл был уверен, что это из-за того, что Покровский никому не доверял и больше всего на свете дорожил своей коллекцией. Поэтому и не было у него ни управляющего, ни продавца, ни охраны – из двух зол он выбрал меньшее, ведь электроника не обманет и не обворует.
Всеволод Андреевич достал из внутреннего кармана массивную связку ключей и отцепил от неё небольшой металлический бочонок – магнитный ключ. Подняв его на уровень глаз, он с трепетом воскликнул:
– Ключ к истории!
Он поочерёдно прикоснулся бочонком к разным точкам витрины, известным только ему, а затем прислонил к углу стекла большой палец. В этот же момент раздался щелчок и толстое стекло сдвинулось.
– Вот оно!
Кирилл благоговейно смотрел, как Всеволод Андреевич аккуратно достаёт фолиант из витрины и несёт на рабочий стол в самом дальнем углу помещения – единственный, на котором хватало места, чтобы уместить больше, чем одну книгу.
– Вот, Кирилл, занимайтесь. Только прошу быть максимально аккуратным – книга, конечно, застрахована от любых повреждений, как и всё в моём салоне, но лучше будет, если вы не оставите никаких следов. Занимайтесь, сколько вам нужно. Если будут вопросы, я рядом.
Кирилл сел за стол и открыл тяжёлую обложку. Этот момент навсегда остался в его памяти. Ещё бы: листать книгу XVIII века, конечно, здорово, но это не идёт ни в какое сравнение с книгой почти тысячелетней давности! Касаться, пусть и через перчатки, страниц, которых касались руки князей, монахов, святых, учёных и полководцев; вчитываться в ровные буквы, выведенные чернилами из натуральных пигментов; часами разглядывать иллюстрации, орнаменты и буквицы – всё это было настолько захватывающим, что Кирилл сам не верил, что это происходит с ним!
«Когда-нибудь, – мечтал Кирилл, – и у меня будет своя библиотека! Устрою её у себя в кабинете – должен же у меня быть кабинет? Куплю мебель из тёмного лакированного дерева, постелю на пол толстый ковёр или даже шкуру медведя, установлю камин… Хотя нет, наверное, камин – не лучшая идея для собрания книг. Одна искра и… Придётся обойтись без камина. Зато всё пространство вдоль стен заставлю книжными полками до самого потолка! Может быть, у меня даже будет двухъярусная библиотека с балконом вдоль второго этажа! Сколько же книг там поместится? Главное, никаких современных писулек – только выдающаяся классика и раритеты. Конечно, вряд ли я смогу позволить себе такие редкости, как у Всеволода Андреевича… Хотя чем чёрт не шутит? Если я смогу раскрыть семейную тайну, денег у меня будет столько, что… Эх, ладно, размечтался – до этого ещё очень и очень долго… Нужно возвращаться к учёбе. Что ж, “Изборник”, посмотрим, какие секреты ты скрываешь…»
В ту ночь он совсем не спал, просидев с этим памятником письменности до самого утра. Его курсовая работа, основанная на изучении книги, получила заслуженную похвалу преподавателя. А сам он с тех пор мог работать с любыми книгами в «Мельпомене», правда, с самыми древними – под присмотром Всеволода Андреевича.
Таким запомнилось Кириллу его первое знакомство с бесценным наследием литературного прошлого России. А сейчас он стоял на пороге «Мельпомены» и размышлял, что интересного сможет ему рассказать Покровский о Гоголе. До этого студент никогда не проявлял особого интереса к литературе этого периода, предпочитая изучать рукописные книги глубокой древности, которых в коллекции букиниста хватало. Решив больше не терять времени, он открыл дверь и зашёл в «Мельпомену».
Внутри было тихо и темно, как и всегда. Ниша в дальнем углу салона тускло освещалась: Всеволод Андреевич сидел в старинном кожаном кресле за небольшим столиком, выглядывающим из-за книжного шкафа, на котором стояла шахматная доска. Расположение фигур на ней говорило о том, что партия была в самом разгаре.
– Кирилл, добрый вечер! – воскликнул букинист, торопливо поднимаясь с кресла. – Пришли продолжить работу с «Оком церковным» XVII века?
– Не сегодня, Всеволод Андреевич. Мне доклад задали, про второй и третий тома «Мёртвых душ», – вздохнул Кирилл. – У вас есть что-нибудь по Гоголю? Может быть, его письма последних лет жизни?
– Ох, Николай Васильевич! – Покровский возвёл глаза к небу. – «Мёртвые души»! Сожжённая рукопись! Глубокая тема, обширная – не на одну чашку чая. Я бы с вами с удовольствием обсудил: добрая беседа бывает получше обеда. Но сейчас я, к сожалению, немного занят. – Он бросил быстрый взгляд в сторону стола с шахматами. – Но вы можете поработать самостоятельно.
– Может, я сфотографирую и пойду, чтобы вам не мешать?
Букинист улыбнулся:
– Вы знаете мои правила, Кирилл: никаких фотографий. Потом они случайно окажутся в интернете, и мои уникальные экспонаты никому не будут нужны. Никто не придёт в мой салон, и я стану гол как сокол! – Он театрально закатил глаза. – Давайте поступим так. Вы тихонько посидите здесь и поработаете. Я дам вам почитать «Выбранные места из переписки с друзьями» – первое издание, 1847 год. А заодно несколько писем Николая Васильевича, написанных незадолго до кончины, – м-да, где-то есть у меня такие экземплярчики.
– «Выбранные места…»? – поинтересовался студент.
– Ну что вы, Кирилл! – ахнул Покровский. – «Выбранные места из переписки с друзьями» – последняя книга Гоголя, изданная при жизни! Он называл её «единственной своей дельной книгой», представляете? А ведь уже пять лет как вышли «Мёртвые души»! Правда, это он говорил ещё до издания – потом цензура её изрядно покромсала, к сожалению. Но у меня тут совершенно случайно есть несколько вырезанных фрагментов.
– Никогда не слышал об этой книге.
– Очень жаль! В этих письмах, помимо прочего, Николай Васильевич рассказывает о своих планах на «Мёртвые души», о своём видении этой книги или, точнее сказать, книг. – Учительский тон Всеволода Андреевича делал его похожим на настоящего профессора. – Вы же знаете, что Гоголь планировал трилогию? Если вы хотите проникнуть в тайну второго тома и узнать, почему же Гоголь сжёг его, вам не обойтись без этой книги!
– А письма? Вы говорили о каких-то письмах? Неужели у вас есть оригиналы?
– Если у меня что-то есть, то только оригиналы, – обиженно ответил Покровский. – Для коллекционера ценно лишь обладание подлинником.
Возникло неловкое молчание. Кирилл так и не научился понимать, действительно ли обижался Покровских в таких случаях. А ведь обиделся он далеко не в первый раз – Кириллу уже случалось задевать гордость Всеволода Андреевича. Это, конечно, происходило не специально. Просто иногда он не мог поверить, что столько ценностей и редкостей могут принадлежать одному частному лицу, вот временами и проявлял сомнения.
Букинист нетерпеливо достал свои антикварные карманные часы, взглянул на них и насупил брови.
– Так, подождите здесь, Кирилл.
Всеволод Андреевич скрылся между книжных шкафов и спустя несколько минут вернулся с книгой в одной руке и пачкой писем в другой.
– Зелёное кресло в вашем распоряжении – там и стол чуть побольше, вам будет удобно работать. А я, с вашего позволения, вернусь к своим делам.
Кирилл подумал, что Покровский неспроста предложил ему занять именно это кресло, хотя просторный рабочий стол был бы удобнее – оно находилось на максимальном удалении от угла, в котором он и его тайный гость разыгрывали свою шахматную партию.
Кирилл пожал плечами и направился через ряды книжных шкафов к нужному месту. Он любил зелёное кресло – в меру мягкое, обтянутое приятным бархатистым вельветом, с удобными широкими подлокотниками, оно способствовало максимальному расслаблению и подходило для неспешного чтения интересной книги.
Но сейчас он не мог расслабляться – ему не терпелось побыстрее закончить с подготовкой к докладу и вернуться к своим, несомненно более важным делам. Поэтому в кресле он сел прямо, не опираясь о спинку, приготовил блокнот для заметок и раскрыл «Выбранные места из переписки с друзьями».
– «Я был тяжело болен; смерть уже была близко», – прочитал он шёпотом. – Что ж, ободряющее начало.
Конечно, читать все триста страниц книги у Кирилла не было никакого желания – в основном она представляла собой проповедь и философские размышления на самые разные темы: вера, общество, государство, литература и многое другое. «Мёртвым душам» посвящалось всего четыре письма, вынесенных в отдельную главу. На них Кирилл и обратил своё внимание.
Сколько же интересного он узнал из этих писем! Оказывается, несмотря на то, что «Мёртвые души» являются одним из важнейших образцов русской классической литературы, Гоголь был недоволен книгой! Он соглашался со значительной частью критики, обрушившейся на него и на первый том. Это сейчас «Мёртвые души» считаются главным трудом жизни Гоголя и безусловным шедевром, а сразу после издания современники вовсю критиковали и нереалистичные образы персонажей, и их избитость, и недостоверность сюжета, и плохую редактуру, и безграмотность самого писателя. Он сетовал на то, что даже великий Пушкин, перед которым Николай Васильевич преклонялся, не понял карикатурности идеи, которую сам же Гоголю и подкинул!
С удивлением Кирилл прочитал, что каждого из героев поэмы писатель наделил своими собственными недостатками, а также чертами многих своих приятелей. Но от каждого взял только самое плохое, называя всех прототипов своих персонажей «прекрасными людьми, захватившими всё пошлое и гадкое нечаянно». А вот книжных персонажей, основанных на этих «прекрасных людях», он называл ничтожными, вызывающими отвращение, но при этом писал, что они «вовсе не злодеи». Показать всю мерзость этих людей и было главной задачей первого тома.
Вот как! Персонажи книги, включая, надо полагать, и Чичикова, – мерзкие и отвратительные люди, но «вовсе не злодеи»! Неужели ему не удастся выиграть спор с Решетниковым? Если сам автор не считает их злодеями, значит он, Кирилл, ошибается и не сможет доказать свою точку зрения. Но работу нужно довести до конца – если не ради победы в дебатах, то хотя бы ради оценки.
Он продолжил изучать письма и вскоре понял, что подбирается к тому, ради чего и сел читать книгу. Вот оно! Сейчас Гоголь подведёт к тому, что по задумке, в последующих томах его персонажи должны будут раскаяться и получить искупление, о котором говорил Решетников! Значит, профессор был прав?
В предвкушении ответа Кирилл начал читать последнее, четвёртое письмо: «Затем сожжён второй том «Мёртвых душ», что так было нужно…»
– Стоп, что? – сказал он вслух и тут же осёкся.
«Ну да, всё верно, – подумал он, глядя на дату письма, – 1846 год. За год до публикации этой книги и… за шесть лет до смерти Гоголя и известного всем сожжения рукописи. Выходит, перед самой смертью он сжёг второй том не впервые?»
Это открытие шокировало Кирилла. Как же так, никто и никогда не говорил ему, что Николай Васильевич уже сжигал рукопись второго тома! Почему об этом не пишут в учебниках, не говорят на лекциях? Кириллу пришлось дожить до двадцати лет, чтобы узнать об этом невероятном факте, причём совершенно случайно! Вот только… меняет ли это что-нибудь?
«Да что ж у него за книга такая была? – недоумевал Кирилл. – Сколько он, получается, корпел над этим вторым томом? Десять лет? Чтобы в итоге опять его сжечь и перечеркнуть все труды? Поразительно…»
Это письмо Кирилл изучил досконально и практически дословно переписал его к себе в блокнот.
Гоголь писал, что второй том, над которым он работал целых пять лет, вышел совсем не таким, каким должен был выйти, и его появление в таком виде «произвело бы скорее вред, чем пользу». Он верил, что наступит такой момент, что он легко напишет второй том: «в несколько недель совершится то, над чем провёл пять болезненных лет». Из письма также следовала идея, озвученная Решетниковым: персонажи, проявившие в первом томе всю свою мерзость, должны были преобразиться и предстать совершенно в другом виде – видимо, уже в третьем томе. Второму тому отводилась роль проводника к этому «высокому и прекрасному».
Кирилл закрыл книгу, глубоко вздохнул и откинулся в кресле. Он совершенно не заметил, как пролетело несколько часов, – его начало клонить в сон, но студент твёрдо намеревался закончить всю работу сегодня. Если бы можно было выпить чашку кофе, хоть самого дешёвого, растворимого! Но Покровский запрещал пить и есть, работая с книгами, а если говорить о кофе, то он в «Мельпомене» вообще не водился.
Перейдя от книги к письмам, Кирилл читал их уже без прежнего энтузиазма – он сидел, откинувшись в кресле и подперев голову кулаком, и постоянно зевал, а документы пролистывал скорее машинально, особо не вчитываясь в их содержимое. Там не было ничего, что могло бы вызвать интерес Кирилла – никаких упоминаний «Мёртвых душ». В большинстве своём это были даже не письма в привычном понимании, а короткие записки с приглашениями на обед и благодарностями за ответные приглашения, вежливыми расспросами о чужом здоровье и сетованиями на проблемы со своим. В более длинных посланиях речь часто заходила о Боге – в основном в адресованных матери, Марии Ивановне. Было также несколько благодарственных писем к некоему Шевырёву – в них Николай Васильевич сообщал, что возвращает тому какие-то справочники о Сибири, её истории и природе. «Те самые книги, о которых говорил Решетников, – догадался Кирилл. – Гоголь использовал их при подготовке к написанию третьего тома. Значит, он вот-вот должен был приступить к работе над ним. А может быть, и вовсе приступил».
Но внезапно очередное письмо привлекло его внимание: взгляд остановился на одной маленькой детали, которая на несколько минут захватила все его мысли и прогнала сонливость, как будто её и не было.
– Всеволод Андреевич! – не отрывая глаз от письма, произнёс Кирилл в пространство. – Не могли бы вы подойти?
Послышался мягкое шуршание отодвигаемого кресла и торопливые шаги. Из темноты показался Покровский, впервые на памяти Кирилла без пиджака. Но даже в таком виде – в бархатной жилетке поверх накрахмаленной рубашки – букинист выглядел превосходно, напоминая пожилого английского денди XIX века. Даже весьма объёмный живот ничуть не портил этот образ, а в определённой степени дополнял.
– Да, Кирилл? Вам ещё что-то нужно?
– Всеволод Андреевич, а это точно подлинник? Просто…
– Кирилл, вы меня обижаете. Я же вам не раз говорил: всё, что есть в моей коллекции, – стопроцентные подлинники, – с некоторым раздражением сказал Покровский. – Что это у вас? А-а, письмо Гоголя Шевырёву, 14 февраля 1852 года, за неделю до смерти писателя.
– Кто это – Шевырёв?
– Степан Петрович Шевырёв – друг Гоголя, литературный критик, профессор и декан Московского университета, академик, и швец, и жнец, и на дуде игрец. Один из умнейших людей своего времени! Именно он был, что называется, душеприказчиком Гоголя – разбирался с его имуществом после смерти и занимался посмертным изданием книг. А ещё именно он придумал термин «загнивающий запад», который вам, безусловно, знаком. Это, впрочем, к делу совершенно не относится. А почему вы засомневались в подлинности этого письма?
– Вот здесь грамматическая ошибка, смотрите. – Кирилл показал пальцем в строку. – Слово «цела» написана через е, а должно – через ять, «цѣла».
– Да, это вполне возможно, – совершенно не удивившись, прокомментировал Покровский. – Ничего странного здесь нет, Кирилл, – грамотность Гоголя всегда подвергалась критике, ведь он был, как бы это сказать, не совсем русским писателем. Хотя и по-украински писал тоже не без ошибок, м-да… Впрочем, после переезда в Петербург их стало заметно меньше – он даже написал учебник по русской словесности. Жаль, издать при жизни не успел… как и многое другое. Но совсем избавиться от ошибок в письме ему так и не удалось. Так что ничего удивительного в этой конкретной нет, поверьте мне.
– А вы, пожалуйста, поверьте мне: так написать не мог ни один мало-мальски грамотный человек того времени! Для них е и ять были двумя совершенно разными буквами и обозначали разные звуки! Вы уверены, что это письмо написал сам Гоголь? – недоверчиво поинтересовался Кирилл.
– Ну конечно! – воскликнул Покровский. – Сравните почерк с другими письмами. Разумеется, я и сам всё это делал, когда приобретал письмо, – проводил экспертизу не только почерка, но и бумаги, и чернил. И не только самостоятельно, но и с привлечением нескольких экспертов. И ни один из них не увидел в этой ошибке ничего примечательного, ведь, как я уже сказал, слабая грамотность Гоголя была общеизвестной.
– То есть всё-таки получается, что Гоголь допустил нелепейшую грамматическую ошибку?
– Получается, что так. В последние дни он тяжело болел: не только физически, но и душевно – смерть близкой подруги сильно на него повлияла. Может быть, дело в этом?
– Знаете, Всеволод Андреевич, я бы мог с вами согласиться, если бы в этом же письме, буквально несколькими строчками выше, слово «целый» не было бы написано правильно. Как вы и ваши эксперты можете это объяснить? Это же, по сути, одно и то же слово!
– Дайте-ка взглянуть. – Покровский перегнулся через плечо Кирилла и наклонился над столом. – Да, действительно. Может быть, здесь случай каких-нибудь чередующихся гласных? Может, есть какие-то грамматические правила, о которых вы не знаете?
– Нет таких правил, – твёрдо заявил Кирилл. – У меня было два семестра исторической грамматики русского языка и пятёрка на экзамене. Я же буквально несколько месяцев назад курсовую писал, изучая ваш экземпляр ломоносовской «Российской грамматики».
– Ах, помню-помню! Замечательная у вас вышла работа!
– Если бы этого не было, я бы и внимания не обратил на эту ошибку. Но тут, извините, слишком свежи знания всех этих правил – очень уж много ночей я провёл за написанием курсовой и подготовкой к экзамену.
– Ну вот вам и бросилась в глаза эта ошибка, Кирилл. А мои эксперты, зная, насколько неграмотно писал Гоголь, просто не придали этому значения. – Букинист пожал плечами. – Да и сам я совсем не знаток старинной грамматики, поэтому тоже не обратил внимания.
– Вот именно, – кивнул Кирилл. – А я обратил и точно вам говорю: слова «целый» и «цела» должны быть написаны одинаково, через ять. Я, конечно, встречал людей, которые расставляют буквы в словах наобум – у них и правда одно и то же слово каждый раз может быть написано по-разному. Но в то, что писатель, автор учебника, «художник слова», – Кирилл выделил интонацией этот эпитет и даже поднял вверх указательный палец, – как написано на памятнике тут неподалёку, мог допустить такую ошибку, я не верю.
– Но тем не менее вам придётся поверить, Кирилл. – Голос Покровского внезапно стал серьёзным. – В этом письме нет ничего необычного. Глупая ошибка – ну с кем не бывает? Теперь, с вашего позволения, я вернусь к своим делам.
Он уже развернулся, чтобы вернуться к своему столику, как вдруг Кирилл снова к нему обратился.
– Погодите! Всеволод Андреевич, тут ещё ошибка!
– Кирилл, я же вам говорю…
– Да погодите вы! Это даже не ошибка, это… я не знаю что. Это вообще бессмыслица какая-то! Смотрите: слово «том» написано без твёрдого знака на конце! Точнее, эта буква называлась ер. Это уж совсем невероятно!
Покровский стоял, суетливо бегая глазами от бумаги к Кириллу и обратно. В конце концов он спросил:
– Скажите, всегда ли в конце слов, заканчивающихся на согласную, ставился твёрдый знак?
– Не всегда. Его иногда опускали при стенографировании для экономии времени и в телеграммах для экономии места. Но чтобы в обычном письме, когда человек никуда не торопится, он пропускал эту букву… Нет, конечно, со временем ер перестали выводить так уж старательно – видимо, понимали, что это атавизм, который рано или поздно выйдет из употребления, но хотя бы какую-то закорючку ставили всегда. Вот, смотрите: Гоголь и сам всегда пишет твёрдый знак в тех местах, где он необходим, пусть и просто обозначает какой-нибудь каракулей. Так что я не понимаю… Подождите, вот ещё!
– Что там?
– Слово «рукопись» написана через i десятеричное – то, которое с точкой, а должно быть через обычную и. А вот ещё: слово «второй» оканчивается на i десятеричное вместо и краткого. Чертовщина какая-то…
Покровский сжал губы, нервно заморгал и спустя некоторое время выдавил из себя:
– И всё же письмо настоящее, Кирилл. Бумага и чернила соответствуют XIX веку, а почерк совершенно точно принадлежит самому Гоголю.
– Но ошибки…
– Ошибки случаются, и случаются даже у великих людей. Ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает, а Николай Васильевич сделал очень многое. Кирилл, мне нужно вернуться к своим делам, простите.
Кирилл проводил букиниста взглядом и насупился. Его настроение, которого и так почти не было из-за необходимости делать доклад, теперь улетучилось полностью. Больше всего сейчас ему хотелось бросить всё, поехать в общежитие и завалиться спать – он слишком переутомился со всеми этими письмами, ерами и ятями, так что голова отказывалась соображать. Но бросать работу было нельзя – сбор материалов для доклада нужно было закончить сегодня же. Завтра будут новые занятия, новые задания и новые проблемы. Затягивать с докладом про ненавистного Гоголя совершенно не хотелось.
«Кофе, – мелькнуло в голове у Кирилла. – Мне нужен кофе». С этой мыслью он встал, накинул пальто и бесшумно, чтобы не помешать Покровскому, вышел из салона.
Выйдя на улицу, Кирилл остановился, поднял глаза к небу и глубоко вдохнул сырой ноябрьский воздух. Шумно выдохнув, он почувствовал, как вместе с этим выдохом улетучивается и напряжённость, и даже часть злости на всю эту ситуацию, поэтому даже немного усмехнулся. «Дались мне эти ошибки! Чего я к ним прицепился? Ну накосячил Гоголь в орфографии больше, чем двоечник-второгодник, ну и что? Вон Всеволод Андреевич говорит, он и так грамотностью не блистал, а перед самой смертью, наверное, совсем поехал».
Временно отбросив от себя все мысли о Гоголе, Кирилл привычно сунул нос в воротник пальто и зашагал к ближайшей кофейне. На улице было темно и влажно – сырость, казалось, висела в воздухе, занимая всё пространство и проникая подо все слои одежды, поэтому даже короткая прогулка по любимому Арбату вызывала отвращение. Нет, ему точно нужен был крепкий чёрный кофе – не только для того, чтобы взбодрить усталый мозг, но и чтобы согреться изнутри. На хороший кофе в приличной кофейне денег у Кирилла не было – никогда не было, – поэтому он направился к знакомому окошку, где иногда покупал недорогой кофе навынос – не особо вкусный, но хотя бы горячий и крепкий, а иногда даже немного бодрящий.
Купив напиток, он обхватил картонный стаканчик замёрзшими руками и решил немного пройтись по Арбату – идти в «Мельпомену» с кофе всё равно было нельзя. Это же надо будет освобождать стол от документов, потом обязательно протирать его поверхность влажной тряпкой, потом сухой… Правила Всеволода Андреевича относительно заботы о книгах и чистоты на рабочих местах были строгими, но Кирилл соблюдал их неукоснительно, поэтому и пользовался таким доверием пожилого букиниста.
Неспешно прогуливаясь, он дошёл до Стены Цоя. Легендарный арт-объект, покрытый сотнями, если не тысячами надписей, всегда вызывал интерес Кирилла – он считал его таким же памятником письменности, как, например, древние берестяные грамоты или рунические камни. Поэтому иногда прогуливался здесь, разглядывая послания, оставленные поклонниками группы «Кино» со всей страны. Среди криво нацарапанных маркерами закорючек попадались цитаты из песен, признания в любви к музыканту и даже слова благодарности от людей, которые благодаря его музыке встретили свою судьбу. К тому же здесь частенько можно было послушать уличных исполнителей. Так случилось и на этот раз.
Тот самый волосатый паренёк, которого Кирилл видел раньше, перебрался к Стене Цоя. На предыдущем месте он, видимо, сумел заработать немного денег, так что теперь пел исключительно для души, отчего и вовсе перестал стараться – прибавившаяся к фальши в голосе явная нетрезвость дали Кириллу понять, на что именно парень потратил заработанные деньги.
Музыканта окружала компания молодых людей такого же небрежного вида. Все они были в кожаных куртках и все вместе пьяными хриплыми голосами пели, а если точнее, орали слова песни про анархию. Чуть поодаль стояло несколько случайных прохожих, слушая сомнительного качества музыку. С последними аккордами песни толпа парней взорвалась ликующими воплями и разразилась криками «Даёшь анархию! Анархия – мать порядка!»
Тут от стены близлежащего дома отделилась ссутулившаяся фигура мужчины весьма помятого вида в старом пальто и смешной вязаной шапочке и направилась к нетрезвой компании.
– Что ж хорошего в этой вашей анархии, молодые люди? – обратился он к ним. – Все ваши мыслители от анархизма – если вы, конечно же, читали их сочинения, – все эти Прудоны, Кропоткины и Бакунины, они же всего лишь теоретики. – Парни уставились на него пустыми глазами. – Их утопическую анархию невозможно претворить в жизнь – это нежизнеспособная система! И история это показала – никто, нигде и никогда не смог построить долгоиграющее анархическое общество. А уж знаменитое прудоновское высказывание, которое вы тут выкрикиваете и которое у тебя, Сеня, на куртке нашито, – это вообще глупость несусветная! Анархия есть хаос, а от хаоса не может родиться порядок.
– Сан Саныч, – прошепелявил один из парней, выступая вперёд, – хорош филосохствовать! Давай лучше выпьем?
– Ох, ребята… – Взгляд мужика заметался. – Вы же знаете, мне нельзя! Ну, разве что немного.
Тут же раздались ободряющие возгласы и звуки похлопывания по плечу, из чьей-то куртки появилась початая бутылка водки, и Кирилл поспешил покинуть место – подобные мероприятия, как и вся эта компания, казались ему омерзительными.
«Но в чём-то этот мужик прав, конечно, – думал он по дороге к салону. – Как хаос анархии может превратиться в порядок? Хаос – это по определению беспорядок, и упорядочить его невозможно…»
Тут Кирилл встал как вкопанный. Бумажный стаканчик с недопитым ещё кофе выпал у него из рук.
«Упорядочить? А в каком, собственно, порядке появляются эти слова с ошибками в письме? Что там было? “Цела”, “том”, “рукопись”, “второй”? Нет, это я их в таком порядке обнаружил. А что если… Нет, этого не может быть! Но надо проверить». Он сорвался с места и торопливо зашагал к «Мельпомене».
Придя в салон, Кирилл на ходу снял пальто и тут же направился к своему креслу. Ещё не успев полностью опуститься в него, он схватил письмо и начал его перечитывать. «Не может быть! – пронеслось у Кирилла в голове, а брови сами поползли наверх. – “Второй том, рукопись цела”. Неужели… Нет, этого не может быть!»
Всё ещё не веря своим глазам, он негромко крикнул:
– Всеволод Андреевич! Подойдите, пожалуйста!
Раздались шаги, и вскоре к Кириллу подошёл Покровский.
– Что случилось, Кирилл? Признаюсь, обычно вы работаете более самостоятельно.
– Я… – замялся студент. – Я прошу прощения, что снова отвлекаю вас, но… – Он сделал глубокий вдох и выпалил: – Я не верю, что Гоголь мог допустить столько ошибок в одном коротком письме!
– Вы нашли ещё?
– Смотрите, Всеволод Андреевич. Слова с ошибками складываются в слова: «второй том, рукопись цела».
Букинист сначала нахмурился, потом удивлённо поднял брови, затем перевёл глаза с письма на Кирилла и обратно. Тот продолжил:
– А что, если… ну, в порядке бреда, – проговорил студент, откинувшись в кресле и закрыв глаза. – Что, если эти ошибки не случайны? Если Гоголь допустил их умышленно?
– Что… что вы имеете в виду?
– Очень странный набор слов получается, не находите? «Второй том» и «рукопись цела» – вы не думаете, что это шифр?
– Шифр? – ахнул Покровский. – Мог ли такой человек, как Гоголь, играть в шарады? – Букинист заметно нервничал, но в его в его глазах уже показался огонёк энтузиазма.
– Вы сказали, что Шевырёв был профессором и академиком – он бы эти ошибки точно заметил. Что, если Гоголь таким способом хотел передать ему скрытое послание?
Покровский задумался и внезапно воскликнул:
– Кирилл, давайте поищем ещё ошибки! – Всеволод Андреевич, казалось, совсем забыл о своей шахматной партии. – Чего не поищешь, того и не сыщешь.
«“Давайте поищем!” – мысленно проворчал Кирилл. – Как будто вы их будете искать. Как будто нашли бы вы их без меня».
Кирилл начал медленно читать письмо вслух, выписывая в блокнот некоторые слова:
– «Работа моя сдвинулась. Отец наш небесный наконец ниспослал мне вдохновенье. “По вере вашей да будет вам”, – говорит апостол Матфей. А я молюсь целый день напролёт, да и за перо не сажусь без молитвы. Душа моя требует выплеснуть всё на бумагу, но чувствую, что времени у меня мало, – болезнь может сжечь меня дотла в любой момент. Уже второй раз за этот год посещает меня чувство, что смерть моя где-то на пороге. Но я печалюсь не о том. Грустно мне, что рукопись моя останется не окончена, а как бы мне хотелось, чтобы она была цела! Я едва успею написать вторую книгу, но уж никак не третью. Ты знаешь, друг, что разум велел мне написать три книги, – через это хочу сохранить память о себе в вечности, как свеча, растаяв, оставляет след на листе бумаги. Благодарен Семёну, что со мной в эти последние дни. Твой весь, Н.Г.»
– Ух, – выдохнул Кирилл и откинулся на спинку кресла.
– Что получилось? – нетерпеливо спросил Покровский, заглядывая молодому человеку через плечо.
– Это… поразительно, – проговорил Кирилл. – Вот, послушайте: «Отец Матфей требует сжечь второй том. Рукопись цела. Велел сохранить Семёну».
Повисло напряжённое молчание. Сердце Кирилла колотилось так, что его стук барабанной дробью отдавался в висках, – он не верил тому, что только что обнаружил. Это же надо – след потерянного второго тома «Мёртвых душ»! Указание на то, что рукопись уцелела! Может ли это быть правдой?
– Кирилл, – дрожащим голосом прошептал Покровский, – мы с вами случайно сделали удивительное открытие!
«Ну да, “мы”, – подумал Кирилл. – Снова “мы”. Небось и все лавры себе заберёт».
– Я не могу в это поверить! – продолжил букинист, с трудом подбирая слова от волнения. – Сам Гоголь сообщает о том, что рукопись цела! Да ещё и с помощью шифра! Как интригующе! Вы представляете, какую ценность может иметь такой экспонат для книжного коллекционера?
– Экспонат? Для коллекционера?! – возмутился Кирилл. – Такой экспонат имеет ценность для русской литературы! А может быть, и для мировой. Если книга существует, ей место не в частной коллекции, а в музее или государственной библиотеке.
– Да, да… Наверное, вы правы, – нехотя согласился букинист. – И что вы собираетесь делать дальше? Будете искать рукопись?
– Да как же я её найду? Тут же ни одной подсказки!
– Тут вы, конечно, снова правы. Никаких надежд найти рукопись… – Он покачал головой. – Зато какой был бы материал для вашей курсовой или даже для диплома! Не говоря уже о ценности для русской культуры.
«Что это он делает? – Кирилл нервно переводил взгляд от письма к заметке в своём блокноте. – Подначивает?»
Конечно, Покровский его подначивал, даже не особо это скрывая, и это, похоже, сработало.
– Я… я пойду в музей Гоголя! – воскликнул Кирилл, вскакивая с кресла. – Есть же такой музей? Гоголь же жил в Москве?
– Жил-жил, и даже умер! – закивал Покровский. – И тут вам очень повезло, Кирилл: музей «Дом Гоголя» находится буквально через дорогу отсюда! Достаточно только перейти через проспект Калинина… то есть Новый Арбат. Но сейчас музей, конечно, уже закрыт.
– Значит, пойду завтра! – Кирилл воодушевлённо начал собирать вещи, но тут же добавил: – Сразу после пар – завтра важные предметы.
– Удачи вам, Кирилл! – улыбнулся букинист. – Держите меня в курсе и, главное, только меня! Не рассказывайте больше никому, ведь молчание – золото!
Кирилл бросил короткое «Ага!» и выскочил из салона, весь в мыслях о невероятном открытии.
Покровский медленно вернулся в своё кресло и в задумчивости упёрся взглядом в шахматную доску, не замечая её. Его собеседник с лёгкой ироничной улыбкой произнёс:
– Ну и времена пошли, Всеволод Андреевич. Ни вы, ни ваши эксперты не смогли найти зашифрованное послание Гоголя, а студент-третьекурсник смог!
– Да уж, времена… Я, признаться, никакого внимания на эти ошибки не обратил. Да и кто бы обратил? Все же знают про неграмотность Николая Васильевича. Вот что значит молодость – внимательный глаз и пытливый ум! – Он грустно вздохнул и в задумчивости помолчал. – Ну и надо заметить, что университетское образование у нас по-прежнему на высоте – вон как натаскали студента! С ходу заметил ошибки.
– А я вам всегда это говорил, – растянув губы в довольной улыбке, заметил гость.
– Что, если Кирилл и правда найдёт рукопись?
– Ну, тогда она украсит чью-нибудь коллекцию. Например, вашу.
– Бросьте! – Покровский махнул рукой. – Вы же коллекционер похлеще меня. Признайтесь: вы бы и сами не прочь заполучить такой экспонат?
Его собеседник зевнул и лениво передвинул фигуру на доске.
– При всей вашей симпатии к этому студенту, мне не верится, что он что-то найдёт. Сколько людей до сих пор верят, что второй том спрятан где-то в усадьбе? Сколько таких поисков уже было? Мои люди тоже искали и искали не один год. И не нашли никаких следов.
– О, Кирилл не такой, как все, поверьте! – воскликнул букинист и сделал ход. – Этот молодой человек мне сразу понравился – такой хваткий, такой целеустремлённый, любознательный. Немного ленивый, конечно, но если уж чем-то заинтересуется… Напоминает меня в молодости. Вы бы присмотрели за ним.
– Присмотрю, Всеволод Андреевич, присмотрю, не сомневайтесь. Вам, кстати, шах и мат.
Глава 3
Кирилл спал очень плохо. Возбуждение от сделанного открытия наполняло разум самыми разными мыслями, и все они были о рукописи.
Возможно ли, что второй том не уничтожен огнём, а лежит где-то и дожидается своего часа? И никто за долгие годы не смог обнаружить подсказку в письме Гоголя? Невероятно… Неужели это всё правда происходит наяву? И с кем – с ним?! С простым студентом, не хватающим звёзд с неба? Невероятно! А если он найдёт рукопись, то что с ней делать? Куда нести? Кому показывать? Может быть, Всеволод Андреевич подскажет? Нет, он постарается всеми правдами и неправдами заполучить рукопись, слишком уж жаден до подобных вещей. Нужен кто-то более надёжный.
Хотя к чему эти рассуждения? Рукописи-то ещё нет. Да и как её найти, непонятно. В письме Николай Васильевич не дал никаких подсказок, лишь сообщил о том, что рукопись сохранена. Минутку, а Семён?! «Велел сохранить Семёну», – так написано в письме! Нужно будет завтра узнать, кто этот Семён, – наверняка какой-нибудь друг. В музее должны знать о нём. Может быть, это единственная ниточка, ведущая к рукописи…
В те редкие минуты, когда круговорот мыслей немного успокаивался и Кирилл проваливался в дремоту, ему снились постаревшие от времени жёлтые листы бумаги, вихрем проносящиеся перед глазами. Мелькали чернильные строки, витиеватые буквы проносились перед глазами стаей ворон. Внезапно из-за кипы бумаг показывалось перекошенное от злости бледное лицо с усами и крючковатым носом. Человек грозил Кириллу кулаком и кричал: «Врёшь! Не найдёшь!» Затем бумаги вспыхивали в ослепительном пламени, видение рассеивалось под звуки безумного хохота, и Кирилл снова просыпался.
Во время очередного пробуждения он решил, что хватит уже мучиться в бесполезных попытках нормально уснуть, и встал с кровати. Потянулся, надел дрожащими от недосыпания руками одежду, протяжно и со звуком зевнул и вышел из комнаты.
В коридоре в такую рань совсем никого не было. Кирилл неторопливо дошёл до туалета, с громким фырканьем умылся ледяной водой, стараясь прогнать сонливость, сделал тщетную попытку пригладить взъерошенные волосы и пошёл на кухню.
Удивительно, но даже в такую рань она не пустовала – у окна сидел Артём, держа в одной руке кружку растворимого кофе, а в другой – приличных размеров бутерброд.
– Доброе утро! – весело поприветствовал он приятеля. – Как спалось? Отвратительно выглядишь.
– Доброе, – пробурчал Кирилл и сел рядом.
«Даже в шесть утра он похож на актёра с красной ковровой дорожки, – бросив короткий взгляд на Артёма, подумал Воронин. – Наверняка же лёг спать позже меня! А может, и совсем не ложился. И ни мешков под глазами, ни малейшей усталости в них».
– Тём, – обратился к нему Кирилл, прислонившись к стене и закрыв глаза, – а как ты нашёл ту могилу? Просто повезло?
– Во-первых, не могилу, а саркофаг. А во-вторых, – он задумчиво посмотрел в окно и отхлебнул кофе, – везёт только дуракам. А я точно знал, где искать.
– Это как?
– Книжки умные читал. Да, не удивляйся – я тоже много читаю. Я же сказал, что без книг в нашем деле никуда. Правда, не художественную литературу, а более, так сказать, полезную. Например, я ознакомился с дневником братьев-археологов, которые ещё при царе вели раскопки в похожем месте у похожего храма, – историк сделал ещё один глоток кофе. – Они подробно описали, где и что нашли. Я выбил себе похожий участок с той же стороны от святилища. Пришлось, конечно, руководителя экспедиции задобрить, зато – результат! «Студент четвёртого курса совершил археологическое открытие!» – передразнил он заголовок газеты.
– И как ты себя почувствовал, когда нашёл… саркофаг?
– Да охрененно я себя почувствовал! – Странный огонёк блеснул в глазах Артёма. – Если я ещё в универе нашёл такое, то что будет дальше? В земле полно всякого, что только и ждёт, пока его найдут! И я говорю не только о костях и глиняных кувшинах.
С лукавой улыбкой он достал связку ключей, на которой вместо брелока висела золотая монета.
– Это что? – удивился Кирилл, и это удивление тут же перешло в возмущение. – Ты что, присвоил себе находку? Участники археологических раскопок должны всё сдавать под отчёт!
– Ну, взял монетку – что такого? Она же моя – я её нашёл. Ладно, на самом деле три монеты – две я продал. Кто об этом узнает? – Артём подмигнул. – Ты же никому не расскажешь?
Кирилл задумался и разочарованно проговорил:
– Я думал, ты ради науки, ради открытия. Ну или хотя бы ради оценок.
– Да плевать мне и на науку, и тем более на оценки. – Артём махнул рукой, в которой всё ещё была зажата половина бутерброда. – Я археологом не из-за этого решил стать.
Повисла тишина, которую нарушали только звуки отпиваемого кофе. Приятель заговорил первый:
– Кир, а ты к чему спрашиваешь-то?
– Да так… Обнаружил кое-что. Может получиться интересная находка. Как у тебя.
– Интересная находка? У филолога? – Артём расхохотался. – Без обид, дружище, но если ты нашёл не библиотеку Ивана Грозного, ничего ценного тебе не светит. Не тот факультет выбрал!
Кирилл смутился, вздохнул и под издевательский хохот Артёма покинул кухню, а вскоре и общежитие.
Учёба не задалась так же, как и сон, – Кирилл мог думать только о письме Гоголя. На каждой паре он то и дело открывал свой блокнот и снова и снова перечитывал текст письма и расшифровку.
Кто такой Семён, Кирилл узнал сразу, как только залез в интернет, – так звали слугу Гоголя, крепостного из деревни писателя под Полтавой, который провёл с ним последние дни. Он же, согласно источникам, растопил злополучную печь, в которой сгорела рукопись второго тома «Мёртвых душ». Или не сгорела?
Про отца Матвея тоже всё быстро стало ясно. Матвей Константиновский был священником из Ржева, с которым пять последних лет жизни переписывался Гоголь. А перед самой смертью писателя отец Матвей даже жил некоторое время в том же доме, что и Гоголь. Они быстро подружились, вели долгие беседы на религиозные темы. Он был единственным человеком, кто прочитал второй том «Мёртвых душ» перед сожжением, и даже стал духовным наставником Николая Васильевича, но незадолго до смерти писателя они поссорились.
«И именно из-за “Мёртвых душ”, – подвёл итог Кирилл, дочитывая статью в интернете. – Отец Матвей и в самом деле хотел, чтобы Гоголь уничтожил второй том».
Вот, значит, как. Писатель настолько боялся вызвать гнев священника, что предпочёл инсценировать сожжение рукописи? Но ведь он не мог допустить, чтобы рукопись просто осталась спрятанной где-то, – он должен был передать её кому-то, кто сможет издать книгу.
«Шевырёву, – пришёл к выводу Кирилл. – Раз уж он занимался посмертными делами Гоголя и публикацией книг. Для этого Николай Васильевич и направил зашифрованное письмо именно ему. Дошло ли оно до адресата? Надо будет узнать у Покровского, как к нему попало это письмо, – вдруг найдётся какая-то ниточка, ведущая к Шевырёву? Но это вечером».
В таких размышлениях он досидел до конца пар. Стоит ли говорить, что конспекты Кирилла в тот день представляли собой в лучшем случае обрывки каких-то фраз, произнесённых преподавателями? Два с половиной исписанных им тетрадных листа содержали бессмысленную мешанину из грамматических правил, исторических фактов, латинских крылатых выражений и цитат из произведений на нескольких языках, не говоря уже о заметках на полях с фразами вроде «узнать в музее про Семёна» и «спросить у В.А., откуда письмо». Даже сам третьекурсник вряд ли смог бы разобраться в том, что написал в тот день, да он и не планировал разбираться – об учёбе совершенно не думалось, все мысли занимала таинственная рукопись и предстоящий поход в музей.
Прежде чем направиться туда, Кирилл решил заскочить на кафедру и рассказать профессору Решетникову о своей находке – такой известный специалист по Гоголю наверняка заинтересуется открытием из жизни любимого писателя. Кто знает, может он и дурацкий доклад отменит? А то и подскажет что-нибудь?
Профессора Кирилл застал в его кабинете на кафедре – студент дежурно постучал в открытую дверь и вошёл.
– А, Кирилл Александрович! – радушно поприветствовал его преподаватель. – Уже приступили к докладу?
– Да, можно сказать и так. – Кирилл оглядел кабинет, в котором из-за длительной дистанционной учёбы был впервые. – А это кто?
Он указал взглядом на висящий за спиной у Решетникова портрет. Фотография изображала хмурого мужчину с орлиным носом и чёрными как уголь усами. Взгляд пронзительных глаз из-под насупленных густых бровей был направлен куда-то в сторону. Одет мужчина был в элегантный костюм-тройку, шею украшал завязанный замысловатым узлом платок, а в руке он держал трость. В ровном проборе угольно-чёрных волос виднелась благородная седина. Или это был просто блик?
– Ну что же вы, не узнали Николая Васильевича? – рассмеялся преподаватель. – А ещё взялись делать доклад о его творчестве!
– Это… Гоголь?
– Ну конечно, Гоголь! Единственная прижизненная фотография, 1845 год, Италия. Вы, конечно, привыкли видеть его живописные портреты, на которых он изображён с женоподобным лицом, идиотической улыбкой и жиденькими усиками? Вот – настоящий Гоголь! Мужественный и аристократичный!
Решетников очень точно описал впечатления Кирилла от портретов Гоголя, часто украшавших школьные учебники по литературе. Здесь же, казалось, был изображён совсем другой человек – настоящий джентльмен викторианской эпохи, величественный, изящный и невероятно мрачный. Такой Гоголь понравился Воронину гораздо больше – он чем-то напомнил ему Эдгара По, некоторые произведения которого Кирилл читал. У Гоголя и По вообще было много общего: они родились в один год, оба писали в том числе и мистические произведения, а по легенде, они даже могли однажды встретиться друг с другом. Но вот только Гоголь выглядел более… красивым. И гораздо более здоровым – по крайней мере, на этой фотографии.
– Но как же так! – возмутился Кирилл. – Почему художники рисовали его таким непохожим? Зачем эти странные черты лица? На фотографии такого и в помине нет!
– А кто его знает, Кирилл Александрович! Они художники, они так видят. А вы, собственно, по какому вопросу пришли?
Кирилл замешкался: «Говорить Решетникову или всё-таки не стоит? Может, вывалить всю информацию прямо во время доклада? Вот это эффект будет! И никто не сможет присвоить себе мою находку. С другой стороны… а вдруг опозорюсь, да ещё и на всю аудиторию?»
– Да я это… – замямлил он, но в конце концов всё же решился. – Николай Васильевич, я кое-что нашёл.
Кирилл плюхнулся на стул перед Решетниковым, достал блокнот и показал преподавателю.
– Я тут читал последние письма Гоголя и в одном из них нашёл, как мне кажется, шифр. С помощью орфографических ошибок писатель…
– Ошибок? – перебил профессор. – В подборках писем Гоголя в интернете нет ошибок – там они переведены на современный русский язык, исправлены и снабжены примечаниями. Где вы это нашли?
– В частной коллекции, – неопределённо ответил студент. – У друга.
– Хорошие у вас друзья, Кирилл Александрович. Я это письмо вижу впервые. А я-то думал, что перечитал их все, – усмехнулся Решетников. – Написано Степану Шевырёву незадолго до смерти. Если это писал действительно Николай Васильевич, а вы переписали текст верно, то в нём и правда много ошибок. Слишком много, даже для Гоголя. И таких нелепых…
– Да, я согласен. Но посмотрите, – Кирилл ткнул пальцем в блокнот, – если отобрать все слова с ошибками, получится…
– «Рукопись цела», – закончил за него Решетников. – Не верится. Просто не верится!
Он снял очки и, зажмурившись, потёр переносицу.
– Я посвятил годы, изучая документы Николая Васильевича и свидетельства о его жизни. Несколько лет исследовал черновики и письма, чтобы хоть как-то восстановить сюжет второго и третьего томов. А тут сам Гоголь пишет, что оригинальный текст уцелел… – Преподаватель покачал головой. – Просто не верится.
– Не верится, – согласился Кирилл. – Но ещё меньше мне верится, что именно в этом наборе слов ошибки случайны. Они же складываются в осмысленный текст! Смотрите: тут и про слугу Семёна, и про отца Матвея Константиновского.
– Да, я вижу. Что тут у нас получается… – Профессор принялся водить пальцем по тексту. – «…требует сжечь…», «…велел сохранить Семёну…». Ну что ж, это, похоже, зацепка, хоть и слабая. Интересно, зачем Гоголь написал это письмо и спрятал в нём послание? Хотел, чтобы его друг Шевырёв издал книгу? Но почему он не передал саму рукопись? Я, если честно, не представляю, где она теперь может находиться. Так много вопросов! И самый главный из них: если рукопись попала к Семёну, но не попала к Шевырёву – где она могла затеряться и почему?
Кирилл пожал плечами. Решетников продолжил:
– Так что, Кирилл Александрович, мне кажется, что найти сейчас рукопись – это что-то из области фантастики. – Он с громким хлопком закрыл блокнот и подвинул его к Кириллу. – А мы с вами занимаемся серьёзной литературой. Так что лучше сосредоточьтесь на докладе и не теряйте времени на глупости – кто его знает, что мог выдумать перед смертью Николай Васильевич? Может, это всё вообще плод воспалённого болезнью разума. А сейчас мне, простите, пора. Вы дальше что собираетесь делать?
– Я сейчас поеду в Дом Гоголя, узнаю там про его смерть, про второй том, про Семёна и вообще про всё.
– Дом Гоголя, – задумчиво произнёс профессор. – Это хорошая идея – вам не помешает подтянуть знания биографии Николая Васильевича, а там вам обо всём расскажут. Да и для доклада пригодится. На всякий случай запишите мой номер – можете смело звонить, если ещё что-то найдёте. Только не слишком поздно, – он улыбнулся, – я рано ложусь.
Глава 4
Уже на улице Кирилл, погружённый в мысли, услышал своё имя. Обернувшись, он увидел, как быстрым шагом приближается та странная девушка с лекции Решетникова – студентка исторического факультета.
– Привет, Кирилл! Как доклад?
– Эм-м, нормально, работаю, – замялся он. – Алиса, да?
– Алиса Сенкевич. Куда идёшь? Мы с ребятами хотим пойти попить пива, так сказать, отметить начало очной учёбы. Пойдёшь с нами?
– Нет, прости, мне надо готовиться к докладу.
– Понимаю. Хочешь уделать этого напыщенного препода, да? Признайся, уже читал его книжонку? – Она говорила так быстро, что Кирилл с трудом понимал речь своей собеседницы. – Это же надо, зарабатывать деньги на рерайте великого писателя! Ты как к этому относишься?
– Что? – Мысли Кирилла были где-то далеко. – Я не знаю. Я не читал его книгу, он же запретил. Читал письма Гоголя, нашёл кое-что интересное. Сейчас еду в музей – Решетников сказал, что там можно многое узнать.
– В музей Гоголя? На Никитском? Здорово! – Она засияла. – Никогда там не была. А можно с тобой?
– А как же пиво?
– Пиво никуда не денется. А тут можно понаблюдать, как работают филологи, – как упустить такую возможность? Кстати, а филология и лингвистика – это одно и то же?
– Нет. Лингвистика – это раздел филологии наряду с литературоведением, палеографией и некоторыми другими науками.
– Как интересно! В истории тоже много разных разделов. Я вот хочу археологом стать. Ну что, возьмёшь меня с собой? Ну пожалуйста! – жалобно протянула она.
– Я… – Кирилл вздохнул. – Ладно, поехали.
В метро он наконец смог внимательно рассмотреть свою случайную спутницу. Милое личико, не испорченное косметикой, сияло улыбкой и безудержной энергией. Круглые щёчки с ямочками ни капли не полнили его, а лишь добавляли какого-то детского обаяния. Она была на голову ниже Кирилла, но не казалась миниатюрной из-за мешковатой спортивной куртки и толстой цветастой вязаной шапки с помпоном. На ногах обнаружились жутко неподходящие к погоде тряпичные кеды и джинсы с дырой на коленке – в ней было что-то от пацанки, но образ сглаживали две толстые длинные косы светло-русых волос. «Что за причёска? – подумал Кирилл. – Разве такие косы ещё кто-то носит?» Но Алиса носила.
– То есть ты считаешь, что можешь найти второй том «Мёртвых душ», который официально признан утерянным? – недоверчиво спросила Алиса, когда Кирилл ввёл её в курс дела. Он совершенно не планировал этого делать, но девушка бесконечными расспросами в конечном итоге выудила у него всю информацию.
– Я ничего не считаю, – устало ответил Кирилл. – Если честно, я не верю, что рукопись сохранилась. Мне просто интересно, к чему это может привести.
– Ну, дружочек, – фыркнула Алиса, – с таким настроем ты точно ничего не найдёшь! Разве можно совершать великие открытия с кислым лицом? Ну-ка давай бодрее!
Кирилл как-то упустил момент, когда он успел стать её «дружочком», но решил не возмущаться и постарался улыбнуться в надежде на то, что хоть на минуту останется в покое.
– Ну а ты, это… – решил он сменить тему. – Как тебе на историческом?
– Скука! От книжек уже тошнит. Я думала, учёба на археолога будет как-то поинтереснее. Но пока приходится копаться не в земле, а в справочниках. Это совсем не моё. Жду не дождусь лета, когда будет полевая практика!
– Думаешь, найдёшь что-то ценное?
– Ещё бы! Слышал про студента, который нашёл захоронение на Кавказе?
– Слышал. Артём Соколов, мой приятель.
– Правда? – обрадовалась Алиса. – Здорово! Слушай, а познакомишь нас?
– Обязательно, – ответил Кирилл, лишь бы закончить этот разговор. – Мы приехали.
Выйдя на «Библиотеке имени Ленина», они немного прошлись по пасмурной Москве под шум машин и пересекли Бульварное кольцо. Всё это время Алиса тараторила не переставая. Она рассказывала об учёбе, о себе, об истории, о Москве и о многом другом, перескакивая с темы на тему и задавая вопросы, на которые тут же сама и отвечала. Кирилл в основном молчал. Он пытался отрешиться от болтовни и сосредоточиться на своих мыслях, но у него плохо получалось – звонкая речь Алисы заглушала его собственный внутренний голос.
Ещё издалека Кирилл увидел пару ярко-жёлтых зданий, выходящих торцами на Никитский бульвар и эффектно выделяющихся на фоне серого города. От одного особняка до другого протянулась решётчатая ограда с металлическими воротами, установленными между двумя арками. Левая арка была декоративной, а в правой виднелась открытая калитка – к ней Кирилл с Алисой и направились.
– Добро пожаловать в усадьбу Толстого! – изображая гида, пропела Алиса и обвела территорию рукой.
– Гоголя, ты хотела сказать? – уточнил Кирилл.
– Это музей называется «Дом Гоголя», но на самом деле это усадьба графа Александра Толстого, у которого последние несколько лет жизни гостил Гоголь. Ты вообще ничего не знаешь, что ли?
– Всё я знаю, – буркнул Кирилл. – Про это я читал. А ты-то откуда знаешь? Откуда вообще вы все всё знаете про Гоголя?
– Успокойся. – Алиса примирительно улыбнулась. – Я люблю Москву, люблю гулять по ней, изучать. Особенно старинные особняки – в моём родном городе их почти не осталось. Рекомендую и тебе как-нибудь попробовать – вылезай хоть иногда из своих книжек.
Кирилл обиделся, но решил промолчать, поэтому просто насупился. Все его попытки «вылезти из книжек», и особенно попытки изучить Москву и её историю, заканчивались ничем – он просто терялся в этом огромном городе среди толп людей и шума машин. Попытки с кем-то подружиться тоже обычно ни к чему не приводили: кроме просмотров фильмов с соседом по комнате, пустой болтовни на кухне с Артёмом и обсуждения книг с Покровским, время с другими людьми Воронин обычно не проводил – Кириллу было скучно с ними, а им – с Кириллом.
В родной деревне, в которой прошло его детство, было всё то же самое. Конечно, у него была пара друзей, с которыми он бегал купаться на реку летом и строил снежные крепости зимой, но каждый такой день проходил в предвкушении возвращения домой, где его ждали книги, а с ними – и приключения, пусть и пережитые не им лично, а юными героями любимых произведений: Томеком Вильмовским, Жаном Грандье или Гербертом Брауном. Сам Кирилл всевозможных авантюр старательно избегал: пусть другие рискуют жизнью ради несметных сокровищ и любви прекрасной дамы, а он лучше просто почитает об этом, лёжа на мягкой кровати в уютной маленькой комнате под чердаком. Да, в его возрасте Дик Сэнд командовал бригом, а Джим Хокинс сражался с пиратами в погоне за кладом, зато он, Кирилл Воронин, как будто бы и сам пережил все эти приключения, просто-напросто прочитав о них и при этом ни разу не поставив жизнь, и даже здоровье под угрозу.
Так что никаких приключений и даже намёков на них в жизни Кирилла не было… до того самого момента, когда его дедушка перед самой смертью не поделился с ним фамильной легендой и не передал важнейший документ, который мог пролить тайну на прошлое семьи.
– Кирилл! – Звонкий голос Алисы вырвал молодого человека из воспоминаний. Улыбаясь, он несколько раз щёлкнула пальцами перед самым его носом. – Ты здесь? Витаешь в облаках?
– Я… Извини, я задумался, – оправдываясь, замямлил Кирилл. – Идём?
Студенты прошли через калитку и оказались во внутреннем дворе усадьбы.
Здесь не было ни души. Деревянные лавочки пустовали – погода явно не подходила для времяпрепровождения на свежем воздухе, хотя в другое время, надо полагать, здесь хватало любителей посидеть с книгой и стаканом кофе.
Небольшое пространство двора было обильно засажено деревьями и кустарниками, которые сейчас, правда, стояли совсем без листвы. «Летом здесь, наверное, очень даже приятно», – подумал Кирилл, разглядывая лысые деревья, пожухлые газоны и пустые клумбы.
Внезапно он ахнул:
– Господи, это ещё что такое?
Тусклый свет фонарей освещал высокий гранитный пьедестал, на котором в странном изгибе восседала закутанная в плащ сгорбленная фигура. Раскосые глаза, смотрящие исподлобья, прожигали насквозь и заглядывали, казалось, в самую душу. Всем своим видом памятник напоминал то ли ворона, то ли ведьму из страшной сказки. Отчего-то Кириллу вдруг стало не по себе. Нет, разумом он понимал, что нет никакой причины бояться куска бронзы, но этот зловещий взгляд пустых глазниц… вызывал внутри неведомый иррациональный ужас и предчувствие чего-то нехорошего. Хотя обычно Кирилл в предчувствия не верил.
– Познакомься: Гоголь Николай Васильевич, – представила Алиса.
– Зачем это здесь? – недоумённо спросил Кирилл. – Зачем это вообще создали? Он же страшный! Это что, какая-то современная поделка? Есть же нормальный памятник на Гоголевском бульваре!
– Ты будешь удивлён, дружочек, но именно это – изначальный памятник Гоголю. И именно он стоял когда-то на Гоголевском бульваре. Убрали, говорят, по распоряжению самого Сталина! Очень он ему не нравился.
– Я Сталина не очень люблю, но тут я с ним согласен.
– Так вот, памятник убрали и заменили новым, – продолжила Алиса, – тем, что стоит там сейчас. А этот со временем переехал сюда. Хорошо хоть не переплавили!
– Да уж точно, – подвёл итог Кирилл. – Пойдём в музей. Где он, кстати?
Алиса кивнула на дом, находившийся справа.
– А там что? – спросил Кирилл, указывая на противоположное здание.
– Сейчас выставочные залы. А во времена Гоголя это был служебный корпус, там жили слуги Толстых.
Кирилл окинул взглядом здание: оно было, пожалуй, даже наряднее основного дома. Вокруг окон первого этажа красовались две декоративные арки, а длинный балкон второго этажа украшали белоснежные круглые колонны, поддерживающие фронтон, и такая же белоснежная балюстрада.
– Целый огромный дом для слуг? – спросил Воронин с сомнением.
– Ну а что? Ты хоть представляешь, сколько слуг могло быть у графа? Хотя откуда тебе это знать…
– А я вот тем не менее знаю, и очень неплохо, – пробурчал Кирилл. – Ладно, пойдём уже.
Они подошли к двухэтажному дому, который выходил главным фасадом во внутренний двор. Вход в музей скрывался где-то под аркадой массивных квадратных колонн, поддерживающих длинный балкон второго этажа.
Протиснувшись в узкую дверь, Кирилл и Алиса оказались в небольшом вестибюле. Интерьер был бы совсем обычным – серая плитка «под мрамор» на полу и стены неброского фисташкового цвета, – если бы не пара толстых колонн и роскошная деревянная лестница, ведущая на второй этаж. Вряд ли лестница была современницей Гоголя – всё же выглядела она довольно свежо, – но Кирилл не сомневался, что именно такая запросто могла бы находиться в этом доме в середине XIX века. Из вестибюля влево и вправо расходились анфилады комнат. Ещё два прохода виднелись в задней части помещения, за лестницей.
– Билетики, молодые люди, – обратилась к ним сотрудница музея. – Нет? Тогда касса вон там.
Студенты направились в указанный коридор. В тесном проходе, в котором располагался гардероб, представлявший собой один сплошной деревянный шкаф, Кирилл подумал, что это здание сильно напоминает ему не бывшую дворянскую усадьбу, а какую-нибудь провинциальную поликлинику – здесь было некрасиво, небогато и не слишком уютно. Сходство дополняли потёртые кресла и плакаты на стенах, правда, вместо информации на тему здоровья на них были изображены карты с обозначением «гоголевских» мест Москвы.
Кассирша их одновременно обрадовала и огорчила: входные билеты для студентов стоили сущие копейки, но никакой возможности попасть на экскурсию в этот день уже не было.
– Неужели совсем ничего нельзя сделать? – улыбнулась Алиса женщине своей самой обаятельной улыбкой. – Ну пожалуйста! Мы так хотели посетить музей, послушать экскурсию… Мы на филологическом учимся, нам завтра доклад сдавать! Может быть, можно что-то придумать?
Внезапно сзади них раздался хриплый голос:
– Что такое, Галина Сергеевна? Молодые люди хотят послушать о великом Гоголе – неужели мы им не поможем? Нужно поощрять тягу к знаниям! Тем более что до закрытия музея ещё есть немного времени.
Кирилл и Алиса обернулись. Позади них стоял невзрачный пухловатый мужичок лет пятидесяти пяти, с красным лицом и прорехами в шевелюре. Тяжёлое дыхание и периодическое покашливание выдавали заядлого курильщика, а мешковатые серые брюки со стрелками, помятая розовая рубашка и старомодная зелёная жилетка в ромбик не просто говорили, а кричали о том, что их обладателю совершенно безразлично, как он выглядит.
– Резников Василий Петрович, доктор исторических наук. Сегодня я проведу для вас экскурсию. Начнём?
– Вот видите, – обратилась Алиса к кассирше, – а вы говорили, нет никаких вариантов. Пойдёмте, Василий Петрович, мы будем вам очень благодарны!
И Василий Петрович, залившись густым румянцем, начал экскурсию прямо в вестибюле.
– Николай Васильевич Гоголь жил в доме у своих друзей – графа Толстого с супругой – последние четыре года жизни. Жил совершенно бесплатно – Толстые обеспечивали его всем необходимым, создавая максимально комфортные условия для творчества. Сами они Гоголю тоже нравились своей скромностью и набожностью. Пройдёмте в первую комнату – переднюю.
Первое же помещение произвело на Кирилла впечатление едва ли лучшее, чем вестибюль и коридоры. Там, среди тесных светло-голубых стен, их встретил шкаф с цилиндром и знаменитым гоголевским плащом-крылаткой, в котором часто изображали писателя художники. Напротив шкафа разместилась странная стеклянная композиция в виде задней части брички, на которой примостился старинный дорожный сундук. По словам Резникова, эти предметы и эта комната символизировали любовь Гоголя к путешествиям – как известно, Николай Васильевич объехал многие страны Европы, в некоторых успел пожить, а также совершил паломническую поездку в Иерусалим. В открытом сундуке виднелась кипа каких-то книг, писем, карт и других документов. Кирилл тут же бросился к ним, надеясь найти среди писем очередную подсказку к местоположению второго тома «Мёртвых душ».
– Это документы Гоголя? – нетерпеливо спросил он экскурсовода, практически засунув голову под приоткрытую крышку сундука.
– Увы, нет, – покачал головой Василий Петрович. – И сундук, если что, тоже не его. А плащ и цилиндр – это вообще бутафория, они сшиты специально для музея лет десять назад… У нас тут вообще очень мало подлинных вещей, принадлежавших Николаю Васильевичу. Чернильница, медальон, серебряная чарка и игольница – вот, пожалуй, и всё.
– Игольница? – недоумевая, медленно проговорил Кирилл и тут же стал распаляться: – Это что вообще такое?! А где письма, документы? Какой же вы тогда дом-музей?
– К сожалению, вы правы, – Резников тяжело вздохнул, и его вздох перешёл в хрип, а затем в кашель. – Давайте не будем терять времени в этой комнате – что вам за интерес до передней? В ней всего-то жил мальчишка Семён, слуга Гоголя.
– Мальчишка? – удивился Кирилл. – Я думал, Семён был взрослым мужиком. Такой, знаете ли, опытный лакей – солидный и усатый.
– Какой там! – Экскурсовод махнул рукой. – Подростком он был, крепостным. Но этот подросток стал одним из самых важных спутников последних дней жизни писателя. И он единственный, кто присутствовал при сожжении второго тома «Мёртвых душ».
– А вот с этого места поподробнее, пожалуйста, – серьёзно произнесла Алиса. – Нас это очень интересует. – Она выделила интонацией слово «очень».
Резников смерил её взглядом, затем перевёл глаза на Кирилла, прищурился, но ничего не сказал, а лишь указал рукой на следующую комнату.
Второе помещение понравилось Кириллу гораздо больше. Как только он вошёл в него, то тут же позабыл о том отталкивающем впечатлении, которое производил на него дом до этого. Здесь уже чувствовался дворянский дух, хоть и без чрезмерной роскоши: красивая старинная мебель, гравюры в позолоченных рамах, ломберный стол, покрытый зелёным сукном, на котором под стеклянным куполом расположились книги и другие экспонаты. В дальнем конце комнаты располагался камин со стоящими на нём часами. Их строгий лакированный корпус из тёмного дерева украшали бронзовые детали и растительные орнаменты, сияющим блеском и цветом больше напоминающие золото. Короткая стрелка замерла на цифре три.
