Территория тюрьмы
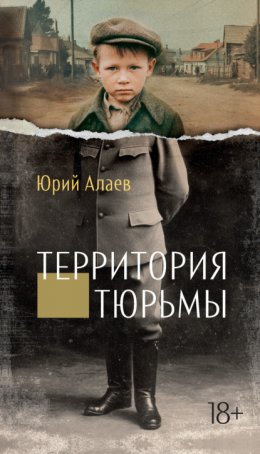
© Ю. П. Алаев, 2025
© Оформление. ООО «Издательство АЗБУКА», 2025 Издательство Азбука®
Моим дочерям Ане и Даше: сами того не зная, они помогли мне преодолеть мою леность
Особая признательность Шамилю Идиатуллину: если бы не его морально-волевая поддержка, эта книга, скорее всего, не увидела бы свет
Территория тюрьмы
Конюшня
В 1952 году Горкиному отцу, как прилежному коммунисту, дали отдельное жилье. Это было сдвоенное стойло в конюшне женского монастыря на окраине городка под названием Бугульма. Монастырь там был до революции, а после его переделали в тюрьму; стойла прилегавшей конюшни вычистили, прорубили окошки, приделали крыльца. Теперь в этих помещениях селились граждане нового мира. Новоявленному дому о девяти квартирах присвоили № 2 по улице Казанской, но так его не называли даже почтальоны, – место было известно как «территория тюрьмы»: от увитых колючей проволокой стен бывшего монастыря конюшню отделяли каких-то пара десятков метров. При желании в укоренившемся названии можно было усмотреть некий символизм, но местным ничего такого не приходило в голову, – территория и территория. Тем более что и сам город в предуральской лесостепи возник из воинской заставы на каторжном Сибирском тракте. Как считают образованные горожане, отсюда произошло и название: в переводе с татарского «бэгелма» значило «не сгибайся»; якобы этим возгласом местные жители подбадривали бредущих мимо кандальных, поднося им хлеб и воду.
Квартира, доставшаяся Горкиной семье, была хорошей. Предыдущие хозяева сложили здесь добротную русскую печь, выгородили кухоньку, стены оклеили дешевенькими, но свежими обоями. Вдобавок в квартире имелись просторные сени, которые в теплое время года легко превращались в летнюю кухню, и вместительный чулан. Мать с отцом в один заезд на полуторке перетащили из угловой комнатенки, которую они снимали в доме отцова брата (мать упорно называла ее хлевом), весь свой скарб. Отец уехал на работу, а мать принялась осматриваться, соображая, с чего начать обустройство.
Первое, что она сделала, – укрепила в простенке между окнами наклонное зеркало. И встала перед ним, оглядывая себя и оглаживая на бедрах веселенькое крепдешиновое платье. Тридцатидвухлетняя крепко сбитая женщина, способная и коня, и в избу, оттрубившая три года на войне, не чаявшая дождаться иной, чем в казарме или коммуналке, жизни, наконец стала хозяйкой чего-то своего – отдельной квартиры. Так! – пристукнула она каблучком по бурому от въевшейся грязи полу и пошла к колонке за водой – отскабливать-отмывать.
Зеркало
Для своих трех с небольшим Горка был весьма смышленым мальчишкой. Он, например, понимал, что его мама – красивая, она ему нравилась, хоть была строга, и он также понимал, что мама себе тоже нравится, и то, что она первым делом повесила зеркало, – правильно и хорошо. Правда, Горка не сразу сообразил, зачем надо было крепить верхнюю часть зеркала с отступом от стены, но сообразил-таки: при относительно маленьком размере оно, наклонное, позволяло даже взрослому человеку видеть себя в полный рост. А вскоре Горка открыл и другое свойство этого зеркала: если подойти к нему сбоку, можно увидеть ту часть квартиры, которая была с другого края.
Обнаружив это явление, Горка взял за правило каждое утро совершать обход зеркала, точнее – обеденного стола, который поставили к стенке под ним, и рассматривать жилище. Почему-то так оно выглядело ярче и объемнее, чем на самом деле. Слева в зеркале был виден угол казавшейся огромной беленой печи, а следом – трехстворчатый шифоньер (там на средней створке тоже должно было быть зеркало, но мать решила сэкономить при покупке). За ним – вход в кухню, где, помимо крашенного зеленым серванта и стола с табуретками, стояла мамина кровать; а если подойти к зеркалу с другой стороны, то справа были видны две кровати – отца и Горки, – их расположили вдоль стены, под коврами (отцовский – с оленем, Горкин – с парой лебедей на лесном озере). А выход в сени был невидим под углом, тут надо было встать прямо перед зеркалом. Но тогда перед Горкой возникал бледный мальчик с темными кругами под глазами, и этот вид его пугал. Он и это уже понимал: с ним что-то не так.
Круги под глазами были следствием ночных кошмаров, когда он просыпался оттого, что кровать под ним начинала раскачиваться и кружиться, а следом раскачивались в полутьме стены и потолок; Горка кричал, захлебываясь слезами, мать соскакивала с кровати, отпаивала его, потом ложилась к нему в постель, укрывая собой от напастей, и Горка засыпал. До следующего кошмара через день или два.
Интересно, что при всей своей анемичности Горка был не дурак поесть, но мать кормила его в основном кашками, супчиками, гоголями-моголями, он ел все это через силу и ждал, когда у отца будет аванс, а через две недели – и получка, как это родители называли. В такие дни к ним приходили гости, отцовы сослуживцы, и тогда мать меняла клеенку на льняную скатерть и зеркало отражало тарелки и миски с солеными груздями, огурцами, квашеной капустой, докторской колбасой и селедкой, чугунки с кусками тушеной свинины и – отдельно – с исходившей паром вареной картошкой. И кувшин бражки, и пара бутылок «белоголовой» тоже непременно отражались в зеркале, куда же без них. Такой фламандский натюрморт а-ля рюс в темно-коричневой раме, оживленный гаммой сытных пряных запахов и звяканьем посуды и рюмок, когда мужчины – большие, как шкафы, красномордые – чокались, выпивая за общее здоровье. Горке тоже наливали – клюквенного морса или кваса в маленькую граненую рюмку на ножке, и гости поощрительно смеялись, когда он залихватски опрокидывал ее и с серьезным видом принимался закусывать, хрустя капустой и руками раздергивая на волокна мясо.
Горка усвоил, что к отцу в гости приходили однополчане, все где-то там воевали с «фрицами» и часто вспоминали, удивляясь и радуясь, как удалось остаться в живых. Еще говорили о каких-то колорадских жуках, которых с самолетов разбрасывают над нашими полями американцы и которые потом «жрут картошку» (услышав об этом в первый раз, Горка опасливо посмотрел на чугунок), о дусте (ДДТ, поправлял кто-то), которым надо посыпать всходы, чтобы уберечься от жуков, о каких-то «студерах», которые американцы погрузили на корабли, вывезли в море и затопили, только чтобы нам не остались (много позже, повзрослев, Горка узнал, что имелись в виду «студебекеры», поставлявшиеся во время войны из США по ленд-лизу), – о разном разговаривали, но все равно как-то все сворачивало на войну – на прошедшую и, кажется, на будущую.
Однажды из разговора выплыла фамилия Жуков, – мол, вот как без него? – и все посерьезнели, а потом один произнес сокрушенно: «он же прям в ложу к Самому спустился по трубе! И говорит: „товарищ Сталин, как же?!“ А тот…» Что «тот», осталось невыясненным, потому что тут в разговор вмешалась мать, сказав негромко, но внятно: «заткнись, Паша». И все замолчали, ковыряясь в тарелках.
Вообще, мать с трудом переносила все эти посиделки. Горка чувствовал: она не уважает отцовых дружков (пяток лет спустя он понял, что она и отца не уважает). «Фронтовики, – фыркала она, выговаривая отцу на следующее утро, – однополчане! Какие они тебе однополчане, кто где воевал? Яйца Рузвельта в обозах уминали, – (это Горка понимал, речь шла о яичном порошке, опять американском), – теперь к тебе присосались, а ты и рад перед ними куражиться! Солдат с раной!» Последнее определение звучало погрубее, обиднее, отец багровел, но сдерживался. Может, потому, что понимал – жена кое в чем права, – фронтовиками в те годы норовили записаться все, а уж как там и где кто был на самом деле – не в застольях проверялось. Да и рана отцовская, о которой он, подпив, не уставал рассказывать, была, конечно, предметом подшучиваний. «Такой чирьяк вскочил на шее, – говорил отец, – вот с Горкин кулак, наверное, – голову не повернуть! Температура поднялась, аж мотает всего, а тут „фокке-вульфы“ эти налетели, гвоздят почем зря, и – жжик, потекло у меня под воротник. И так легко стало – ни температуры, ничего. Сел, – думаю, капец, артерию пробило. А это гной был! Чирей!» Гости понимающе кивали, посмеиваясь, но и завидуя: надо же, за всю войну один раз чикнуло, и то по чирью!
Мать слушала эти рассказы, горестно поджав губы: муж всю войну прослужил наводчиком расчета зенитного орудия, не тыловик, конечно, но все же чуть в стороне от пекла, а она успела побывать в нем самом – горела в Ил-4 в воздухе (экипаж чудом посадил бомбардировщик на своей территории), полгода провалялась в госпитале, борясь со слепотой, была списана из бортмехаников в наземные механики по вооружениям, цепляла 250-килограммовые бомбы… А тут осколком чирей срезало, и разговоров на всю жизнь!
Тем не менее она старалась быть правильной женой, знать, как говорится, свое место и безропотно стряпала к приходу гостей, ухаживала за ними, следя, чтобы тарелки были у всех полны и вовремя поменяны, подливала напитки…
Все оборвалось в один субботний вечер, когда в компании появился новенький (командированный, скупо пояснил отец, из главка) – сухощавый, среднего роста мужичонка с жидкими, зачесанными на прямой пробор волосами. Заявившись, он первым делом сунулся целовать матери руку. Горка в изумлении раскрыл рот, а мать, выдернув руку, проговорила невесть откуда взявшимся ледяным тоном: «Товарищ из господ? Должен знать тогда, что к руке склоняются, а не тянут к губам, как стакан». Эта сцена вызвала в компании секундное замешательство, но гость быстро нашелся, с улыбочкой прочастив что-то извиняющееся насчет «хондроза», и уселся в торце стола, рекомендуясь направо и налево: «Пегенякин, вот, к Прохору Семеновичу с дружеской ревизией, Пегенякин, рад». По такому поводу первую выпили за нового знакомого, затеялся общий разговор, мало-помалу все оживились, расслабились, но Горка чувствовал, что мать непривычно напряжена и старается не смотреть в сторону этого Пегенякина.
Первый раз заискрило, когда Пегенякин, подпивший уже до развязности, улучил момент и елейно спросил мать: «вот вы культурные, я вижу, с Прошей, а пиджак некуда повесить, напольных плечиков нет разве у вас?» Мать не нашлась что ответить, вспыхнула и выскочила в сени, загромыхав там ведрами, а отец принял у гостя пиджак и аккуратно повесил на спинку стула, заметив с улыбкой: «ничего, и тут не помнется». И опять все вроде успокоились, продолжили про свое. А потом разговор свернул на то, кто где квартировал в Германии после победы, перед отправкой домой, и Пегенякин принялся рассказывать про какую-то немку, все больше вдаваясь в подробности. «Ну, я ей завернул как след, – воодушевляясь до блеска в глазах, говорил Пегенякин, – а она руками плещет и – „битте, битте“, а больше и слов у нее нет!» он засмеялся было, но тут что-то свистнуло в воздухе и с грохотом рухнуло за зеркало. Все онемели, глядя на Горкину мать, которая, тяжело дыша, стояла за спиной пригнувшегося к столу Пегенякина с черенком ухвата в руках. Горка перевел взгляд с нее на зеркало и с ужасом увидел, как оно прямо на глазах принялось чернеть, ничего уже не отражая.
…Из обморока его вывели, дав понюхать уксуса. Гостей уже не было, Горка лежал в постели и смотрел, как отец пытается приладить ухват к черенку и бурчит в сторону жены: «а ты – „закрепи гвоздем“ да „закрепи“, закрепил бы, так ты башку бы человеку снесла». Тут до Горки дошло, что же это свистнуло в воздухе и улетело за зеркало: ухват слетел, когда мать замахнулась. Горка попытался представить, как он летел, но так и не понял. И уснул. Утром он пошел к зеркалу с опаской, но все было нормально: оно отражало их жилище, как обычно.
Отец
Прохор Семенович Вершков служил директором Горпромкомбината, который и приехал ревизовать Пегенякин, то есть был, что называется, не последним в городе человеком, и слухи о скандале быстро разнеслись по Бугульме, как и то, что ревизор нашел больше, чем мог бы; стали даже поговаривать, что недолго Вершкову осталось директорствовать, а как бы и не посадили. Сами собой сошли на нет многолюдные застолья в его квартире, круг друзей сузился до того, что им хватало на «посидеть» кабинета в местном ресторане. Но Вершков к своим пятидесяти успел повоевать в гражданскую, вступить в партию, худо-бедно не только школу окончил, но и кооперативный техникум, да так, что его оставили преподавать, а перед самой войной дослужился до назначения начальником швейного цеха Горпромкомбината, в одночасье выросшего на завершающем этапе индустриализации из артели «Кустарь». К тому времени он был уже дважды женат, имел от второй жены трех дочерей, жил у нее примаком… Повидал, короче, всякого, так что к несложившемуся визиту ревизора отнесся стоически и даже загордился про себя, поняв, что после случившегося жену его в городе зауважали по-особому.
На отечественную войну Прохор попал при не вполне ясных обстоятельствах: тридцать девять лет, какой-никакой, а начальник, номенклатура, дети на руках – не должны были призывать, но в октябре 42-го он как-то внезапно собрался, поцеловал в лоб суженую, хмыкнув неизвестно чему, потискал задумчиво старших дочерей, посмотрел на валявшуюся в люльке младшенькую и уехал на попутке в Куйбышев, на сборный пункт. Бывшего в ладах с математикой, Прохора Семеновича определили, как вскоре узнала многочисленная родня, в наводчики зенитного орудия, при нем он и прослужил до Победы, заставшей их батарею под Кенигсбергом.
Вернулся Прохор в Бугульму с орденом Красного Знамени (самым «мутным» по статусу и причинам для награждения из советских орденов), пятком медалей «за освобождение» и «за взятие», а также и «За отвагу» и кое-каким скарбом. Точнее, бо́льшая часть скарба уже была дома у старшего брата Василия: в 45-м воинам армии-победительницы официально было разрешено отправлять домой посылки из «заимствованного» у бюргеров добра; рядовым – до пяти килограммов в месяц, офицерам – до десяти, а генералам, поговаривали, и вообще без меры. Сержант Вершков натаскал немного: патефон, кофр с пластинками, комплект льняных салфеток с надписями по краям красным по белому «Tischtuch» (то ли «платок на стол», то ли «тряпка для стола», понимай как хочешь), двухкомфорочный керогаз с асбестовыми фильтрами, длинное кожаное пальто, габардиновый плащ и отрез тонкого сукна.
Трофеи эти оказались у брата потому, что под новый, 1945 год Прохор Семенович оказался вдовцом: жена скончалась от заражения крови. Что за заражение, откуда – никто и не разобрался толком, мало ли людей умирало в войну. Детей Василий с женой приютили, конечно, но когда Прохор вернулся в Бугульму, к «октябрьским», то тут же возник вопрос о хозяйке: куда отцу-одиночке с тремя дочерями?
Стали с родней присматривать, и выбор пал на статную шатенку Наталью, служившую кассиршей в местном «Заготзерне». Прохора она привлекла контрастом между темной «мастью» и холодным огнем голубых глаз, а также набором трофейных кокетливых шляпок и вуалей, которые Наталья надевала на танцы в городском ДК и смотревшихся на ней не хуже, чем на Любови Орловой. Деловитой жене Василия Луше Наталья понравилась тем, что была круглой сиротой. «За ней никто не встанет, а она за тебя, если возьмешь в жены, живот положит, – припечатала как-то за ужином Лукерья и добавила: – и к труду сызмальства привычная, что тебе тягловая лошадь». Последний аргумент диссонировал, конечно, с образом Любови Орловой, но произвел на Прохора впечатление. Наутро он запряг служебный тарантас и поехал в «Заготзерно» делать предложение.
Тут надо пояснить, что, демобилизовавшись, Прохор Семенович времени не терял: чуть ли не в день приезда явился в горком партии, доложился, встал на учет и после короткого разговора с «первым» получил направление на руководящую работу – в тот же Горпромкомбинат, только уже начальником не швейного цеха, а всего предприятия, в котором были еще кирпичный и столярный цеха, шорная и сапожная мастерские, а также парк гужевого транспорта, состоявший из десятка лошадей, телег и начальственного тарантаса на резиновом ходу и с рессорами от «опель-капитана». Это наследство досталось Вершкову от предшественника с неприличной фамилией Бляденков, внезапно уехавшего куда-то на Украину. Так что Прохор Семенович в самом деле был не последним в городе человеком и завидным женихом, чего экс-бортмеханик Таманского бомбардировочного гвардейского полка, а теперь просто кассир в затрапезной конторе Наталья Абрамова не могла не оценить. И оценила, утихомирив свою гордыню.
Поженились они в первых числах марта 47-го года, очень скромно, по-деловому можно сказать: днем расписались в ЗАГСе, а вечером отметили событие в пятистенке Василия на окраине Бугульмы.
Из гостей, помимо Василия с Лукерьей и двух их сыновей, были только свидетели брака: горпромкомбинатовский закройщик Лева Гируцкий, сосредоточенный еврей лет сорока с небольшим, и курчанка Клава, кладовщица конторы «Заготзерно». «Горько» не кричали (Прохор Семенович строго наказал обойтись «без детства» еще до того, как сели за стол), а песни, захмелев, пели, конечно, – и «Шумел камыш», и «Мороз, мороз»… Лева, хлебнув как следует браги, грянул было «Артиллеристам Сталин дал приказ», но был остановлен внезапной репликой Натальи: «Орел! Любишь начальникам лизать?» Она, надо думать, имела в виду, что Прохор Семенович был артиллеристом, но сказалось как-то не так, и над столом повисла тишина. На Наталью при этом не смотрели, смотрели на Леву. Он постоял, опустив голову, потом встряхнулся, взял стакан и предложил, усмехнувшись виновато: «Ну, тогда за молодую! Счастья тебе, Наталья!» Зашумели, задвигались, чокаясь, старший сын Василия, тоже Вася, кинулся заводить патефон для танцев, но воздух из застолья вышел, и вскоре свадьбу свернули.
Глубокой ночью, намесившись с женой под ватным одеялом, Прохор Семенович осторожно спросил, обтираясь простыней: «Наташка, а ты не троцкистка, случаем?» – «Идиот, – хрипло откликнулась Наталья, укладываясь лицом к стене, – ты лучше думай, где мы жить будем». Ну, он и надумал – в стойле. Правда, пришлось подождать, походить по кабинетам, и получил он жилье чуть ли не как награду к пятидесятилетнему юбилею.
Бычья кровь
Горку Наталья родила в двадцать девять, по тем временам поздно, и мальчик принялся умирать, едва родившись. Неизвестно, что тут сказалось – возраст матери, скудное питание, а скорее всего – трагедия, случившаяся в их семье, когда Наталья уже была на сносях: внезапно и необъяснимо умер ее первенец, полуторагодовалый Валерка, – сгорел за сутки, заходясь в крике и хрипах. Наталья слегла с сильнейшим нервным потрясением и родила Горку на девятый день после смерти его старшего брата.
Роды проходили тяжело, у нее почти не было сил (а может, желания) исторгнуть на свет божий еще одного ребенка, но пацан вылез в итоге и вполне себе ничего – под четыре двести весом и пятьдесят три сантиметра в длину. Вопреки опасениям врачей, у Горкиной матери не пропало молоко, и когда он первый раз вцепился губами в материнский сосок, она вздохнула глубоко, тайком перекрестилась и решила, что надо жить дальше.
Однако спустя два месяца молоко иссякло, ребенка перевели на искусственное вскармливание, начались запоры, стал стремительно развиваться рахит, Горка исхудал, а в годик с небольшим у него случилось двустороннее воспаление легких.
Наталья буквально обезумела. Лежа с Горкой в больнице и ловя хмурые взгляды врачей и медсестер, все чаще думала, что все это с ее ребенком неспроста, как неспроста умер и первый. «Сгубили, губят, – шептала она своей подружке Клаве тоже уже почти в горячечном бреду, – это его отродье мне мстит, сволочи!» Клава отводила глаза и сморкалась в платок.
«Отродьем» Наталья называла дочерей Горкиного отца от предыдущего брака. Собственно, с ними жила только одна, младшая Римма, две другие дочери Прохора Семеновича обособились сразу, как только отец обзавелся новой женой. Старшая, Нина, как раз окончив институт в Куйбышеве, получила распределение на радиозавод во Львов, за ней увязалась и средняя, старшеклассница Галя. Брак отца с Натальей старшие дочери не одобрили, но Римма, которой в год рождения Горки исполнилось семь лет, просто и без принуждения звала Наталью мамой, послушно делала, что велели, по дому и охотно тетешкалась с Валеркой. Ей и досталось.
Наталья Римму терпела, но и только: морщилась, чуя, как ей казалось, фальшь, когда слышала «мама», с молчаливым осуждением смотрела, как Римма чистит картошку – как карандаш точит (пыталась показать, как надо, чтобы тонкая шкурка змеилась под ножиком, да без толку, белоручка, что с нее возьмешь), и едва сдерживалась, чтобы не отнять, когда Римма принималась играть со сводным братиком. Однажды и вправду заигралась: поднесла Валерку к дверце печки-голландки, открыла кочережкой, чтобы тот на огонь полюбовался, а малыш качнулся, да и схватился за раскаленный металл. Сильно обожгло Валерке ладошку, до мяса, и заживала она как-то нехотя, но обошлось вроде. Этот случай не то чтобы забылся Наталье, а затушевался со временем, но вспомнился до мельчайших деталей, когда Валерка внезапно умер. И теперь напасти валились одна за другой на нее и ее второго сына, она уже другими глазами смотрела на то, что случилось тогда, особо отмечая, как тихо, молча стояла среди плача Римма. Отродье.
С пневмонией Горкин организм все-таки справился, но перед выпиской из больницы Наталью «осчастливили» новым диагнозом: малокровие у вашего мальчика, мамаша.
Когда это обнаружилось, седенький, дореволюционного образца, доктор Земляникин прописал Горке лечение с довольно экзотическим оттенком: наряду с типовым гематогеном, куриными бульонами и гоголем-моголем по утрам, велел давать по десертной ложке кагора перед сном. Отец, узнав об этом, только хмыкнул: «не спился́ бы», а мать, для которой доктор Земляникин был запредельным авторитетом («он городского голову лечил, что ты ржешь!»), восприняла все очень серьезно и побежала делать запасы – и гематогена, и кагора, который – что было для Натальи тоже важно – слыл церковным вином.
Какое-то время диета от доктора Земляникина делала, казалось, свое дело: Горка заметно поправился, порозовел, стали выправляться ножки (может, сказалось и то, что мать туго их пеленала с шести месяцев), но потом начались ночные кошмары с раскачивающимися стенами и потолком, Горка снова начал худеть, попутно перенося одну за другой все детские болезни по списку, от кори до скарлатины, и мать опять потихоньку начала сходить с ума.
Главным виновником всех бедствий стал муж, который не смог достать для сына путевку в санаторий, который думает только о себе (там было о чем подумать – Прохор Семенович вернулся с войны туберкулезником), который только свою Римку любит, а их – нет, который только жрет и пьет, который…
Отец уходил от скандалов как мог – засиживался допоздна в своей конторе, уезжал в выходной на рыбалку, стал заметно чаще выпивать, дошло до того, что он отослал жить к брату родную дочь (Римма и это снесла безропотно), но ничего не менялось – ни в отношениях с женой, ни с Горкиными хворями. На помощь пришел случай.
Среди отцовых приятелей был директор местного мясокомбината Карпухин, и, когда Прохор Семенович однажды поделился с ним проблемой, этот Карпухин, выслушав и подумав, сказал: «Кровь плохая, говоришь? Так надо хорошей добавить, бычьей – сам как бычок станет». И засмеялся. Прохору Семеновичу было не до смеха, но, выслушав аргументы приятеля, он решил, что хуже не будет, и согласился с карпухинским планом. Осталось сделать так, чтобы о нем не узнала жена (Вершков даже представить не решался, что бы тогда было), и Прохор Семенович придумал, что по субботам у них на комбинате бывает объезд лошадей, и он будет брать сына с собой, чтобы побольше бывал на свежем воздухе. Как ни странно, Наталья на это повелась (хотя, если подумать, какие там могли быть объезды тягловых кляч?), и так однажды Горка узнал вкус крови.
Карпухин Горке не понравился, едва они вошли в его кабинет, – такой насупленный боров, и посмотрел на него, как на щенка какого, – но сам кабинет – да: весь в темных («под дуб», – шепнул отец) панелях, с развернутым бордовым знаменем в углу… Пока Горка оглядывался, усаженный за приставной стол, «боров» снял трубку и буркнул: «с бойней соедини». И еще что-то буркнул потом. Через некоторое время в кабинет, толкнув дверь ногой, вошел такой же сумрачный дядька, только похудее, с тяжелой даже на вид стеклянной колбой в руках, поставил ее перед начальником на стол и, ни слова не сказав, вышел. Колба была до краев наполнена чем-то ярко-алым. «Ну вот, мужики, – сказал, доставая стаканы, хозяин, – давай, как заведено, махнем на троих».
– Это… кровь? – как-то догадался Горка, глядя на чуть вспенившуюся жидкость в своем стакане. – Пап, я не могу.
– Надо, сынок, – сказал отец, – давай, за твое здоровье, до дна! – И, не отводя от сына глаз, принялся пить, подавая пример.
Кровь была еще теплой, сладковатой и одновременно будто чуть подсоленой, у Горки стало сводить живот, но он пил и пил. Пока не выпил. «Ну вот, – удовлетворенно хрюкнул „боров“, отирая губы, – лиха беда начало, как грится. А теперь давайте, мужики, у меня дел тут еще… Жду через неделю».
Они ездили на мясокомбинат еще раза три, может, четыре – Горка не запомнил, – и удивительное дело – ночные кошмары прекратились! Горка нормально спал, просыпался бодрым, с удовольствием играл с соседскими пацанами… Мать не удержалась однажды – вскользь заметила мужу за ужином: «вот, Римки-то нет, и вот», но Прохор Семенович только отмахнулся с досадой: он-то точно знал, что дело в бычьей крови (хотя понимал, что кровь была коровьей, так-то быков не напасешься).
…Кошмар догнал Горку несколько месяцев спустя, но не такой, как обычно. Он проснулся среди ночи оттого, что начало что-то светить в глаза, все ярче и ярче, белым раскаляющимся светом. Свет шел из проема на кухне между стеной и печкой-голландкой, Горка смотрел туда, немея, и вдруг увидел, как в этом сиянии появляется что-то еще более сияющее – человек в белоснежном кителе и фуражке. Он стоял к Горке спиной, а потом начал медленно поворачиваться, взглянул на Горку – и усмехнулся в усы.
Горкин вопль услышали, наверное, и соседи. Мать с отцом кинулись к нему, но он продолжал пронзительно кричать, а потом забился в судорогах. Уснул Горка только под утро, а днем его снова начало колотить. Вызвали врача, приехал какой-то, кого мать не знала, послушал, пощупал, пожал плечами – да нет, вроде ничего, переволновался просто – и уехал, дав каких-то порошков. Горка уснул, а вечером снова начались корчи. Соседка Галя Лях, жившая за стенкой, пришла (значит, услышала все-таки ночной вопль), посмотрела и отозвала Наталью в сторонку. Переговорили, соседка ушла, а ночью Горка проснулся оттого, что ему в лицо брызнула вода, как при глажке белья фыркают. Открыв глаза, Горка увидел над собой старушечье лицо и глиняный стаканчик, в котором что-то булькало и шипело – уголья. Старуха опять набрала оттуда в рот и фыркнула в Горкино лицо, побормотала невнятно, набрала – фыркнула. Под это фырканье и бормотание Горка забылся, а утром проснулся без ломоты в теле и с нормальной температурой. Что называется, сняло как рукой.
За ужином мать, переглянувшись с отцом, осторожно спросила Горку, что́ ему приснилось. Горка напрягся, но, помявшись, рассказал как мог. После долгого молчания – мать с каменным лицом смотрела в тарелку – отец, кашлянув, сказал: «Забудь. Было и нет. Обещаешь?»
Забыть не получилось: через день все радиостанции Советского Союза сообщили, что умер Сталин, а еще через пару недель пошли слухи, что это случилось не 5 марта, как сообщили, а 3-го, как раз в ночь Горкиного кошмара.
Ликбез
Кошмар со Сталиным отразился на Горке самым неожиданным образом: он как-то внезапно начал читать. Ну, то есть картинки с какими-то буковками и сопутствующими рисунками мать ему и до этого подсовывала, заставляя повторять буквы; он послушно повторял, но не более, а тут как прорвало.
Все началось с того, что Горка откопал в отцовой тумбочке букварь для взрослых, потертую брошюру с черно-белыми рисунками – какой-то взлохмаченный бородатый дядька на одной ножке посреди клочка земли, трактора, луга и пажити – и короткими текстами, и сначала робко, а через пару дней уже вполне уверенно принялся их проговаривать. Мать, услышав, опешила, потом кинулась его тискать-целовать, потом притащила нормальный букварь, для детей, но тот, потертый черно-белый, Горке нравился больше. Он не понимал, конечно, что значит «землю – крестьянам», «фордзон-путиловец», и «рабы – не мы» тоже понимал не вполне (хотя по поводу второй половины фразы задал матери обескураживающий вопрос: «рабы немы» – это что, они не могут говорить?), ему нравился сам звук собственного голоса и то, что мелкие черные буковки теперь получили свое значение, смысл.
В общем, когда Горке исполнилось четыре года, родители поняли, что книжек у них в доме очень мало, почти что и нет – не считая дюжины бордовых тяжелых томов сочинений Сталина, которые отец на всякий случай отнес после смерти вождя в чулан (но выкидывать не стал – тоже на всякий случай). К счастью, книгочейкой оказалась одна из соседок – Клавдия Николаевна, сухопарая, в годах, женщина, эвакуированная из Ленинграда с началом блокады. Удивительным образом она умудрилась привезти с собой целую библиотеку – стены в ее крохотной, в одно стойло, комнатке были сплошь в книгах, – и Клавдия Николаевна охотно давала их почитать дворовой ребятне. Ребятня обращалась с книжками не всегда бережно, бывало, что и теряли, а то обливали чем-нибудь, и Клавдия Николаевна, поговорив с родителями (может, семьи четыре были в конюшне с детьми, охочими до чтения) и заручившись их обещаниями, завела журнал учета, в котором тщательно записывала, кому выдала книжку, какую и до какого срока.
Одной из первых, если не самой первой книжкой, которые Горке дала Клавдия Николаевна, был сборник стихов, брошюра в мягком переплете. Там было что-то про позднюю осень и несжатую полоску (Горка не понимал, о чем это), про «колокольчики мои, цветики степные» («о, – сказала мать обрадованно, когда сын принялся с выражением про них читать, – это я знаю!»), про доброго дядю Степу, – Горке нравилось, что слова аукаются друг с другом, он чувствовал ритм, но подолгу стихи читать не мог, этот самый ритм и утомлял. Из того, что было почитать у них дома, Горке нравилось читать взятые в рамочку слова в правом верхнем углу газет «Правда» и «Известия», они тоже были ритмически построены и легко поддавались декламированию. Что Горка и делал, не вникая и не понимая, что эти слова значат, – к удовольствию отца и неудовольствию матери.
А еще был журнал «Корея», который отец иногда приносил с работы. Горка забирался с этим журналом на печку и подолгу рассматривал красочные фотографии с какими-то огненными печами («это заводские цеха, сынок, чугун льют», – пояснил однажды отец), с пронзительно-голубыми озерами и ярко-зелеными деревьями вокруг. На лежанке было тепло и уютно, в углу чуть слышно попискивала, стравливая из-под пробки давление, двадцатилитровая бутыль созревавшей бражки, исходивший от нее слабый кисловатый запах мешался с густым запахом типографской краски, – Горка, насмотревшись и нанюхавшись, мирно засыпал.
Взрыв мозга, как теперь говорят, произошел примерно год спустя, когда Клавдия Николаевна, поколебавшись – мальчишке и шести еще нет, – дала ему почитать «Приключения Тома Сойера», с задорным пацаном в коротких штанах, шляпе и с котомкой за плечом на обложке. Горка проглотил роман в два дня и побежал к Клавдии Николаевне за ответами на то, что не понял. Полдня они листали книжку вместе, Горка слушал, впитывал, переспрашивал, а прибежав домой, взялся перечитывать «приключения» заново. Огромный, захватывающий, чужой и одновременно совершенно свой мир открылся перед ним. Том стал для него другом навсегда. Да, потом были и д’Артаньян, и капитан Грант, и капитан Сорви-голова, много восхищавших героев, но Том… и Бекки…
Клавдия Николаевна давала ему еще какие-то непонятные книжки, где были луддиты и чартисты, пилигримы и крестовые походы, Горка раз за разом возвращался за разъяснениями, и так Клавдия Николаевна исподволь стала для Горки и учителем литературы, и учителем истории. Ему невероятно повезло.
Их отношения прервались самым дурацким образом. На пятилетие отец подарил Горке собаку – щенка овчарки, а через год этот Рекс (тогда всех более-менее породистых собак называли рексами или джульбарсами) вымахал в юного кобеля и покусился на болонку Клавдии Николаевны. На самом деле у нее была не только болонка, а еще и мопс, и обычно Клавдия Николаевна гуляла с ними по вечерам, не спуская с поводка, но в тот весенний день не углядела, болонка вытрусила во двор и нарвалась на Рекса. И Рекс попытался ее изнасиловать. На визг собачонки сбежались соседи, Рекса пинками отогнали, болонку отнесли хозяйке, и они обе слегли от потрясения.
Отец, узнав о скандале, наутро пошел к тюремному начальству, а потом отвел Рекса в тюрьму: овчарки, тем более молодые, еще поддающиеся дрессуре, там были нужны. Дворовые мужики с неделю потешались как могли, покуривая на завалинках или забивая «козла»: надо же, у Вершковых пса посадили за изнасилование!
Клавдия Николаевна была умной и благовоспитанной дамой, но что-то в ней после инцидента надломилось в отношении к Горкиной семье – и к Горке тоже. А может, она просто устала быть для Горки наставником. В любом случае Горка почувствовал холодок (да он и вину чувствовал, честно говоря, хотя за что, казалось бы?) и перестал ходить к Клавдии Николаевне за книжками.
Отец, поняв, что произошло, отвел Горку в городскую библиотеку. Там, разумеется, категорически отказались (мальчику нет еще семи, вот пойдет в школу, милости просим), но Прохор Семенович пообещал отремонтировать трухлявую лестницу в читальный зал на втором этаже, и завбиблиотекой сдалась. Правда, только по поводу читального зала: на дом книжки Горке не выдавали, пока он не стал первоклассником. Это привело к новым неприятностям для матери: Горка принялся каждодневно просиживать в читалке до закрытия, и ей приходилось чуть не за шиворот вытаскивать мальчика, чтобы пообедал и – как она считала – отдохнул.
…Да, а та черно-белая брошюра – это, как пояснил отец, стесняясь, букварь для взрослых, их выпускали в двадцатые в рамках программы ликвидации безграмотности, ликбеза то есть.
Каватина Розины
Смерть вождя Горкина семья пережила… да никак. Горка, выходя во двор, видел заплаканные лица теток, кутавшихся в платки, мрачные лица мужчин, отец тоже ходил мрачный, но разговоров насчет «как же, да что же теперь» в семье не было. Много позже, вспоминая те дни, Горка с удивлением отметил, что мать вообще не произносила фамилии Сталин ни до, ни после – ни разу; Ленин – да, она часто говорила сыну, а перед школой – особенно, что Горка должен быть как Ленин – умным, прилежным (не знала, наверное, каким прилежным Володя Ульянов был в Горкины годы), лучше всех, словом, а Сталин… Как будто его не существовало.
Мать вообще была – и осталась – загадкой для Горки. Она часто вместо баек на сон грядущий рассказывала ему всякие истории из той поры, когда она сама была маленькой, как Горка. Горка не мог понять, как это мама могла быть такой, и он думал, что на самом деле мама рассказывает о какой-то девочке, которую знала и жалела.
У этой девочки, когда ей было столько же, сколько Горке, годика три-четыре, один за другим умерли от голода родители (Горка не понимал и косился на тарелку с пряниками, мать поясняла – нечего было есть совсем), и девочка стала сиротой и пошла из дому куда глаза глядят.
Эта девочка жила в деревне, прилепившейся к холму в десятке верст от Бугульмы, и когда в их краях, в Поволжье, начался мор, в деревнях с едой стало хуже, чем в городе («еще же война была до этого, – поясняла, вздыхая, мать, – мужчин мало осталось»), люди, чтобы не пропасть, стали есть лебеду, варить березовую кору, а потом все равно умирали. Но девочка, о которой рассказывала мать, не умерла, она дошла до Бугульмы, и там ее подобрала одна богатая семья, и так она в этой семье и выросла.
Горка внимательно слушал, переспрашивая про лебеду и как можно варить кору (чуть позже сам узнает, когда с пацанами будет делать из березовой коры белую жвачку, куда лучше черной из гудрона), он слушал и представлял себе крохотную девочку, бредущую по пыльной жаркой дороге (ему хотелось думать, что именно по жаркой, не зимой) с каким-то узелком в руках, чуть живую от голода; на глаза его наворачивались слезы, он начинал судорожно вздыхать, и мать останавливалась. Но ей было почему-то очень важно рассказать Горке, как она росла, и через день-два сумеречные посиделки возобновлялись.
Так Горка узнал, почему в городе было сытнее, чем в деревне («там заводы были, рабочие, – строго говорила мать, – им правительство давало пайки»), и как могли быть богатые, когда кругом все голодные («правительство, – опять строго поясняла мать, – меня прокурор приютил, у них все было»). А как-то раз мама вдруг упомянула о «чертовых американцах» – и осеклась, отказываясь пояснить, что за американцы и почему чертовы. Много позже, уже студентом, Горка узнал о миссии Нансена, об АРА – словом, о том, что в США собрали миллионы долларов на продукты и одежду для пораженного голодом Поволжья Советской России, и это поразило его, заставив вспыхнуть детскую память и окрасив рассказы матери.
Масса людей в чужой и враждебной стране каким-то образом узнали, что за тридевять земель, в непонятной большевистской России люди мрут от голода, собрали пожертвования, организовали доставку продуктов и спасли жизни сотням тысяч русских, татар, чувашей – всех, кто там жил. Что им за дело было, «чертовым американцам», до чьих-то бед на другом краю Земли? Может, мать потому их так и назвала, что не понимала, и это злило ее? Она гордая была.
…Рассказы о голодном и нищем детстве прекратились разом, когда однажды мать, поглаживая Горку по голове, спросила утвердительно: «вот ты вырастешь большой, будешь кормильцем для мамы». а он ответил подслушанным у кого-то: «уж корочку хлеба найдем как-нибудь». Мать окаменела на мгновение, потом стряхнула Горку с колен и ушла на кухню.
Этот эпизод вряд ли бы отложился в Горкиной памяти, но мать раз за разом возвращалась к нему – и когда Горке исполнилось пятнадцать и он пошел работать, и когда вернулся из армии, и когда окончил университет; совершенно детская глубокая обида на оброненные ребенком слова жила в ней все это время, не затихая. И страх, наверное, что на старости лет она снова останется без куска хлеба.
Горку же больше всего из материных рассказов интриговало упоминание о прокурорской семье, которая приютила ее и спасла, возможно, от голодной смерти. Позже, уже школьником, он с любопытством наблюдал, как мама накрывает на стол – раскладывает приборы, выстраивает у тарелок тяжелые стальные ножи, вилки, разнокалиберные ложки, щипчики для колки сахара, расставляет расписанный в китайских мотивах фарфоровый чайный сервиз… Откуда все это взялось в их доме, откуда мама, которой ее опекуны дали окончить только начальную школу, чуть ли не церковно-приходскую, знает что-то об этикете, откуда у нее такая чистая, правильная речь и манеры, совсем не вязавшиеся с образом деревенской девочки, выросшей в прислугах?
Она эти манеры прятала, кстати, чаще бывая на людях грубоватой и простоватой, но иногда проскальзывало. В усмешке, когда отцовы гости – и он сам – принимались пить чай из блюдечек, в тоскливой реплике, когда отец, заказав в ресторане коньяку, заел его сметаной («идиот» – любимая характеристика для мужа), да даже вот в той реплике Пегенякину о том, как дамам до́лжно целовать ручки, и в самой интонации сказанного. И стирка. Мать стирала белье под каватину Розины.
Вообще, музыки в их конюшне было много: охотно пели гости, собираясь «под рюмочку», целыми днями пел репродуктор, черная тарелка в углу под притолокой, и Горке все это страшно нравилось, а особенно – угадывать, как разовьется мелодия, и петь вместе с хорами, переливчато выводящими «ох, недаром, ох, недаром, ох, недаром славится-я-я-а русская красавица-а-а-а-а», или с Бунчиковым и Нечаевым – про поющую волну и гитару и про майскую Москву. И каватина Розины тоже нравилась, и Лемешев, нежно стонущий: «Я люблю вас, Ольга…»
Отец, не очень, кажется, разбиравшийся в музыке, Горку поощрял к пению в принципе, приговаривая: «подбирай, сынок, подбирай», что бы ни звучало, а у матери были какие-то предпочтения. Она, например, терпеть не могла того же Лемешева, презрительно называя его засахаренным (ей безоговорочно нравился Козловский), и не могла слушать скрипичные ансамбли – у нее начинались головные боли. Но Розина и стирка… Это было что-то невообразимое.
Мать шла на колонку, притаскивала четыре ведра воды, заливала чан для кипячения, оставляя ведро холодной, а после кипячения пристраивала на табуретках корыто, укрепляла стиральную доску и, засучив рукава, заводила патефон. Всегда одно и то же: Россини, «Севильский цирюльник», каватина Розины. Белье плюхалось в корыто с мыльной водой, и с первыми тактами оркестра – жамк по доске, жамк-жамк! Вступала солистка – глубокое колоратурное сопрано, – взлетали мыльные пузыри, рулады, комнату застилал пар, а мать терла, отжимала, откидывала в таз, вместе с певицей брала паузу – и снова жамк, жамк, жамк, в заданном ритме любви и надежды, но совсем не в полуночной тишине.
Интересно, знала ли мать либретто, понимала ли, о чем поет Розина? Горка так и не спросил ее – за всю жизнь.
Мунча
Между тем Горку потихоньку начали «выводить в свет». Не одного, конечно, а в сопровождении Риммы, которая приходила к ним два-три раза в неделю после уроков и иногда оставалась ночевать, или с Витькой Дурдиным, хозяйственным мужичком с ноготок двумя годами старше Горки, сыном жившего по соседству главного тюремного надзирателя, а иногда и одного, под присмотром матери из окна.
Так Горка узнал, что их конюшня стоит в десятке метров от глубокого оврага, а совсем на краю, чуть не свисая, стоит дощатая будка, которая называется «сортир», и ходить по-маленькому и по-большому надо теперь туда, а не в горшок или помойное ведро.
Отправившись в сортир в первый раз жарким июньским днем, Горка едва не лишился чувств – от жуткой вони и от какого-то сплошного назойливого зудения, шедшего сразу и снизу, из «очка», над которым он сидел, и сзади, и сверху, – щелястая будка была словно окутана этим зудением. Справив нужду, Горка опасливо обошел строение и понял, что это было: над выгребной ямой, едва прикрытой дощатым настилом, висел густой рой жирных черно-зеленых мух, а в ней копошились такие же жирные белесые черви.
Пораженный, Горка смотрел на все это, едва сдерживая приступы тошноты, потом убежал, а прибежав к матери, со слезами заявил, что никогда больше не пойдет в этот сортир, лучше вообще не будет ни пи́сать, ни какать. Мать, пряча улыбку, потрепала его по голове и сказала, вздохнув: «Ну, как уж не будешь, сынок, как не будешь…»
А вскоре после этого родители первый раз взяли с собой Горку в баню, и она тоже произвела на него оглушающее впечатление, только с обратным знаком: такой сверкающей чистоты он никогда не видел. До того его купали дома, в корыте, а раз отец попробовал даже в печном поде, но вышло плохо: матери было неудобно тянуться к нему в чрево, Горка испугался, весь вымазался в саже, в общем, эксперимент был признан неудачным. Так его и купали в корыте, а родители по субботам уходили в баню одни. Но Горка был не в претензии, потому что тогда присмотреть за ним приходила тетка Поля, с которой было весело и интересно. Эта Поля, жившая через дорогу в «частном секторе», каждодневно снабжала Горкину семью молоком и стала в доме своей, а главное – она была сказительницей!
Приходя, она неизменно стаскивала с печи шкуру какого-то зверя (отец говорил, что медвежья, мать только хмыкала на это), укладывала на нее свое большое рыхлое тело, усаживала рядом Горку и густым голосом рассказывала разные сказки, перемежая их песнями. Песни были диковиннее сказок, Горка с трудом улавливал смысл, а одна – тетки Поли любимая – так и осталась для него загадкой.
«Катенька распузатенька в трубу лазала, сиськи мазала», – выводила тетка Поля, а Горка терялся в догадках: распузатенька он еще мог понять, но зачем в трубу и мазала?! Он спрашивал, но тетка то ли сама не знала, то ли не хотела объяснять, а однажды, когда Горка совсем уж пристал, заявила, осерчав: «Чё те все понять-то надо?! Можа это как молитва, – непонятно, а за душу берет, и слушаешь, вот и ты слушай!»
Ну, он и слушал. И наслушался, лет в шестнадцать обнаружив, что к девушкам Катям его тянет больше, чем к другим. В итоге одна из Кать стала его женой. Ненадолго – быт оказался сильнее заклинательных свойств песни из детства.
Да. Но это все было до и после, а пока что Горка с удивлением рассматривал буквы на фасаде белого трехэтажного здания, спрятавшегося в низине на берегу текшей через весь город речки. «Мунча» – гласила надпись. «Баня» на татарском.
Вообще-то, Горка видел бани – во дворе дома дяди Васи, например, и во дворах его соседей, но это были какие-то бревенчатые клетушки, а тут целый дворец, можно сказать, он увидел, когда вошли, – с вестибюлем, парикмахерской и отдельными лестницами на второй и третий этажи – в общее отделение и в номера. Их дорога была в номера, на третий.
И сам номер заставил разинуть рот: он был такой же, как их сдвоенное стойло, их квартира, даже побольше, и здесь была раздевалка, и большая, у кафельной стены, ванна, а рядом что-то вроде низкого длинного стола (то ли из мрамора, то ли из гранита – Горка не различал), и вырастающий из стены рожок душа, а в торце, за тяжелой деревянной дверью, еще одна комната – парилка. Горка ходил нагишом по этому номеру, как по музею, и с трудом понял, что надо залезть в ванну и мыться.
И вот он барахтался в ванне и плескался, смотрел, как отец и мать намыливаются, сидя на полке подле, а потом обливают друг друга из шаек и снова набирают воду, и как подолгу потом отец стоит под хлещущими струями, оглаживая свое большое раскрасневшееся тело огромными руками, и поражался – это сколько же тратилось воды, ужас! Дома они обходились двумя ведрами в день – и на готовку, и на помывку, и на мытье полов, – редко когда больше расходовали, экономили, потому что никому не хотелось таскаться с коромыслом на колонку, стоявшую через дорогу метрах в сорока от конюшни.
И еще одна мысль вдруг пришла в смышленую Горкину голову: а деньги? Не бесплатной же была вся эта роскошь? Он спросил, когда его вытирали насухо после помывки, родители переглянулись, и мать со вздохом сказала:
– Умница, Егор, все денег стоит. Вот мы за квартиру в месяц двадцать рублей платим, а папенька твой каждую неделю по два с полтиной за час в номере отваливает, сейчас еще трешку у брадобрея оставит. Так и выйдет вторая квартплата.
Отец внимательно посмотрел на жену, спросил сдержанно:
– Тебе чего, не хватает, что ли? лучше у Васьки по-черному мыться?
Мать не нашлась что ответить, и они, собравшись, спустились в вестибюль, где отца уже поджидал брадобрей.
Вообще-то, отец брился дома. У него был роскошный «Solingen» в красном бархатном пенале с тисненным золотом названием, и был мягкий кожаный ремень, о который отец, натянув его на спинку стула, правил бритву, и щекотная кисточка для взбивания пены, все было. Но бритье в парикмахерской являлось особым ритуалом, и раз в неделю отец совершал его, блаженно вздыхая и щурясь в зеркало, пока брадобрей делал компресс, прикладывая к отцовым щекам горячее влажное полотенце, потом мылил, шурша пеной, а потом осторожно, нежно, но сноровисто снимал бритвой щетину, отирая лезвие о рукав своей белоснежной куртки.
За этим следовало омовение, промокание лица сухим полотенцем и, наконец, кода: брадобрей брал в руки флакон с одеколоном, потискивая грушу пульверизатора, и спрашивал (хотя знал ответ наперед): «„Шипром“, Прохор Семеныч?» Прохор Семенович одобрительно кивал, и в следующее мгновение его лицо обдавал фонтан мельчайших, искрящихся в свете призеркальной лампы брызг. Горка смотрел на это с восторгом, вдыхая пряный запах одеколона и каждый раз отмечая, что отец на глазах становится свежее и моложе.
После бани они чаевничали дома – и после первого раза, когда взяли Горку с собой, и потом, – всегда, это тоже был ритуал. Обычно мать подавала к чаю варенье и сушки, иногда – печенье, и они сидели втроем расслабленные и разговаривали, по субботам или по воскресеньям, как выпадала баня.
Единственное, что немножко омрачало посиделки в летние дни, – это мухи. Ужас, сколько их всегда было, больше, чем комаров. Из-за этого летним чаепитиям обязательно предшествовало развешивание мухоловок. Это такие промышленным образом выпускавшиеся картонные патроны вроде хлопушек, из которых, если потянуть за бечевку в торце, вылезала липкая лента с каким-то специальным запахом, который привлекал мух. Они на него летели, прилипали к ленте, образуя иногда нечто вроде виноградных гроздьев, и с мучительным жужжанием умирали. Тоже по-своему завораживающее зрелище. Хотя от чая отвлекало, конечно. А еще промышленность выпускала резиновые мухобойки, но их не очень покупали, – прекрасные мухобойки получались из свернутой в рулон газеты, а какая же советская семья не выписывала «Правду», «Известия» или «Комсомольскую правду», – многие и все три газеты разом выписывали, стоило-то это копейки. Правда, с мухобойками из газет была некоторая неловкость, во всяком случае в Горкиной семье: при Сталине и во времена после него отец следил, чтобы на рабочую поверхность мухобойки не попал ненароком портрет кого-либо из руководителей партии и правительства. Это и само по себе было некрасиво, а кроме того, прибитые мухи превращались не просто в мокрое место, а в окрашенное кровью, и это уж отец стерпеть не мог никак. Правда, когда Хрущев разоблачил Сталина, отец плюнул на все, и мух били, уже невзирая на лица.
Мать это все тяготило, Горка чувствовал и видел – вот все это: мухоловки и мухобойки, необходимость по два раза на дню все перемывать-перестирывать (туберкулез у отца переходил в открытую форму, он ходил с алюминиевыми, на винтовых крышках, плевательницами, мгновенно заслужив у жены еще одно прозвище – верблюд), она остервенело втыкала вилки в вафельное полотенце, чистя от микробов, с содой, до скрипа, мыла тарелки и чашки и периодически выговаривала мужу, а чаще уговаривала – ну, что у нас все не как у людей, ну ты же заслуженный человек, сходи, попроси, сил нет уже жить в этой конюшне. Отец отмалчивался, как правило, или задавал встречный вопрос, как в бане: «тебе что, не хватает, что ли?» Но однажды, когда мать в очередной раз завела свое «все не как у людей», вдруг резко спросил (Горка аж вздрогнул): «А что вокруг – не люди, ты одна людь, что ли?!» И добавил, пьяно засопев: «Я, может, вообще умру завтра, а ты – то надо, се надо…»
Мать так и села. Позже, вспомнив этот эпизод, Горка подумал, что вот тогда, наверное, она мужа и возненавидела.
Тарантас
Искрило между родителями часто, и это угнетало Горку, он нервничал, начинал беспричинно плакать и мог по полдня прятаться от матери на печке, не выходя к столу и не отвечая на ее вопросы. Обиднее всего было, что они умудрялись испортить даже то, что начиналось хорошо и весело. Вот пикник, например, который отец придумал как-то в один из июльских выходных.
В ту субботу все сложилось на удивление: отец пришел с работы рано, около пяти, был в ровном настроении, у матери ничего не болело. Они переговорили коротко за чаем, отец взялся за телефон и заказал на воскресенье персональный тарантас.
После войны прошло уже десять лет, на улицах советских городов становилось все больше «побед», ЗиМов, не исчезли и «виллисы», теснимые, впрочем, своими сводными братьями – «козликами», но в глухой Бугульме и окрестностях по-прежнему были в ходу телеги (а зимой – сани, разумеется), некоторые – с обрезиненными колесами, трофейными, как говорили. Но тарантас директора Горпромкомбината Прохора Семеновича Вершкова являл собой нечто особенное, затмевая диковинностью даже черный ЗиМ с окнами, забранными занавесками с кистями, на котором ездил местный поп.
Строго говоря, это был какой-то конструктор, а не тарантас: укороченные оглобли, четырехместная кабина с откидывающимся дерматиновым верхом, большие, каретные, задние колеса (подрессоренные, – предмет особой гордости отца), но мать упорно называла повозку тарантасом, а отец не возражал, хотя чувствовал, что жена говорит с легкой издевкой. Так, пожмет плечами – и все.
Ну и вот, отец, пожав плечами, принял воскресными утром вожжи у конюха Сереги, пригнавшего тарантас к воротам их конюшни, подождал, пока Горка взгромоздится на козлы рядом (мать, разряженная в крепдешин, уселась, как барыня, сзади), и они отправились в путь.
Дорога на Малую Бугульму шла под гору, ехать было километров семь-восемь, и Горка имел все возможности покрасоваться перед пацанами и девчонками, кучковавшимися там и сям по своим делам и смотревшими на проезжавший тарантас кто с потаенной завистью, а кто, пожалуй, и с брезгливой ненавистью. Горке шел седьмой год, и он уже умел различать такие оттенки, а особенно – настроение девчонок. И оно-то, девчачье, его как раз радовало, заставляя сидеть этаким петушком.
Скоро город кончился, по обе стороны дороги потянулись зеленые поля, вдали уже показались крыши поселка и ленточка петлявшей в долине речки, называвшейся совсем непонятно – Зай. Вообще, и почему прилегающий к городу поселок назвали не как-нибудь по-своему, а Малой Бугульмой, тоже было не очень понятно: вокруг было немало деревень и сёл – Чертково, например, или Письмянка (а рядом – еще и Солдатская Письмянка). Горка различал в этих названиях смысл, а тут… Позже, уже в средней школе, когда Горка узнал и про Большой Нью-Йорк, и про Большой Токио, про другие мегаполисы, название «Малая Бугульма» приобрело в его глазах довольно комичный характер, но в то же время и горделивый: не каждый райцентр с населением всего-то семьдесят тысяч человек мог похвастаться чем-то вроде города-спутника.
Свернув с асфальта на проселок, они ехали некоторое время вдоль молодой березовой рощицы, наконец отец высмотрел поляну недалеко от речки, и семья принялась разбивать бивак.
Разбивка состояла в том, что отец выпряг и стреножил коня, а мать тем временем расстелила покрывало и разложила на нем снедь – горку ярко-красных помидоров и беломраморных яиц, пару пучков зеленого лука и редиски, ломти постной вареной свинины в глиняном блюде, а потом, помедлив, извлекла из корзинки завернутые в льняные салфетки ножи и вилки.
Отец, увидев их, разразился таким хохотом, что конь (у него почему-то не было клички – конь и конь) заржал в ответ.
– Наташка, – проговорил, сглатывая смех, отец, – ну ты еще фужеры хрустальные достань!
– С водкой и стаканом обойдешься, – фыркнула мать, но тут же и сама рассмеялась: глупо, конечно, но вот так – само вышло.
Конь на смех матери отреагировал осторожнее: скосил на нее глаз, вздохнул и принялся щипать траву.
Они уселись вокруг яств, точнее – полуулеглись (каждый – на левом боку, опираясь на локоть; чистые патриции!) и начали пировать. Горке, впрочем, поза показалась неудобной, он уселся по-турецки и взялся лущить яйца. Он очень любил есть их со сметаной и зеленым луком, причем не так, как подавала мать – порезанными на тарелке, залитыми сметаной и присыпанные лучком, а по-своему, отправляя в рот большую ложку сметаны, а следом – пол-яйца, лучинку лука и кус хлеба; так было гораздо, гораздо вкуснее – когда все у тебя сочно перемешивается прямо во рту!
Мать такое варварство, как она однажды выразилась, сама удивившись вырвавшемуся слову, не одобряла, конечно, а с другой стороны – ест сынок, и слава богу, что не гематоген. Отец, правильно прочитав женин взгляд на Горку, выудил из корзинки бутылку «белоголовой», легко сорвал «бескозырку» и провозгласил: «Надо, значит, выпить за общее здоровье!»
Мать только махнула рукой: она не пила вообще, но мужу не запретишь.
Потрапезничав, они все вместе пошли к речке мыть посуду, а потом мать с отцом ушли в рощу, а Горка остался на берегу – швырять в воду голыши и считать, сколько у него получится «блинов».
Он часто думал о том, как живут его отец и мать, и выходило, что не очень: отец приходил домой поздно, нередко – с запашком, мать злилась и выговаривала ему, что он как квартирант в доме, ничего ему не надо, что все у них не как у людей; отец мрачнел, начинал смотреть на мать тяжелым, угрюмым взглядом, потом молча укладывался в кровать, отвернувшись к стене, и некоторое время чертил по ворсу ковра какие-то знаки. «Счетовод», – шипела мать, а Горке казалось, что это лежит какой-то обиженный ребенок. Большой: отец был под два метра ростом.
Горка посидел еще некоторое время у речки, слушая плеск воды и чпоканье вышедшей на вечерний жор рыбы, пошуршал галькой и пошел назад, на поляну.
Зрелище, открывшееся ему, повергло Горку в ступор. Родители сидели, полуобнявшись, на покрывале, мать положила голову отцу на грудь и что-то тихонько втолковывала ему, трогая пальцами воротник отцовой рубахи, а он слушал, улыбаясь всем своим мясистым лицом. И в этом – в блескучей речке, в залитой вечерним солнцем изумрудно-зеленой поляне, на краю которой все так же взмахивал хвостом и жевал конь, в облике отца и мамы – было что-то такое, что у Горки заколотилось сердце и выступили слезы.
Мать как почуяла – отстранилась от мужа, легко встала навстречу Горке, обняла его, прижимая к своему волнующемуся теплому животу, и – так же как пару минут назад мужа – принялась втолковывать, приговаривать: «все хорошо, сынок, все хорошо». И тут же, обернувшись на мужа и словно извиняясь: «много впечатлений зараз, перенервничал».
Отец, тоже поднявшийся, топтался на месте, не зная, что сказать или сделать. И тут его осенило.
– Горка, – сказал он, – помнишь, я тебе рассказывал, как меня батя учил на лошади ездить? Давай-ка я тебе покажу!
Мать отпустила Горку, слезы его высохли, и оба с интересом смотрели, что собирается показать отец. Он же растреножил коня, дал ему слизнуть с ладони кусок сахара и подвел к Горке.
– Значит, делаем так, – сказал отец, и не успели мать с Горкой опомниться, как он подхватил сына на руки и плюхнул его на спину коня.
– Ты что делаешь, идиот?! – закричала мать, но увидела сияющего Горку и замолчала.
Горка красовался. Сидеть ему было неудобно – ножонки маленькие, а бока у коня огромные, но что это значит, когда он сейчас поедет верхом! Конь шагнул, потом еще, Горку качнуло, он инстинктивно схватился за гриву, конь вдруг перешел на рысь, и в следующее мгновение Горка кубарем полетел под копыта.
Конь был деловой – он спокойно переступил через Горку и встал, а с матерью случилась истерика. Столько разных нехороших слов Горка никогда от нее не слышал, он даже плакать забыл.
Домой ехали молча и ужасно долго. Всё в гору, в гору, в гору…
В кителе Сталина
На новый, 1956 год мать сделала Горке неожиданный подарок. Еще 31 декабря все было как обычно: разукрашенная разноцветными стеклянными шарами и конфетти сосна, которую отец добыл, просто сходив на лыжах в лес, дурманившие запахом мандарины, творожник, шампанское для родителей и морс для Горки, а 1-го, когда он проснулся в предвкушении обещанных новых санок, мать вместо них выложила перед ним стопку тетрадок и книжек и заявила: «Все, сынок, – будем готовиться к школе». И Горка очень скоро узнал, каково это, и не узнал собственную мать.
Оказалось, она могла быть очень строгой и даже занудной. Она вела себя с Горкой как чужая, заставляя по сто раз на дню правильно садиться за стол, то есть воображаемую парту (держи спину, не сутулься!), правильно держать на парте руки (сложи ладонь к ладони, не свешивай локти!), правильно поднимать руку, чтобы задать вопрос учительнице или показать готовность ответить (не отрывай локоть, держи руку под прямым углом!), правильно стоять, отвечая (расправь плечи, не опускай голову!), – это была самая настоящая муштра. Кроме того, мать попыталась заставить Горку писать прописи, меняя разные перья, у каждого типа которых был свой номер, указывающий на толщину выводимых линий, и это уже было совсем невыносимо: у Горки все получалось вкривь и вкось, он то и дело ляпал кляксы, и тут мать в конце концов отступилась, буркнув с досадой: «этому пусть там учат».
Потихоньку у нее поумерился пыл и в остальном – отчасти потому, что Горка научился делать так, как она велела, а отчасти потому, что мать просто устала изображать училку. Зато возник вопрос о форме.
Вообще-то, его не должно было возникнуть, – иди в магазин «Промтовары» и покупай, все для всех одинаково: синяя гимнастерка, такие же брюки со стрелками, фуражка с кокардой «Ш» и ремень с бляхой. Но когда мать сходила и присмотрелась, у нее возникли серьезные претензии, которые она, не вполне еще вышедшая из образа учительницы, педантично изложила мужу. Во-первых, ее не устроило качество («у нас на фронте х/б тоньше было, а это дерюга какая-то»), во-вторых, цена («сто шестьдесят рублей за комплект, они что там, вообще?»), а в-третьих… она помедлила, но припечатала: «я не хочу, чтобы мой сын был как инкубаторский цыпленок!»
Прохор Семенович воззрился на жену в изумлении, но взял себя в руки и, помолчав, сказал: «Пошьем у меня, – и дешевле выйдет, и качественнее. Только он все равно будет как все».
Но вышло, что не как все: отец вдруг решил, что у Горки будет не гимнастерка, а китель.
Он объявил об этом, однажды заявившись домой сильно пьяным в компании Левы Гируцкого, тоже кривого на оба глаза. Бухнув на стол бутылку «белоголовой», отец сказал:
– Наталья, собери чего повкусней, икры, что ли, дай, еще чего, – у нас опять февральская революция, праздновать будем!
– Какая революция, Прохор? – начала было мать, но всмотрелась в мужа, в блуждающую улыбку на лице Левы и замолчала, принявшись накрывать, а потом позвала Горку на кухню: «Давай, сынок, здесь тихонько поужинаем, пусть мужики поговорят».
Они сидели на кухне, что-то клевали, пили чай и вслушивались в то, о чем говорили в комнате мужчины. Говорил больше отец, глухо и невнятно – о какой-то проработке, циркуляре, устоях, однажды выматерился, упомянув «черножопого» (мать осуждающе помотала головой), которому вдруг разонравился «Краткий курс» (Горка вопросительно посмотрел на мать, та пожала плечами); Гируцкий поддакивал, охал, а в какой-то момент спросил: «и что же теперь будет, Прохор Семенович?» – «А ничего уже не будет, – ответил отец, отхаркавшись, – пиздец всему будет, Лева!»
Тут мать не выдержала, вышла в комнату и заявила:
– Хватит материться, закрывайте партийное собрание, товарищи!
– Так оно еще днем закрылось, – невесело засмеялся отец, – а мы сейчас покрой Горкиного кителя обсуждали – с отложным воротником или стойкой делать; у Сталина и такой был, и такой. Как думаешь, Наталья?
Наталья, конечно, подумала, что это уже начался пьяный бред, и решительно прекратила застолье, но спустя пару дней выяснилось, что мысль о кителе засела в голове Прохора Семеновича основательно: он повез сына и жену в швейный цех Горпромкомбината выбирать ткань.
Отцовский кабинет оказался узкой, как пенал, комнатой, одна из стен которой представляла собой стеллажи, сверху донизу занятые рулонами разных тканей. Отец прошелся вдоль этой стены, показал матери: «смотри – вот это тонкое сукно, тут темно-серое, а вот синее, в самый раз под форму». Мать отвернула край одного рулона, другого, погладила, помяла в ладони… «лучше сине-стального цвета, – сказала, – но почему китель, Прохор, не положено же?» – «Потому, – ответил муж, – на тебя не угодишь».
Горка молчал, соображая, какой цвет больше нравится ему.
Явился Гируцкий, они перебросились с отцом парой фраз, и Горку повели в закройщицкую, снимать мерки.
Пошив оказался хлопотным делом. Сначала Гируцкий облазал Горку сверху донизу, меряя тонкой лентой портновского метра (там на самом деле было полтора метра, как Горка рассмотрел) талию, грудь, длину рук и ног, плечи и зачем-то спину, записал результаты обмылком прямо на разложенном на столе отрезе, потом снял с гвоздя какие-то в разные стороны изогнутые картонные фигуры, лекала они назывались, и принялся прикладывать их к ткани, обводя по ней все тем же заостренным концом обмылка, а потом вдруг схватил огромные, в половину Горкиной руки, ножницы и принялся резать сукно.
Горка уже заскучал к этому времени, но тут у него полезли на лоб глаза: Гируцкий клацал ножницами и одновременно челюстью, которая двигалась с ними точно в такт. Как будто он зубами резал ткань.
Горка обернулся, ни отца, ни матери в закройщицкой не было, и он, собравшись с духом, решился задать вопрос самому Гируцкому.
– Лев… – Он никак не мог вспомнить отчество, но вспомнил-таки. – Лев Гдальевич, а вы зачем делаете вот так, когда режете? – Горка показал.
– Я так делаю?! – удивился Гируцкий. – Серьезно?! – И засмеялся. – Надо же, никогда за собой не замечал. Вот такой я обезьян, значит.
Горка всмотрелся в закройщика и подумал, что да, похож, но явно не на гориллу и не на мартышку. Решил, что на пожилого шимпанзе.
На самом деле Гируцкий был никакой не обезьян, конечно, а добрый и умный дядька, только стеснительный. Он даже в шахматы научил Горку играть, пока они не спеша двигались от примерки к примерке, раз в неделю, а то и в две, и много чего рассказывал о своем детстве где-то под Бердичевом. Выходило, что оно мало отличалось от детства мамы, только у Гируцкого было много братьев и сестер и вообще родни, а у мамы никого.
Наконец, накануне майских, костюм был готов. Портниха облачила Горку, выдернула оттуда-отсюда какие-то нитки, огладила китель, и они с Гируцким повели Горку в кабинет отца. Тот посмотрел, повертел сына, спросил: «ну как? – и, не дожидаясь ответа, хлопнул Гируцкого по плечу. – спасибо, Лева, сидит как влитой!» И снова обращаясь к сыну:
– Как тебе, Егор, нравится?
Горка смотрел на себя в ростовое зеркало и не узнавал: в зеркале отражался незнакомый ему стройный, подтянутый и, главное, розовощекий мальчик.
– Ишь, аж разрумянился от удовольствия! – засмеялся отец. – Ну, отлично, теперь точно будешь не как все.
Горка меж тем подошел к окну и посмотрел на улицу. Напротив, на перекрестке, стояло нарядное краснокирпичное здание с башенками, в высоких окнах блестело весеннее солнце, над крышей туда-сюда летали галки…
– Да-да, – сказал отец, подойдя, – это твоя школа. Первая – и по номеру, и вообще.
И вот 1 сентября Горка стоял на правом фланге линейки для первоклассников в своем новеньком кителе, в лаковых ботинках, в фуражке с лаковым козырьком и высокой тульей (отец что-то сделал с пружинным ободком внутри, и она сразу задралась), прижимая к груди кустик цветов, и косился на мальчишек и девчонок в строю. А они косились на него и как-то… не очень дружелюбно – может, даже с опаской. И учительница, краснощекая молодая женщина в «химии», Людмила Михайловна, тоже чаще посматривала на Горку, чем на других (во всяком случае, ему так казалось), и осуждающе покачивала головой.
Он догадывался почему – он был в этом строю не как все, – но и представить себе не мог, как надолго, вплоть до четвертого класса, когда он устроил на переменке отчаянную драку со второгодником Плеско, он окажется для одноклассников чужим, абсолютно. Хотя мог бы понять уже после линейки, после того, как им показали класс и кто с кем будет сидеть, – вокруг него само собой образовалось пустое пространство; дети кучковались в сторонке, поглядывая, потом кто-то подходил осторожно, трогал (а то и норовил ущипнуть) и снова отходил, хмурясь или хихикая. Ситуацию немножко разрядила Светка Лифантьева, с которой Горку посадили за одну парту, – она решила, похоже, что будет шефствовать над чужаком, и демонстративно предложила ему леденец (он взял и сунул за щеку, вызвав у Светки поощряющую улыбку), но только немножко.
Что там потом произошло между взрослыми, Горка не знал, только через две недели после начала занятий отец принес домой форменную школьную гимнастерку и сказал:
– Будешь ходить в этом, а в кителе – по праздникам. – И добавил, скривив лицо: – а то истреплешь, шей потом опять.
«Ему позвонили», – обмолвилась мать, отвечая на невысказанный вопрос сына. И не стала ничего пояснять.
Много позже Горка не раз думал над тем, что тогда двигало отцом. Он знал уже, что в те февральские дни был двадцатый съезд КПСС, с которого началось разоблачение культа личности Сталина, догадывался, что отец говорил жене о закрытом партсобрании, на котором прорабатывалась новая партийная директива, понимал, что для отца, верой и правдой служившего партии, а значит, Сталину, хрущевские разоблачения были ножом по сердцу, но все-таки – что и кому он хотел сказать (показать, доказать?), обрядив семилетнего сына как бы в китель вождя? Так театрально, так бессмысленно… и безжалостно по отношению к ребенку… К определенному ответу Горка так и не пришел, и спросить было не у кого: к тому времени, как эти вопросы начали крутиться в его голове, отец уже был далеко.
Крык
А Светка так и вошла во вкус «шефини»: водила Горку по школьным коридорам, увешанным черно-белыми и цветными – анилиновыми – картинками, на которых кудрявые и благостные, как херувимчики, дети кушали за уставленными яствами столами, беседовали в каких-то ротондах и даже танцевали (все картинки были снабжены надписями, поясняющими, как все это делать культурно), показала спортзал, в котором старшеклассники гулко стучали по крашенному коричневым дощатому полу мячами, и маленький актовый зал с притулившимся в углу пианино, и даже туалет, который оказался во дворе. Тут Светка застеснялась, словно туалет был ее промашкой, и сообщила, что, вообще-то, раньше, до революции, он был в здании, но потом школа расширилась, стало сильно пахнуть, и его заделали.
– Откуда ты все это знаешь? – спросил Горка, освоившись с новой подружкой.
Оказалось, она знала от мамы, которая была членом школьного родительского комитета. «Мама рассказывала, – продолжала Светка, – что раньше тут была первая мужская гимназия, а напротив, – она махнула рукой в сторону стоявшего через дорогу такого же краснокирпичного здания, – была женская гимназия, и мама училась в ней».
Тут Горка задумался, силясь понять, когда же Светкина мама училась в дореволюционной гимназии, но разъяснилось и это, – Светка уточнила, что на самом деле это была советская школа, только для девочек.
– Ты что, вообще ничего не знаешь? – подозрительно спросила Светка. – Ты не соображаешь, что если бы мы с тобой пошли в школу не в этом году, а в прошлом… или в позапрошлом, все равно, – отмахнулась она, – то фиг бы ты меня тут увидел, все раздельно учились!
Горка, конечно, много чего знал, но про раздельное обучение – нет, ему никто не говорил.
– А вот эти картинки, – опять задумался Горка, – они что, тоже дореволюционные?
– По-моему, да, – сказала Светка, почему-то понизив голос, – хотя мама говорит, что это уже после революции плакаты делали, о культурном облике школьника Страны Советов, вот. А я думаю – срисовали: мы что – похожи на этих кудряшек? – И рассмеялась.
Да, он в своем кителе точно не был похож. Хотя…
Вечер после первого дня в школе Горка провел в задумчивости, мать даже встревожилась. Он пытался представить себе, что же за дети учились в его школе тогда, сто лет назад, в их маленьком городке и чьи это были дети, такие нарядные, как на картинках в коридоре, – чьих-то богатых? И сколько их было таких? Что-то тут не сходилось с тем, что рассказывала о своем детстве мать, с тем, как жили они и их соседи, вообще ни с чем не сходилось. Про Тома Сойера сходилось, даже про жизнь Айвенго он мог себе представить вполне ясно, а тут… Горка решил, что надо будет все разузнать поподробнее, и с тем уснул.
На самом деле старорежимные картинки в коридорах, и портреты каких-то бородатых дядек в сюртуках в классах, и сам факт, что эта школа существовала еще в девятнадцатом веке, и скрипевшие под облезлым линолеумом паркетные полы в «елочку» (кое-где было видно) – все это создавало определенную атмосферу, которую чувствовали и ученики, и учителя, некоторые из них, как вообразилось Горке, вполне могли бы преподавать и тогда, до революции, – соответствовали, можно сказать. Или старались соответствовать, как они это себе представляли.
Например, Людмила Михайловна буквально вспыхивала, когда слышала в ответ «ага». Она терпеть не могла это слово, и раз за разом выговаривала: дети, так говорить некультурно, надо отвечать «да» и не односложно, а развернуто. Или «айда». «Что значит „айда“? – вопрошала классная, обводя подопечных пристальным взглядом. – это заимствование из татарского, и вас даже не поймут, если вы так скажете кому-то в Москве, например, да хоть в Ульяновске! Есть нормальное русское слово „пойдем“, так и надо говорить». Учитывая, что из двух десятков человек в классе были всего два татарина, возражений не последовало, хотя Горка к таким наставлениям относился скептически: ага и ага, айда и айда – что тут такого неправильного?
А однажды в класс вместо приболевшей Людмилы Михайловны явилась седая старушка в буклях и платье с оборками и сказала, сияя лицом, похожим на печеное яблоко: «сегодня одной эчью с вами буду заниматься я. Вы знаете сказку про куочку ябу?» Полкласса прыснули, полкласса уткнулись в парты от неловкости, но старушка, не выговаривавшая «р», ничего не заметила и пол-урока вдохновенно рассказывала об образах и символах русских народных сказок. Поразительно, но очень быстро класс перестал замечать дефект ее речи и на всю катушку включился в обсуждение того, что значила печка Ильи Муромца и на что указывали надписи на камне у развилки дорог.
Вскоре выяснилось, что эта старушка, Изольда Соломоновна Лившиц, была заслуженным учителем школы РСФСР, а преподавать начала именно еще при царе. Конечно, она погорячилась, наверное, заговорив с первоклашками о символизме в фольклоре, но вышло здорово, – Горке, да и не только ему, очень понравилось. Возможно, и потому, что она с ними разговаривала и как с детьми, и одновременно как со взрослыми, понимающими людьми.
При всем этом Изольда Соломоновна навсегда осталась для их класса «куочкой ябой» – и в пятом классе, когда она вела уроки русского языка и литературы, и позже.
Еще один учитель, которого легко было представить себе в дореволюционной школе, был Анатолий Анатольевич Амадио, время от времени (Людмила Михайловна частенько прихварывала, несмотря на свою корпулентность), занимавшийся с «первашами» рисованием. Горка просто обмер в восхищении, увидев его в первый раз: высокий, весь в черном (и черные волнистые волосы, и черные глаза), подтянутый… даже не подтянутый, а напряженный как струна, вспомнилось Горке книжное, – нервное тонкое лицо и профиль! Просто с литографий о древних римлянах! Какими ветрами занесло такого человека в захолустную Бугульму, да вообще в СССР, кто были его предки – так и осталось для Горки тайной.
Он был строг и холоден с учениками – и тогда, на уроках рисования, и позже, когда преподавал в старших классах черчение; Горка намучился с ним (и наоборот, конечно) и когда пытался нарисовать кувшин, и тогда, когда пыхтел над чертежами – правильные линии были явно не его стихией. Правда, потом, насмотревшись Модильяни и Пикассо, Горка решил, что его кривобокие кувшины были вполне себе ничего, но в жилах Анатолия Анатольевича, похоже, текла кровь римских классицистов, и он решительно, сжав губы, перечеркивал Горкины творения одно за другим и запросто мог бы вывести «двойку» за черчение в шестом классе, если бы не умение Горки читать чертежи.
– Послушайте, у вас же хорошая голова, – говорил Горке Амадио (он всем ученикам говорил «вы»), – почему она не управляет, как надо, вашей рукой? Концентрируйтесь, концентрируйтесь!
И показывал – легко, не прибегая к инструментам, вычерчивая ортогональные проекции… или так же легко, летящим движением карандаша, набрасывая фигуры людей, животных… вычерчивая идеальные кувшины, черт бы их побрал!
Так впервые Горка понял, что он может не все (а у него были такие мыслишки – что может), и это его сильно озадачило. Потому что, вообще-то, ему было в школе скучно – и в первом классе, и во втором, и даже в пятом, пожалуй: бо́льшую часть того, чему их учили, он уже знал, а что не знал – схватывал играючи и всегда отвечал с запасом, учителя нередко просто останавливали его избыточность. Однако вот – «я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал», но и угол выходил кривым.
Конечно, в школе были и другие учителя, не такие живописные, как «Куочка яба» или Амадио, даже совсем не живописные, а подчеркнуто сухие, одноцветные, можно сказать. Физкультуру, например, преподавала маленькая жилистая женщина, всегда в одном и том же застиранном трико, которая за год горкиной учебы ни разу не улыбнулась и ни разу никому не сказала чего-то ободряющего. Она была как автомат: построились, ноги на ширине плеч, вдох – выдох, вдох – выдох, пять наклонов влево, пять вправо – раз, два, три… разогрелись – к канатам!
Они разминались, бегали по кругу, по очереди лазали по канатам и шестам (с канатом Горка быстро научился управляться, а шест больно давил ему на коленки, Горка соскальзывал и тут же слышал требовательное: второй подход, работай руками, тянись!), потом с разбега прыгали через «козла», опять бегали по кругу…
Однажды вместо «козла» физрук поставила посреди зала козлы, как для бега с барьерами, с метр высотой, только грубые, будто со стройки, и приказала прыгать через них «ножницами». Показала сама, – легко, играючи, отошла в сторонку. Мальчишки и девчонки, выстроившись гуськом, принялись прыгать. У кого-то получилось сразу (у Горки тоже, хотя не очень уверенно), кто-то цеплял перекладину ногой и валился на мат позади козел, но, в общем, все шло споро, пока не дошло до Верки Уфимцевой, болезненной белесой девчонки, которую почему-то называли сектанткой (может, потому, что родители наотрез отказались отдавать ее в октябрята, а позже и в пионеры). Верка боялась козел, это было видно, но собралась, побежала – и с разбега хряснулась промежностью о брус. Все услышали, как что-то хрустнуло, и замерли. Верка, ставшая уж совсем как простыня, свалилась на бок, потом встала на четвереньки и молча поползла к скамейкам у стены. Они смотрели (Горка отметил, что Верка даже не заплакала, не было слез), и училка смотрела. Молча, поджав губы. Верка заползла на скамейку, села, раскорячившись, и тут физрук вдруг сказала в гулкой тишине спортзала: «Тяжело в учении – легко в бою, товарищи! На сегодня урок закончен».
«Зинаида Васильевна в войну была разведчицей, – рассказала потом Людмила Михайловна, – и с парашютом в тыл врага прыгала, и „языков“ брала, вы должны понимать, ребята». Ну да, одним из любимых занятий физрука было показывать им, как ходить, чтобы не было слышно, перекатывая ступню вбок с носка на пятку, чтобы ни веточка не хрустнула. А у Верки хрустнуло, так что ж, до свадьбы заживет, как любили говорить детям взрослые.
И ведь они реально так думали, сделал открытие Горка, когда стало ясно, что случай с Веркой Уфимцевой не привел ни к каким последствиям, не считая того, что ее на месяц освободили от физ-ры. Дети рассказали, конечно, о случившемся родителям, но никто и ухом не повел, даже тот же школьный комитет, в котором состояла мама Светки Лифантьевой, – никаких разбирательств, ни упрека физруку… Может, потому, что ее очень уважал директор школы, сам, говорили, фронтовой офицер.
Фамилия директора была Григорьев (Леонид Иванович), но школяры за глаза называли его не иначе как Крык. Он ходил всегда в сером двубортном пиджаке и брюках, похожих на галифе, только зауженное, которые он заправлял в высокие хромовые сапоги. Эти сапоги, кажется, были предметом гордости директора, – они всегда были начищены до блеска и издавали при ходьбе вот этот самый скрипящий звук – крык, крык, крык, и директор, складывалось впечатление, вышагивал так – как гусь, – чтобы этот «крык» звучал как можно более отчетливо.
И он ни с кем не разговаривал, – молча ежеутренне совершал обход школы, во дворе и в здании, иногда заглядывая в классы и кивая училкам, и уходил в свой кабинет. Говорили, что на войне он сорвал голос, но Горка знал, что это не так, потому что с ним Крык однажды заговорил.
Он вошел в туалет, когда Горка, пописав, разглядывал порозовевшие тетрадные листки – там, среди кала и мочи, – и соображал, отчего они порозовели. Крык встал рядом, тоже принялся писать, потом искоса посмотрел на Горку и вдруг спросил: «к органической химии готовишься? Молодец».
Застегнулся и вышел.
Горка не понял, какое отношение испражнения имеют к органической химии, но догадался, что директор принял его за старшеклассника, и это вызвало в Горке нечто вроде гордости: он всегда хотел быть взрослее. И сам факт, что с ним заговорил директор, который ни с кем не разговаривает, тоже, конечно, возвысил Горку в его собственных глазах.
А однажды они с Витькой Масловым, с которым Горка сошелся, потому что тот тоже знал много больше школьной программы, поняли, что значит Крык в ярости и почему его все боятся. Они болтали в коридоре у окна неподалеку от директорского кабинета и вдруг услышали ужасный, буквально звериный рев. В следующее мгновение дверь кабинета с треском распахнулась, и Крык выволок в коридор какого-то мальчишку, по виду класса из пятого, и со всего размаха дал ему пендель. Пацан полетел по воздуху, размахивая руками, а Крык развернулся и захлопнул за собой дверь.
Они онемели, а потом чуть не попадали со смеха.
– Ты видел, ты видел! – придушенно кричал Витька. – Он ему «щечкой» влепил, как по мячу! Сапогом!
Горку подмывало, конечно, рассказать об увиденном родителям, но, поразмыслив, он решил, что лучше не надо: кто его знает, как бы они себя повели, особенно мама, а школа Горке нравилась – в общем, его хвалили, ставили в пример, – так что… Сдержался.
Вообще, 56-й год начинался отлично, как ни посмотри. В июне у родителей вышла маленькая радость – правительство отменило плату за обучение в старших классах, до которых Горке было уже рукой подать, в разгар лета вышел закон о пенсии с шестидесяти лет для мужчин и с пятидесяти пяти – для женщин, – опять у отца случился повод «обмыть» (матери, как неработающей, это не касалось, конечно, а отец тут же подсчитал, что пенсия в половину от его зарплаты полторы тысячи рублей – это вполне), потом репродуктор и газеты принялись громыхать сообщениями об освоении целины, сулившем изобилие зерна и мяса, косяком пошли песни про целинников (самую популярную в народе тут же испохабили – вместо «едут новоселы по земле целинной, / песня молодая далеко летит» пели «едут новоселы, рожи невеселы: / кто-то у кого-то спиздил чемодан»), потом оказалось, что у СССР есть первый в мире пассажирский реактивный самолет… Горку все эти новости волновали мало (кроме как про самолет – вжик, и через три часа на другом конце Земли, здорово!), но он видел, что отец с матерью как-то… подобрели, что ли, в том числе друг к другу, стали чаще улыбаться, и это поднимало и ему настроение.
Все оказалось перечеркнуто одним днем глухой осени. Отец опять явился с работы сильно пьяным и опять в компании Гируцкого («это просто бес какой-то», – прошипела мать) и с порога сообщил в пространство: «разоблачил культ, с-сука, получи!»
Наутро (отец не зря был примерным коммунистом, первым узнавал) репродуктор и газеты загромыхали сообщениями о контрреволюционном мятеже, о попытках вырвать венгерский народ из братской семьи; отец слушал, читал, плевался… Так продолжалось чуть ли не до нового года.
Сулит Казань
Репродуктор вещал не переставая. В шесть утра он включался сам по себе, гремя гимном СССР, в полночь умолкал, сыграв его же, а в промежутках – помимо хоров и бунчиковых с нечаевыми – сообщал разные важные новости на русском и татарском. По-русски Горка понимал, разумеется, и быстро усвоил, например, что стопудовый урожай – это выдающееся достижение советских хлеборобов (про этот урожай и песня была, кстати) и что благодаря партии и правительству в стране неуклонно снижаются цены на продукты питания и товары широкого потребления, а по-татарски не понимал ничего, но его смешил театрально форсированный баритон диктора, начинавшего сводки новостей со слов «Казан сейли». Отец, говоривший по-татарски (но при этом категорически не способный перевести татарские песни), объяснил, конечно, сыну, что «сейли» значит «говорит», но Горке всегда слышалось «сулит», и это его смешило: каждый день что-нибудь да сулят. На русском, впрочем, было то же самое, но Горка об этом не задумывался.
И вот этот «продуктор», как не без ехидства говаривали соседские бабки, однажды взял и замолчал. Ну, то есть не совсем замолчал, а стал почти неслышим – слова и музыка еле пробивались через трески и свисты. Мать насторожилась, задумалась, а потом пошла в какие-то горсети, как она Горке сказала, разбираться с непорядком. В этих сетях ей объяснили, что у них все нормально, а причина, скорее всего, в том, что кто-то самовольно подключился к их линии. И отреагировали: на следующий день в конюшню заявился монтер, с полчаса полазал среди чердачных паутин, и репродуктор вновь запел-заговорил в полную мощь. «Сосед слева подцепился, – доложил монтер матери, – я его обрубил, так что все в порядке, хозяйка». Мать благосклонно кивнула, монтер ушел, а на следующий день репродуктор опять начал хрипеть и сипеть, и мать снова пошла в сети.
Так продолжалось дня три, а на четвертый Горка с мамой как раз устроились обедать, к ним в стойло завалился сумрачный фиксатый мужик, тот самый сосед слева, и грубо, с вызовом (Горка опешил) сказал: «Хе-рэ, молодуха, по начальству бегать, добегаешься! Запомни: закон – тайга, медведь – хозяин». И вышел раньше, чем мать собралась что-то ответить.
– Скотина, – с ненавистью проговорила мать, отвечая на немой Горкин вопрос, – погоди, я покажу тебе тайгу!
Вечером она рассказала о случившемся мужу, заявив, что унижений от всякого быдла не потерпит и вообще ни от кого не потерпит, но Прохор Семенович, на удивление, только раздумчиво помычал и принялся собираться ко сну. Горку это обескуражило, – он ждал, что отец поддержит маму, что-то такое пообещает, а потом немедля и сделает. Он помнил, как год назад – как раз когда у него разладилось с Клавдией Николаевной, мать пожаловалась мужу, что кто-то подворовывает дрова из их поленницы, и отец, хмыкнув, принес охапку поленьев, насовал в их щели винтовочных патронов и уложил обратно. Через день эти поленья повзрывались в печке у Ляхов, и подворовывание прекратилось. Как и соседские отношения с Ляхами, к слову. Вот такой был у Горки отец – изобретательный и решительный, а тут… Но, поразмыслив, Горка нашел для отца оправдание: этот сосед слева, Варенин, был шофером на тюремной хлебовозке, и поговаривали о нем и этой хлебовозке всякое, – а кто так и прямо шептал, что никакая она не хлебо, а трупо! Как с таким связываться? Страшный человек!
К Горкиному счастью, отец быстро восстановил в его глазах свою репутацию изобретательного и решительного: не прошло и недели, как он заявился после работы с большой картонной коробкой и торжественно выгрузил из нее сверкающую лаком радиолу. «Рекорд» – залихватским курсивом было написано на передней стенке. «3М, – уточнил отец, – модернизированный!»
О, это было чудо – какой там репродуктор! Во-первых, радиола светилась изнутри, через окошко справа, а во-вторых, на стекле окошка, под нарисованными вертикальными скобками с пометками «ДВ», «СВ» и «КВ», были написаны названия разных городов – Владивосток, Новосибирск, Рига, Таллин, Москва, само собой, и даже Казань, столица их Татарии, и если подвести стрелку к названию… («крути ручку, медленнее крути», – поучал отец, склонившись рядом), если подвести стрелку… Москва была слышна отлично, Казань – тоже, а вот другие города или молчали вообще, или звучали где-то совсем в стороне от своих меток. А Рига с Таллином вообще нигде не звучали.
Это Горку немножко расстроило, но зато, когда он начал лазать по коротковолновому диапазону (на первых порах по вечерам, пока мать не прогоняла делать домашнее задание), там обнаружилось столько тайн! Например, кое-где сквозь подвывание была слышна какая-то песенка на непонятном языке, что-то вроде «спилман, хани-хани», причем эти слова повторялись бесконечно, а других и не было, будто пластинку заело, а в другом месте мужской голос размеренно диктовал кому-то цифры – 4267, 3150, 7720 и другие, да долго, минут по десять, наверное, а потом вдруг замолкал и слышалось только тихое шипение. Горка ждал, когда чтец вернется, но не тут-то было. Зато через часик можно было опять настроиться на эту волну и услышать, как голос диктует другие цифры.
Ни отец, ни мать ничего Горке объяснить не могли, и он, уже осиливший половину романа «Над Тиссой» – про американского шпиона Кларка, которого наши контрразведчики вычислили по загранично подстриженному затылку, наверное, что это какие-то шпионы передают шифровки. Подумав, Горка решил поделиться своим соображением с отцом. Тот, выслушав, пожал плечами и заметил неуверенно: «ну, мало ли…» – «Так, может, сообщить надо?! – загорелся Горка, помня о Кларке. «Сообщить? – переспросил отец. – кому сообщить, сынок? Кому надо, и так всё знают, садись лучше уроки делать».
Горка еще некоторое время находил вечерами этого любителя чисел и слушал, размышляя, почему же те, кто всё знает, позволяют кому-то такое, но вскоре его внимание переключилось на другое: хмурым октябрьским утром радио сообщило, что СССР вывел в космос первый в мире искусственный спутник Земли!
Тут началась настоящая лихорадка: люди часами просиживали у радиоприемников, чтобы поймать сигнал от спутника, взрослые и дети вечерами кучковались во дворе и на улице, силясь увидеть среди звезд этот металлический шарик, – и многие божились, что увидели, и показывали ближним, тыча пальцами в небо и чуть не крича – разуй глаза, тетеря! Горка тоже был уверен, что увидел однажды, но почему-то стеснялся сказать об этом. Но когда ему удавалось поймать на коротких волнах вот это «бип-бип-бип-бип-бип», частое, как биение детского сердца, и заставлявшее в унисон колотиться Горкино, он кричал на все стойло, словно жил в хоромах с массой комнат, призывая отца и мать присоединиться и послушать. И быть счастливыми вместе с ним.
Родители… Они тут Горке подыгрывали, конечно, и он это чувствовал и чувствовал, что они были не то чтобы счастливы, а как-то задумчиво горды: с одной стороны – могем, не зря Гитлера сокрушили, а с другой – это куда же можно такой шарик закинуть, как однажды спросил про себя, шурша «Правдой», отец. Всего каких-то двенадцать лет назад американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, названия этих городов были у всех в Союзе на слуху, и не проходило дня, чтобы газеты и радио не рассказывали о происках американской военщины и ее наймитов против СССР и стран социалистического содружества. И вот – такой спутник. Хрущев еще не высказался на весь мир про Кузькину мать, но уже показал.
Порт пяти морей
Новый, 1958 год они встречали при свечах – не потому, что родителям захотелось романтики, а просто отрубили электричество.
Его часто отключали – их дом и окрестные запитывались от генератора ликеро-водочного завода, разместившегося напротив, через овраг, и что-то там у них то и дело случалось – может, солярки не завезли вдосталь, предполагал отец, или моторист нажрался дармовой водки, ввинчивала свою версию мать, – как бы то ни было, а сидеть вечерами без света было не в диковинку.
На такие случаи у матери была приготовлена керосиновая лампа со стеклянной колбой, походившей на тюльпан, и пяток стеариновых свечей (а отец стругал и запаливал вдобавок лучину), она поправляла фитиль, чиркала спичкой, и комната наполнялась блуждающим светом, терпким запахом керосина и – постепенно – разогретого металла лампы. Горка не признавался, конечно, но ему это все нравилось – этот неровный свет, и гулявшие по углам тени, когда кто-то вставал из-за стола, и запахи… А особенно чудесно, сказочно их конюшня выглядела в такие вечера с улицы: Горка выбегал специально, чтобы посмотреть, и воображал, что там, внутри, за мутным оконным стеклом, живут не они с отцом и мамой, а какие-то другие, таинственные люди. А может, даже и не люди, а волшебники. Или тролли.
Ну и вот они сидели при свечах – и лампе – за столом, ели-пили, слушали патефон (радиола-то без электричества не играла), Горка пшикал на свечи корками мандаринов, свечи трещали, над столом поднимались снопы искр, как вдруг отец сказал, глядя на эти бенгальские огни: «Казань у нас теперь – порт пяти морей, ГЭС пустили, линию от нее тянут, так что скоро без керосинок обходиться будем».
Горка так и уставился на отца: как это – Казань и пять морей, откуда взялись? Отец засмеялся, отошел к этажерке, взял оттуда какой-то журнал и протянул сыну – читай!
«Чаян», значилось на обложке, а ниже, на фоне картинки с белым кремлем, ярко-алым было написано: «Казань – порт пяти морей!» Горка открыл журнал, полистал – там были короткие тексты, карикатуры…
– Пап, это что? – спросил он, не найдя подтверждения написанному на обложке. – что такое «чаян»?
– «Скорпион» с татарского, – ответил отец, – жалит, высмеивает… – он покосился на жену, – отдельные недостатки.
– Угу, – мрачно подтвердила мать, – пьянство, например, ворюг – и всё шутя.
Горка знал, что такое юмор, но что журнал юмористический, совсем сбило его с толку.
– Так это они пошутили, да? – спросил снова.
– Да нет, – ответил отец, – тут они серьезно, шутка ли – пять морей!
Тут он поперхнулся и, не сдержавшись, засмеялся, мать тоже прыснула. Но Горке было не до смеха, он пристал с расспросами, и отец, посерьезнев, принялся объяснять.
Вышло путано.
– На Волге, – говорил отец, – ниже Казани, возле Куйбышева, сделали огромную плотину, река разлилась, образовалось настоящее море. – Он помедлил и загнул палец. – в Волгу впадает речка Казанка, но теперь не она в Волгу течет, а Волга в нее, – (Горка таращился, не понимая), – и Казанка тоже разлилась, прямо под кремль. А Волга, – продолжал отец, загнув еще один палец, – впадает в Каспийское море, а через Волго-Донской канал, Дон тоже река, в Черное море. – Загнулся еще один палец. – а Черное море – в Средиземное…
На этом месте Горку сморило. Ему чудилось, что он плывет на спине по волнам куда-то очень далеко и легко.
Но наутро он почувствовал какое-то беспокойство: рассказ отца не шел из головы, причем не про моря, подступившие к Казани, а про завод. Горке казалось, что он остановится без генератора, умрет.
Позавтракав, Горка попросился погулять и пошел через овраг. Завод был чем-то похож на их школу – такое же краснокирпичное здание, только куда больше и трехэтажное, стрельчатые окна (Горка подумал, что, может, тут раньше был не завод, а чей-то замок?), железные, крашенные густо-зеленым ворота возле проходной, будка призаводского магазинчика… Здание стояло перед ним, огромное, мрачное, и пыхтело. Пыхтело что-то внутри, парили приоткрытые окна верхнего этажа, пар сгущался под стрехой в сосульки – некоторые были такие здоровенные, что походили на сталактиты из пещеры, в которой заблудились Том и Бекки, – сосульки свисали и сочились; людей не было. Хотя нет: присмотревшись, Горка заметил с пяток пацанов, валявшихся в снегу. Они о чем-то болтали меж собой, Горка не разобрал, потом один встал и принялся кидать осколками кирпичей в сосульки. Он раз десять, наверное, кинул, наконец попал, сосулька треснула и свалилась. Пацаны метнулись к ней – Горка подходил все ближе и уже хорошо различал и слышал их, – разбили каменьями на мелкие куски и принялись их сосать, хохоча и матерясь. Горка остановился озадаченный, тут они увидели его и насторожились.
– Ты чё там, шкет?! – крикнул один, по виду старшеклассник (там и остальные были заметно старше, чем Горка). – тоже кайфануть хочешь? Иди, не бойся.
Горка потоптался, повернулся и пошел назад. Он не знал, что такое кайфануть, но слово ему не понравилось, да и пацаны тоже, – какие-то они были… как пьяные.
– Так они и есть пьяные, – сказала мать, выслушав Горкин рассказ, – сосульки-то сквозь проспиртованные, их уж сколько шугали, эту шпану поселковую!
Не сразу, но до Горки дошло: пар из заводского цеха был водочный, значит и сосульки хмельные. Его уроки органической химии были еще впереди, и он не представлял себе, может ли так быть, но матери поверил, и это было для него как маленькое научное открытие. «Надо же, – думал Горка, – как все устроено – водоворот в природе!» Но червячок сомнения все же глодал его, и пару дней спустя, улучив момент, он пробрался к заводу (никаких пацанов не было видно) и, не надеясь докинуть до сосулек камнем, долго шаркал валенками по снегу в поисках упавшей. Наконец нашел осколок, поколебался, но все же сунул его в рот и принялся сосать. Вкус и запах были… ну, вода и вода, может, самую малость спиртным отдавало. Разочарованный, Горка сплюнул и пошел за салазками – покататься по склону оврага. Неожиданно трезво он решил, что те пацаны, первого января, просто где-то бражки перехватили. Или водки – шпана же.
За приключением с сосульками беспокойство по поводу заводского генератора как-то отошло у Горки на задний план, тем более что, вопреки предсказаниям отца, ничего не изменилось: генератор по-прежнему деловито постукивал (вечерами его было особенно отчетливо слышно), заводской гудок по-прежнему ревел в семь утра, к началу первой смены, и в два часа дня, когда Горка уже был дома после школы, – к началу второй, и в девять вечера, извещая о конце рабочего дня; завод давал свои декалитры «красноголовой» и «белоголовой», на радость трудовому народу, все шло как заведено.
Но однажды вечером, когда семья села ужинать, вдруг стало совсем тихо. Сначала никто – ни родители, ни Горка – ничего не заметил, а потом сообразили: не слышно генератора, опять встал! Но свет-то горел, даже, показалось, ярче, чем обычно! Они переглянулись, послушали еще, а потом отец сказал со значением: «Порт пяти морей, сынок, порт пяти морей…»
Это было очень необычно – тишина и яркий свет лампочки под матерчатым красным абажуром. Но тишина продлилась недолго. через форточку издали, словно из леса, стал доноситься какой-то заунывный звук – будто запел кто хором. Или застонал. Они молча слушали, силясь понять, потом мать нервно встала и захлопнула форточку.
«Быстро чистить зубы и спать!» – скомандовала Горке, тот поплелся в сени, а следом, на ходу накинув полушубок, вышел отец.
– Ты еще куда собрался на ночь глядя? – крикнула мать, но отец лишь отмахнулся и ушел.
Какое-то время спустя Горка проснулся от приглушенного бубнения родителей: мать о чем-то выспрашивала, отец отвечал, будто оправдываясь.
– Зэки, – донеслось до Горки отцово, – зэки выли.
– Бунт, что ли? – уточняла мать.
Отец что-то ответил, Горка разобрал только «прессанули».
Мало-помалу улеглись спать и родители, а к Горке сон долго не шел: он все пытался понять, отчего вдруг разом завыли в своих камерах зэки. Может, что-то их напугало? Свет не дошел от общей сети, когда остановился генератор? Темнота – это ведь страшно. И что значит «прессанули»? Догадки блуждали в его голове, путаные, неясные, без ответов, а уже проваливаясь в сон, Горка вдруг подумал о монашках, которые до революции жили в своих кельях, ставших потом камерами: у них же вообще не было электричества, они тоже выли?
Утром он вспомнил об этом предположении, но уточнять у родителей не стал, – утром вопрос показался каким-то глупым.
Барабанщица Сильва
Случай с ночным воем в тюрьме получил продолжение неделю спустя. Был вечер, Горка делал уроки, краем уха слушая концерт по заявкам трудящихся, когда в дверь постучали. Мать открыла и крикнула в комнату: «Егор, Витя пришел!» Но Витька Дурдин пришел в этот раз не к Горке, а к родителям. Он встал в сенях чуть не по стойке смирно и продекламировал:
– Наталья Илларионовна, папа и начальник тюрьмы приглашают вас с Прохором Семеновичем… – он перевел дух, заодно вспоминая чужое слово, – на премьеру в театр.
– В театр? – удивленно переспросила мать.
– Ну… в наш клуб, – уточнил Витька, – там вертухаи… – он запнулся и поправился: – там надзиратели сгоношились с зэка. – Он опять сконфузился, Горка засмеялся. – короче, спектакль они поставили и приглашают всех.
– Всех? – продолжала допытываться мать. – В каком смысле всех?
– Ваш двор, – пояснил Витька, – всех конюшенных.
Мать покривилась на «конюшенных» и задумалась, сказала рассеянно:
– Зайдешь? Почаевничаете с Горкой.
– Не, – заявил Витька, – мне еще других оповестить надо. – И ушел. А мать так и осталась в неясной задумчивости.
Вечером она рассказала о визите младшего Дурдина вернувшемуся с работы мужу.
– Весь двор, говоришь, приглашают на спектакль? – проговорил отец, тоже впадая в задумчивость. – то есть всех, кто мог слышать?
– Ага, – сказала мать некультурное слово, – всех, кто мог.
Горка, послушав родителей, тоже задумался: почему вдруг спектакль и почему на нем тюремное начальство хотело видеть тех, кто мог слышать. Что слышать? Тут до него дошло, что речь о том ночном вое, и Горке тоже стало как-то не по себе.
Однако, когда назначенный день настал, они все пошли – и Горкина семья, и соседи. Это стало видно, когда публика собралась в зале клуба, скромном, мест на тридцать-сорок, но с настоящей сценой, рампой и кумачовым занавесом. Горка, сидя в начале второго ряда, вертел головой и не узнавал соседей: мужчины были в пиджаках и белых рубашках, женщины – в выходных платьях, некоторое даже с брошками, все такие чистенькие, как будто помытые. Это бросалось в глаза, потому что их, сидевших кучкой в средних рядах, окружали люди в синем и в сером – в гимнастерках и кителях, но все равно одинаковые, не дворовые – казарменные.
Но вот расселись, свет погас, занавес раздвинулся, и открылась сцена, залитая ослепительным светом, будто прожекторами с вышек. На заднике были нарисованы вечернее летнее небо, несколько ярко-зеленых березок и какой-то бережок, то ли речки, то ли пруда. Из-за кулис навстречу друг другу вышли двое мужчин в песочного цвета пиджаках, косоворотках и парусиновых тапочках, заговорили. О чем – было не разобрать, они комкали слова, но было видно, что друг другом недовольны. Поговорив, мужчины ушли обратно в кулисы, занавес задернулся, почти тут же открылся вновь, а на сцене (задник изображал стену с какой-то картиной на ней) оказался седой как лунь старик с бородкой клинышком, тоже в светлом пиджаке, сидевший за столом и что-то писавший, – украдкой, закрывая ладонью лист. Вошел один из тех, что ругались в предыдущей сцене, склонился к старику, и они стали шептаться, причем стоявший все время озирался на кулису (на дверь квартиры, догадался Горка). Потом занавес опять задернулся, что-то там погромыхало, и открылась следующая сцена – в кабинете совещались пятеро мужчин, среди которых оказался другой из ругавшихся в первой сцене.
Горку происходившее заинтриговало мало: писатель Адамов уже дал ему понимание, что шпионы повсюду, – понятно было, о чем пьеса. А вот антураж – огни рампы, меняющиеся задники, грим, густо лежавший на лице актера, изображавшего старика, его приклеенная бородка – наспех и криво, это было хорошо видно, вот это все вдруг вызвало радостное волнение, – неправда, но такая яркая!
В финальной сцене все трое героев пьесы были уже вместе. Они сидели за столом с графинчиком водки и продолжали свои разговоры. В какой-то момент старик неожиданно вскочил с места, опрокидывая стол, кинулся за кулису, и тут бахнул выстрел! Горка аж подпрыгнул, да и зал как-то дружно напрягся, но тут же разразился аплодисментами: старик рухнул, не добежав до кулис, и занавес закрылся. «Разоблачили», – шепнул Горке отец, поднимаясь с кресла. Интонацию Горка не понял.
Дома мать сделала спектаклю рецензию.
– Они что, – зло говорила она мужу, – за дураков всех держат? Они хотят сказать, что это зэки играли?
– Ну, – раздумывал отец, – может, и зэки, есть же там, кто по легким статьям сидит, – вон и дорогу от снега чистить их выводят, ничего же.
– Ничего, – передразнила мать, – а ты видел, какие на них пиджаки были – чесучовые! Это явно из максименковского гардероба, – (Максименко – начальник тюрьмы), – так он и даст зэкам надеть!
– Да какие чесучовые, – усомнился отец, – я уж побольше тебя понимаю в тканях, но мать только махнула рукой и пошла ставить чайник. Разбор спектакля был закончен.
Чесучовые – это было новое для Горки слово, и, улучив время, он расспросил мать. С ее слов выходило, что чесуча – это очень дорогая шелковая ткань, так что не каждый может себе позволить. «Вроде панбархата», – не к месту добавила мать и, не дожидаясь нового вопроса, открыла шифоньер, достала оттуда платье на плечиках и показала Горке. И по тому, как она показала, как огладила рукой ткань, как вздохнула, Горка понял, что ей очень хотелось показать, она для этого про панбархат и ввернула. Он присмотрелся и вдруг попросил:
– Мам, надень.
Мать вспыхнула:
– Куда надень, Горка? Сейчас, чтобы к плите встать?
Но, поколебавшись, ушла с платьем на кухню, пошуршала там и вышла. Горка онемел. Это платье, глубокого синего цвета, с лаковыми лилиями на матовом фоне и глубоким вырезом, струилось и словно обнимало мать, а уж когда она надела лаковые кожаные туфли и слегка крутнулась на них перед сыном, Горка только восторженно выдохнул – так завораживающе, отстраненно красива она была (как королева Анна, мелькнуло в Горкиной голове).
Мать невесело засмеялась:
– Удивила я тебя, сынок? Ну вот – и у твоей мамы были балы и театры. Когда-то.
Она переоделась в привычное и пошла стряпать, а Горка размышлял над услышанным: балы и театры – это когда и где? На войне, что ли? Или до того, как отец с матерью поженились? Что-то опять не сходилось у него в голове, хоть тресни!
А между тем у матери выпал случай покрасоваться в своем панбархате, а у Горки – случай еще раз ею восхититься, и не в их конюшне, а на виду у всей Бугульмы, можно сказать.
Накануне открытия театрального сезона 1959 года среди просвещенных горожан стали множиться слухи, что главный режиссер гортеатра Галин, год всего как перебравшийся сюда из Казани, ставит спектакль по пьесе «Барабанщица», только-только прогремевшей в Москве, и это будет нечто из ряда вон смелое и злободневное. «И даже пикантное», – многозначительно добавляли наиболее осведомленные. Трудно сказать, какое из достоинств грядущей премьеры, приуроченной к очередной годовщине Великого Октября, зацепило Горкиного отца, но в один из вечеров он объявил, что у него есть пригласительные от директора гортеатра Свиницкого в его ложу на всю семью, так что готовьтесь и собирайтесь. Сам он уже собрался, справив к случаю двубортный шевиотовый костюм, а про материно платье знал, как выяснилось, так что ей ничего нового шить не пришлось. Как и Горке, у которого тоже был костюм, заменивший сталинский китель.
Театр поразил Горку не меньше бани (он, к слову, стоял как раз напротив нее на берегу главного городского оврага, по которому текла речка Бугульминка, только баня – в низине, а театр – наверху, как на холме). Тут тоже все блистало, но не белым, а красным и золотым – кресла, обивка лож и ярусов, отсвечивающая алым центральная люстра, тяжелый, чуть колеблющийся занавес, – это был просто пир бархата. «Это плюш, Егор», – в своей манере снижать тон заметила мать, но отец возразил – «плюш тоже бархат», – и они пошли на второй этаж в директорскую ложу.
И пока родители шли под ручку – по лаковому полу вестибюля от гардероба, по ступеням широкой мраморной лестницы – мать в своем панбархате и туфлях от «Парижской коммуны» и монументально величественный в осознании момента отец (Егорка шагал по другую от него руку), – стоявшие там и сям люди, тоже, в общем, разодетые, как по команде поворачивались и смотрели – на нее, на его маму! Они глаз не могли от нее оторвать! Горкины уши пылали.
А потом начался спектакль, и до поры Горка смотрел на происходившее на сцене не то чтобы равнодушно, а как на хорошо знакомое: он читал уже и про советских разведчиц в тылу врага (да что там – одна из них в их школе физру преподавала!) и много раз слышал выражение «немецкая овчарка» – взрослые так говорили о разных нехороших женщинах, но в кульминации, когда главная героиня Нила (имя показалось ему дурацким) вдруг поддернула юбку, обнажив ноги в черных ажурных чулках, вскочила на стол и принялась танцевать, вихляя бедрами, Горку как ударило и он отшатнулся вглубь ложи. Почему-то ему стало нестерпимо стыдно, он сидел и боялся поднять голову.
Потом Нилу застрелил немецкий шпион, и у Горки отлегло. Но ненадолго, как оказалось.
После окончания спектакля (артистов трижды вызывали на бис, нескончаемые аплодисменты переходили в овации) директор Свиницкий позвал их в комнату, примыкавшую к ложе, – «попить чайку». Чай там был в самоваре, стоявшем посреди круглого стола, покрытого белой крахмальной скатертью, но были и бутылка коньяку, и бутылка шампанского, а к ним – две горки с бутербродами с красной рыбой и черной икрой. Мать, уже начинавшая нервничать, от всего отказалась, ограничившись чашкой чая, а отец и Свиницкий не мешкая принялись за коньяк, попутно рассуждая о том, как прошла премьера.
По ходу разговора Горка понял, что отец не очень понимал в нюансах постановки, а мать была не расположена что-то обсуждать, заметив только про приму: «она выразительная». И поджала губы, отхлебывая чай.
Тут она и вошла, прима. С еще не смытым гримом (глаза были неестественно густо подведены черным, а губы – ярко-красным) и в тех же ажурных черных чулках. Горка посмотрел на них, на ее круглящиеся крутые бедра, и его снова как током ударило. Он с тоской и страхом посмотрел на мать, но мать не увидела, она пристально смотрела на актрису. Та меж тем легко подошла к Свиницкому, склонилась к нему (в шаге от Горки, он смотрел на ее зад, не в силах отвести глаз), чмокнула в щеку, он легонько потрепал ее по спине, сказав: «садись, Ника» (не Нила, отметил Горка), и представил:
– Знакомьтесь, – Вероника Никишина, наша звезда. А это, – поворачиваясь к Горкиным родителям, – Прохор Семенович Вершков, директор Горпромкомбината, с супругой и сыном.
– Очень приятно, – ласково улыбнувшись, ответила Ника (отец вдруг привстал из кресла с полупоклоном, вызвав изумление у жены), – но Прохор Семенович в представлениях не нуждается, всю Бугульму обшивает, как не знать. – И, поворачиваясь к матери: – да вот хоть на этот шедевр посмотреть, какое стильное платье!
– Спасибо, – сухо ответила мать, – да только это не промкомбинатовский шедевр.
– А-а-а, – протянула Ника невинным тоном, – значит, трофейное?
Мать со стуком поставила чашку на стол, помедлила, глядя на актрису, и, решив что-то про себя, спросила в ответ:
– Имеете представление о трофейном? Были на фронте или под фрицами? Как ваша героиня, я имею в виду.
Но всем было понятно, что она имела в виду, мужчины заерзали, и Свиницкий, пытаясь сгладить ситуацию, произнес с успокаивающим смешком:
– Ника, я же самого главного тут не представил, вот, честь имею – Егор Вершков, наследник и надежда, – (Горка посмотрел на него с ненавистью), – а для своих – Горка. Очень легко запомнить, – Свиницкий опять делано засмеялся, – вот горка, – он кивнул на бутерброды, – и вот Горка, только с большой, так сказать, буквы.
Горка вылетел из-за стола, не помня себя; родители догнали его у гардероба.
В ночь после спектакля Горка долго не мог заснуть. Он перебирал в памяти случившееся: сам спектакль, посиделки у Свиницкого и как он его опозорил, и Нилу-Нику, ее чулки, бедра, они кружились у него перед глазами, он трогал себя тут и там, все тело горело, он пытался думать о чем-нибудь другом… Он стал думать про маму, какая она красивая, не меньше Ники, только по-другому, и о том, что между ними случилось, когда они заговорили о мамином платье. Уснул под утро и пошел в школу разбитый.
Плетясь из школы – они учились в первую смену, – Горка у самых дверей дома столкнулся с Зинкой Лях, жившей в соседнем стойле.
– Ты чё, Горка, – закричала она, – ослеп?
Горка поднял на нее глаза и оторопел: Зинка вырядилась в ядовито-зеленое платье, явно ей большое, и намазала губы помадой. Как взрослая, хоть была всего на год старше Горки. Вообще, эта Зинка была ледащей девчонкой и любила покрасоваться в чем-нибудь ярком. Например, зимой, когда они катались с крыши в сугроб позади конюшни, на ней неизменно были оранжевые, с начесом, рейтузы, которые она, с визгом валясь на спину и расставляя ноги, показывала Горке и всем, кто там был, пацанам. Ей нравилось.
– Ты чё молчишь? – снова закричала Зинка, возвращая Горку к реальности. – Случилось что? Двойку схватил?
– А ты чего кричишь? – откликнулся Горка. – Я не глухой. Что вытаращилась?
Зинка молча рассматривала его, накручивая на палец завиток волос у щеки, потом сказала тихо:
– Я могу и шепотом. Хочешь? Пойдем, что покажу.
И пытливо посмотрела Горке в глаза.
Горка смешался:
– Что? Где?
– Пойдем, – Зинка уже тянула его за рукав, – у меня, у нас…
Горка, не отдавая себе отчета, пошел за ней. Вошли в комнату с низкой притолокой, об одном окне. У двери стояла кровать, на которой сейчас спала Зинкина мать, у окна – тахта, между ними приткнулся покрытой клеенкой узкий стол, на котором стояли несколько кружек и трехлитровая банка с брагой.
Горка покосился на кровать, Зинка, продолжая тянуть его к окну, шепнула:
– Не боись, она напилась, до вечера дрыхнуть будет.
– Что есть-то у тебя? – спросил Горка, и вдруг у него пересохло во рту. Они стояли напротив друг друга у тахты, Зинка смотрела Горке в глаза, а руки ее теребили и развязывали узел его пионерского галстука. Дергали и развязывали.
– Ты чё, Зинк? – проговорил Горка, а она уже сдернула галстук, принялась быстро расстегивать пуговицы гимнастерки, потом толкнула, и они оба упали на тахту.
Горка перестал понимать что-либо вообще, в голове его шумело и гудело, она кружилась, следом начали кружиться стены, – он увидел, что Зинка лежит на тахте навзничь, так же расставив ноги, только на ней уже ничего нет – ни красных рейтуз, ни трусиков, вообще ничего, а через мгновение Зинка сдернула и его трусы и он повалился рядом с ней.
А потом на них напал хохот, вот просто до колик, они ползали друг по другу, валялись, целовали друг друга куда придется, тыкаясь губами и носами, и трогали друг друга, и ласкали…
В какой-то момент Зинка затихла и, лежа под Горкой, шепнула:
– Что, Егорок, хочешь стать взрослым? Я как увидела тебя седня, сразу поняла.
Ответить Горка не успел, – у притолоки стукнуло, и в комнату вошла его мать.
Горка не помнил, как собрался и как убежал; перед глазами стояло белое лицо мамы, колотящей по широкой спине Зинкину мать, в ушах звенел ее крик, как какого-то раненого животного. Она била никак не просыпавшуюся женщину и кричала, кричала, кричала… Без слов.
Два дня она с Горкой не разговаривала вообще. Оставляла ему еду на столе, ложилась на кровать, отвернувшись к стене, и молчала. Отца в эти дни не было, куда-то он уехал по делам.
Потом все улеглось, конечно, но отношения матери и сына уже не были прежними. Как будто Горка предал мать, а она не умела прощать.
Да, а Свиницкий нашел случай загладить свою неуклюжую шутку по поводу Горки, спустя время передав через отца пригласительный на оперетту «Сильва». Не в свою ложу, в партер, но Горка оценил и подумал, что этот Свиницкий не такой уж свинтус.
Оперетта Горке понравилась, даже очень, Ника и в ней блистала, правда, совсем не так, как в «Барабанщице»; оперетта – не драма же, а главное, Горке очень понравилась музыка и то, что все там такие яркие и нарядные. Потом Горка ходил слушать и «Марицу», и «Вольный ветер» (дуэт Стеллы и Янко запомнил от и до), но первой была Сильва, и так Горка про себя приму Бугульминского драмтеатра Веронику Никишину и прозвал – Барабанщица Сильва.
Стрельбище
В летние месяцы к ним во двор время от времени приезжал на кибитке старьевщик, бритоголовый и уже с мая черный от загара татарин Сайфулла. В задней части кибитки у него лежали всякие ненужные вещи: изношенные телогрейки, штаны, драные ватные одеяла, тряпки, железки, стопки газет, рваные сапоги и калоши, а в передней части лежало и висело на бортах то, на что можно было этот хлам обменять: иголки для патефона, фитили для примусов и керосиновых ламп, мулине и простые нитки, воздушные шарики, бусы, клеенчатые «ковры» с лебедями и сладости. Да. Для Горки и других дворовых пацанов и девчонок это было, пожалуй, главным: цветные леденцы на палочках в виде петушков, кошечек и непонятно каких еще зверушек. Эти-то сладости и подтолкнули Горку к первой в его жизни попытке что-то заработать.
Надоумил двоюродный старший брат Горкиного соседа Генки пятнадцатилетний Вовка, приехавший в Бугульму из неведомого Кемерова погостить у тетки.
– Вы в каком классе учитесь, пацаны, – спросил он, хмуро наблюдая, как они выменивают леденцы, – в четвертый перешли, в пятый? А самим сделать такую фигню не ума, раз уж сосете?
Пацаны переглянулись, не зная, что сказать, а Вовка, пошептавшись со старьевщиком, взял у него какую-то штуковину и показал:
– Вот, смотрите, он их сам варит.
В руках у Вовки было что-то вроде пенала, только из свинца. Он пристукнул им о телегу, тот распался, и стали видны углубления в форме как раз петушка, на обеих половинках.
– Секете? – продолжил Вовка. – Варишь сахарный песок, добавляешь чутка морса или варенья, заливаешь сюда, вставляешь лучинку, зажимаешь, а как застынет, вот тебе и леденец.
Мальчишки недоверчиво посмотрели на Сайфуллу, тот серьезно кивнул.
– И фиг ли? – спросил брата Генка. – Возиться-то!
– А не фиг ли, – наклепаете таких «петушков», да ему и продадите, – пояснил Вовка, озираясь на старьевщика, – за деньги!
– А ему это зачем, – вступил Горка, – раз он сам?
– Не сам, – вдруг подал голос Сайфулла, – цена сойдемся, – не сам будет, ты будешь.
Они переглянулись с Вовкой, старьевщик опять кивнул, и пенал был торжественно вручен Генке.
Вечером Горка с Генкой уединились за забором, подальше от глаз взрослых, и принялись изучать пенал и думать, как и что сделать. Вопрос о цене их как-то не волновал, – сказал же старьевщик, что сойдемся, – а волновало, как натырить сахарного песка, чтобы матери не заметили, а главное – что форма была одна, много не наваришь. И тут Горку осенило: стрельбище!
– Чего – стрельбище? – переспросил Генка.
– Свинец! – в восторге от своей догадки горячо зашептал Горка. – Они же там то и дело пуляют, а пули-то свинцовые!
«Они» – это были охранники тюрьмы, и тренировались они на стрельбище, устроенном возле бывшего монастырского корпуса, часто, – чуть не каждый день доносились оттуда сухие щелчки и треск очередей, как будто кнутом кто щелкал или простыни рвал.
День у Горки с Генкой ушел на рекогносцировку местности. Воображая себя то ли следопытами Купера, то ли Томом с Геком, пацаны, прячась в кустарнике возле поля со стрельбищем, высматривали что и как. Выяснилось, что стрельбище – это просто глубокая, в рост, траншея метров пятьдесят длиной с бревенчатой стеной для мишеней на одном конце и позициями для трех-четырех стрелков на другом. Траншея была обнесена «колючкой», но небрежно (видны были прорехи у самой земли) и не очень-то и охранялась. Разве что сусликами, временами выстраивавшимися тут и там возле своих норок.
Задача была простой: пробраться в траншею и навыковыривать из бревен побольше пуль, чтобы хватило хотя бы на две-три формы. Сколько – было неясно, но наутро следующего дня Горка взял с собой материну холщовую сумку, а Генка – пару стамесок, отвертку и даже плоскогубцы, – он был хозяйственный парень.
…Они ковырялись уже битый час и заметно устали под припекавшим июньским солнцем; оказывается, пули врезались в дерево очень глубоко, и если бы не местами рассохшиеся и разлохмаченные бревна, то вряд ли бы что вышло вообще (уж плоскогубцы точно не помогали), а так – мало-помалу дело двигалось. И тут они попались.
– Это что такое?! Отставить! – прогремело откуда-то сверху, мальчишки подняли головы и увидели огромные кирзовые сапоги, а над ними, в небесной выси, фигуру старшины Косоурова.
Они его знали. Его все знали на территории тюрьмы: зимой Косоуров выводил зэков на чистку дороги, Косоуров отвечал за тюремный погреб с соленьями и втихаря приторговывал ими за полцены от магазинной, в основном квашеной кочанной капустой и зелеными помидорами, Косоуров мог подсобить – и тоже не задорого – с дефицитными комбикормами для свиней, которых держали почти все местные, – короче, Косоуров был благодетелем, а то, что от него разило сивухой и навозом, что в подпитии он дебоширил в очереди в магазине продтоваров, ну что ж: служба у него была не сахар, надо и понимать.
И вот сейчас он возвышался над Горкой с Генкой и соображал, что должен сделать. Ему хотелось просто надавать пацанам пенделей и прогнать, но недавнее политзанятие в красном уголке тюремной казармы наводило на мысль, что при этом надо сказать еще что-то воспитательное. Например, про порчу социалистической собственности, об этом политрук часто говорил. Косоуров попробовал слово на язык, – «социалистической» выговаривалось не очень, и он нашел замену:
– Это народное, понимаешь, добро, – с чувством сказал пацанам Косоуров, – а вы что же – портить?
– Так мы же ничего, – робко возразил Генка, – это же уже…
Горка молчал, разглядывая кучки тусклых комочков свинца, лежавших на холстине. Косоуров проследил за его взглядом и потребовал, поудобнее усаживаясь на бруствере:
– А ну, ссыпь-ка это все сюда. – и подставил ладонь, больше похожую на лопату.
Некоторое время Косоуров смотрел на свинцовые ошлепки, потряхивая их на ладони, потом поднял взгляд на мальчишек и спросил с укоризной:
– Вот вы наковыряли, а имеете хоть представление, какие тут пули от чего? То-то и оно, – продолжил, послушав тишину, – а тут, пацаны, целая история.
Горка с Генкой опять переглянулись, не понимая, к чему Косоуров клонит, а он, выудив из кучки кусочек свинца, сунул его под нос Горке и спросил:
– На что похоже?
Горка замялся, а Генка вдруг выпалил:
– На боровичок!
– Правильно! – удовлетворенно кивнул Косоуров. – На грибок. А это?
– Это… на стручок, – включился Горка.
– Пожалуй что, – согласился Косоуров. – а вот тут как рашпилем бок у пульки срезало, а тут, – он вздохнул, – уж и не поймешь… Но о чем это все говорит? – вдруг взревел старшина. – А?! А вот, – что боровички случаются, когда пуля от нагана, стручки – когда из ТТ, а острые кривые… может, из ППШ… или из СКС. Потому что и винты разные нарезаны, и скорость у пуль разная от разного оружия.
– Товарищ старшина, – просительно проговорил Генка, – дак ведь они же использованные, мы же…
– Да не о том я! – прервал его Косоуров. – Я о том, что надо же понятие иметь, к чему руки протягиваешь. Вот прикинь, что ты не из бревна пулю выковыриваешь, а, скажем, из человека – из головы, например, – он хмыкнул вдруг, но тут же посуровел, – и надо тебе понять, кто же из чего его того. А?
Мальчишки молчали, тупо глядя на тусклый свинец на глине бруствера; Горка почувствовал, что спину и голову припекает; надо было как-то заканчивать – прощения, что ли, попросить…
Вместо этого он посмотрел Косоурову в глаза и спросил, слыша свой голос как будто со стороны:
– А вы, когда расстреливали кого, выковыривали?
– Я? – поперхнулся Косоуров. – Кто сказал? Кто тебе сказал, пацан, – повторил он злым сиплым голосом, – что я?!
Горка пожал плечами, сам не понимая, что ему взбрело в голову. Косоуров тяжело смотрел на него, сопя и что-то обдумывая.
– Ты шибко умный, я посмотрю, – проговорил он наконец, – отец-то у тебя вон, известное дело. А его не спрашивал?
– Он воевал, – упрямо ответил Горка, – он не расстреливал.
– А я не воевал, значит, сучонок, ты уж точно знаешь, – утвердил Косоуров и опять засопел, распаляясь. – Я, может, так воевал, что…
Тут внезапно что-то переменилось в его настроении, он размяк и – уже доброжелательно и даже задушевно – проговорил, вроде пацанам, а вроде себе:
– Стрелять… Зачем? Они сами через два на третий падают. И дух вон.
Мальчишки смотрели на Косоурова во все глаза, соображая, не сходит ли он с ума прямо на их глазах.
Косоуров понял и, кажется, усмехнулся:
– Нормалек, мелюзга, не бзди. Про пули я вам рассказал, но коли уж такие вопросы мне – давай и про расстрелы расскажу.
Он поелозил задом по глине бруствера, достал из кармана мятую пачку «Севера», закурил, помечтал немножко, потом продолжил:
– Что тут раньше женский монастырь был – знаете.
Пацаны дружно кивнули.
– А что в монастыре было?
– Ну, кельи, – буркнул Горка.
– А еще?
– Церковь, наверное…
– Прально! – удовлетворенно подтвердил Косоуров. – А что, одним святым духом они питались или как?
– Может, и так, – враждебно ответил Горка, решив не уступать косоуровским поучениям.
– А вот и не так, – припечатал Косоуров. – Монастырь, пацаны, – это хозяйство, причем большое. Тут и прачечная у них была, и кухня, и продсклад в подвале – с немалыми, скажу я, запасами. Вон там видите, часть стены красным кирпичом заделана? Это были ворота к хоздвору, бочками возили жратву – и солонину, и муку, и даже винцо, говорят, – церковное, конечно, – он довольно засмеялся, – привезут – и в подвал. А чтобы сподручнее было, вымостили в подвале наклонную дорожку, буквально вымостили, как на Красной площади. Я на ней не бывал, конечно, – чистосердечно признался Косоуров, – но в кино видел, точно такая мостовая у них тут была. И вот бочонки по булыжнику катят, а по бокам отсеки – это туда, это сюда… По уму все было сделано, скажу я. Да. Но и мы, значит, не без ума, – начальство наше, – приспособили.
Косоуров вздохнул, обернувшись к монастырской стене, отвлекся на минуту:
– А рядом видите тоже, как кусок стены по новой заделан, с вьюнками поверху? Это такая калиточка у них была потаенная, с решетчатой дверцей и ключиком, у кого надо. Природа шепчет, лесок рядом, – шмыг, и все! Так что монашки, они… – он помялся и махнул рукой, – ладно, малы вы еще про это слушать, я про другое ведь начал. Так вот – расстреливать, – внимательно глядя на мальчишек, продолжил Косоуров. – Приговорили кого, допустим, – надо привести в исполнение. Он сам не знает когда, а знает только, что шлепнут, и ждет. Кажный день ждет и ночь, нервничает, а точно не знает. А его выводят – на помывку там, к следователю, – будто не все вызнано, а когда стрелять поведут – нет команды. И вот представь, малой, – Косоуров уже буравил Горку глазами, – идет он так по этой булыжной дорожке, а она длинная, не меньше, чем вот этот тир, идет, шаркает, все вниз да вниз, а ты метрах в пяти так за ним идешь, подковами цокаешь, спокойно идешь, не торопясь. А потом, – Косоуров сглотнул, – взводишь курок или передергиваешь, если ТТ у тебя, и такой внятный звук получается в этом подвале, удивительно! А он раз – и кувыркнулся. Сердце не выдержало.
Косоуров посмотрел на погасший окурок в руке, выщелкнул и закончил:
– Не каждый так, но часто. А ты – «расстреливал, расстреливал», – зло передразнил Горку. – Понимать надо, к чему руки протягиваешь.
И ушел.
Генка молча ссыпал в сумку покореженные пули, инструменты, а Горка не отрываясь смотрел на монастырскую стену. В голове его шумело и пульсировало, и виделись ему какие-то францисканки в черно-белых нарядах, кованая чугунная дверца под аркой, окаймленной плющом, слышался тихий говор, смех, журчание источника – чужие картины, чужие слова, всё из романов, не из этой жизни.
Он пришел в себя, когда Генка больно ткнул его в бок. Они подхватились и тоже ушли.
…Делать формовки для леденцов они передумали и отдали свинец Вовке. Тот отлил из него классную свинчатку.
Хасавюрт
По случаю на «отлично» законченного Горкой четвертого класса отец преподнес ему роскошный подарок – путешествие, да не какое-нибудь, а по Волге и Каспийскому морю!
– Прохор, ты очумел, – растерянно сказала мать, узнав, – это же прорву денег стоит…
– Ну, мы же мешками гребем, – отшутился отец и, помедлив, добавил: – и однова живем.
Выяснилось, что он давно уже подумывал съездить в гости к фронтовому другу Сергею, жившему в дагестанском Хасавюрте (тот не раз приглашал в письмах), а тут случилась большая премия по линии главка, за подъем легпрома и плавный переход пятилетки в семилетку, со смешком уточнил отец, и Горка вот не подкачал…
– Я не поеду, – отрезала мать, – без меня шикуйте.
Они без нее и поехали.
Отец оформил отпуск, который, оказалось, был совсем коротким, с шестого по двадцать второе июня, и Горка немножко расстроился. Но когда ранним воскресным утром к их конюшне подкатила, посигналив, «победа» с шашечками и отец скомандовал загружать в нее чемодан и фронтовой рюкзак (по сути, котомку, затягивающуюся шнурком на горловине), у него было совсем другое настроение: они поедут на такси, ух ты! А мать едва не лишилась чувств.
– Ты взял такси? – спросила она, чуть не плача. – На поезде нельзя было до Ульяновска доехать, идиот?!
– Времени мало погостить, Наталья, – ответил отец, коротко глянув на хмыкнувшего шофера, – дорога все съест.
Мать, казалось, его уже и не слышала, со слезами обнимая и целуя в макушку сына. Трудно было сказать – с учетом их изменившихся отношений, – что вызвало слезы: может, больше мысль о том, что муж по ветру пускает семейный бюджет, подумал Горка, тут же, впрочем, устыдившись.
Ехали долго, в основном по асфальту, пестрившему выбоинами, местами по щебенке, а где и по грунтовке, поднимая кучи ржавой пыли; Горка, сидевший сзади, смотрел на тянущуюся за окном степь, иногда перемежавшуюся перелесками, машина поднималась на пологие холмы, скатывалась, до Горки доносился разговор отца с шофером, потом они умолкали, и слышен был только гул мотора и посвисты ветра. И стук счетчика. Если бы не он, Горку давно сморило бы, но счетчик стучал прямо у него в голове, – Горка вдруг понял, что мама-то права: сколько же денег придется отдать!
Часа через три езды остановились, шофер заглушил мотор, и отец, обернувшись к Горке, предложил «размять кости».
– Сходить до ветру, – дополнил шофер.
Они вышли, Горка быстренько пописал у обочины и вернулся в салон, а мужчины направились в хлипкую рощицу. Может, кому по-большому надо было, догадался Горка и стал ждать. И тут его осенило: счетчик-то продолжал щелкать! Выходило, что деньги продолжали капать?!
Горка заерзал, думая, не покричать ли отца, посмотрел на счетчик (крайняя справа циферка как раз нырнула вниз, сменившись другой), и тут его осенило во второй раз. Протиснувшись между сиденьями, он дотянулся до выключателя счетчика и крутнул его наугад. Счетчик стих. Горка посидел, слушая тишину, и испугался: они сейчас вернутся, и что скажет шофер? Вдруг заругает его, откажется дальше ехать, и что тогда?
Гадать долго не пришлось, взрослые вернулись, шофер запустил двигатель и вдруг засмеялся:
– А малой-то у вас, – обращаясь к отцу, – хозяйственный, как я вижу.
Отец, глянув на счетчик, только крякнул.
– Да ничего, – успокоил шофер, – может, так даже и лучше выйдет, мы ж по цене договорились, правильно?
Отец кивнул, и они поехали дальше. Горке он вообще ничего не сказал, как будто ничего и не было.
…Пароход был грандиозен: весь белый, поблескивавший окнами кают на двух верхних палубах и отсвечивавший в бутылочного цвета воде иллюминаторами в трюмном, третьем, классе, с чуть запрокинутой назад мачтой с трепетавшим на ней вымпелом, широченной трубой и гребными колесами, на кожухах которых по дуге шла надпись – «Володарский». Он был колесный, совсем как в «Жизни на Миссисипи»! Как в жизни…
Отец тоже помедлил, разглядывая судно («смотри-ка, – сказал Горке, – на носу у него травяной орнамент, и тут татары». – «не на носу, а на баке», – уточнил Горка), они переглянулись, дружно вздохнули и пошли по шаткому трапу селиться.
В каюте, довольно просторной для второго класса, окно было забрано поперечным бамбуковым жалюзи (Горка не сомневался, что именно бамбуковым), его планки сухо пощелкивали, когда пароход качало, сквозь них тонкими нитями сочился солнечный свет, сохраняя в помещении тенистость; Горка представил, как будет здорово после обеда улечься на диване с книжкой, почитать про жизнь на Миссисипи или про приключения Гека Финна и подремать немножко, а потом вылететь опять на палубу и смотреть, смотреть – на реку и кущи на берегу, слушать плеск волны и чавканье воды, которую месят гребные колеса…
Так и сталось потом, но первые день-два Горке было не до книжек на диване, он пребывал в сильном возбуждении, лазал по судну туда-сюда и рассматривал шлюпки (целых четыре), такелаж, якоря на баке и юте – все было так ново, так непривычно…
Однако путешествие по воде (Горка не признавал тут слово «круиз», считая, что это исключительно про море), такое неторопливое и размеренное, постепенно перестроило его внутренний ритм: он вставал вместе с отцом спозаранку и не чувствовал, что недоспал, как всегда бывало дома; они гуляли некоторое время по верхней палубе, уставленной шезлонгами, валялись в них, молча глядя в небо, потом шли в ресторан завтракать. Ресторан, с большими панорамными окнами, весь светился: белая мебель, белые крахмальные скатерти на столах, сверкающие сталью и фаянсом куверты, улыбчивые официантки (бывали и хмурые, но редко), плотные альбомы меню, еда, которой мать никогда не готовила. И туалет – чистый, блестевший металлом, с унитазом, с урчанием смывавший всё без следа. И никаких мух.
Чудесным образом Горку словно взяли и перенесли в какой-то другой мир, уместившийся в этой хрупкой, по сути, скорлупе неспешно чапающего по реке судна, – на время, чтобы запомнил. Конечно, он понимал, что все сделал отец, но все равно не оставляло ощущение, что тут есть какая-то тайна, не зависящая от прихоти отца.
Они много разговаривали вечерами, сидя на диванах в каюте, а чаще – в деревянных полукреслах на палубе, – столько, сколько отец никогда не разговаривал с Горкой дома. Отец был немногословным человеком и говорил простыми предложениями – о том, как рос в деревне Васильево неподалеку от Бугульмы в большой семье («три брата и две сестры нас было»), как пахал, уже с семи лет от роду, как они косили траву на корм скоту (в семье были корова, лошадь, две козы, а еще – с десяток кур), как потом это все у них отобрали («революция же случилась, равенство») и он, пятнадцатилетним, пошел воевать, и так вышло, что не против тех, которые отобрали, а за. За красных, значит. Последнее Горку смутило, ведь по логике должно было быть наоборот, но отец, выслушав сомнение сына, только вздохнул: «так бывает, сынок, это жизнь». И, помешкав, привел пример, который, как он считал, прояснит сыну, что значит «это жизнь».
– Ты прикинь вот про своего деда, моего отца, значит, – начал отец. – Он здоровый был, как бык, кочергу мог узлом завязать, а поехал как-то на базар в Бугульму с солониной, телега опрокинулась на мосту, и бочкой ему грудь и раздавило. Помер. Вот как? А вот так.
– На каком мосту? – осторожно спросил Горка, предчувствуя неладное.
– Да как раз на нашем, рядом с колонкой, куда за водой ходим. Ты не знал, а для меня – памятное место.
Разговор приобретал мрачный характер, и Горка, подумав, решил перевести на другое.
– Пап, а Володарский – это кто?
– Володарский? – переспросил отец. – А разве вам в школе не рассказывали? Это революционер, сынок. Его убили в тысяча девятьсот восемнадцатом, а теперь вот пароход назвали.
Горка собрался было уточнить, кто и за что убил, но отец вдруг засмеялся и добавил:
– А вообще-то, он закройщик был, Володарский этот, как наш Гируцкий. Можно сказать, родня. Только Володарский накроил куда как поболе. За то и убили.
Улеглись спать. Пароход слегка качало, он скрипел, Горка слушал, убаюкивался и в полудреме думал почему-то не о Володарском и что там с ним случилось, а о солонине. Он со смеху умирал, когда читал, как папаша Гека Финна напоролся ногой на бочонок с солониной, а тут выходило что-то совсем другое – упал бочонок на грудь и раздавил человека до смерти; как такое могло быть? А вот – это жизнь.
Следующее утро выдалось шумным – по палубам бегали матросы, боцман что-то кричал в рупор; «Володарский» протяжно гудел, осторожно входя в створ шлюза Жигулевской ГЭС.
Он вошел в камеру, матросы кинулись заводить швартовы, а Горка со страхом смотрел на бетонные сырые блоки рядом с бортом, расчерченные склизкими следами тины. Потом он услышал грохот, побежал на звук и, оказавшись на корме, увидел, как медленно и неотвратимо за «Володарским» закрываются огромные ворота, этажа в три, наверное, выше, чем винзавод!
Они закрылись, в камере стало сумрачно, пароход чуть покачивался, и больше не происходило вообще ничего. Как будто они попали в ловушку и уже никогда из нее не выберутся. Потом что-то забулькало – казалось, под днищем парохода, вдоль борта заструилась вода, где-то поднялся гул, и Горка почувствовал, что пароход опускается! Все это шипело, клокотало, рупор покрикивал «трави! трави!», они все опускались и опускались. Наконец (прошло минут десять, может, пятнадцать, но Горке казалось, что вечность) стальная стена, стоявшая перед «Володарским», начала размыкаться. За раскрывающимися створами показалось чистое синее небо, в камеру просочился солнечный свет, и пароход пошел на него, осторожно, как слепой, и опять принялся протяжно гудеть.
Он выбрался на фарватер, гуднул прощально шлюзу и почапал – туда, вниз, к устью. Река здесь была уже не такой широкой, как на подходе к плотине, где она ширилась как море, а какой-то домашней и даже веселой, играющей блестками мелких волн в разгорающемся жарком дне.
После Ставрополя стали попадаться участки с островами. Кое-где паслись коровы, Горку удивило, как они туда попали, а отец со смехом ответил, что коровы запросто переходят реку. Горка так обиделся, что даже не стал ни возражать, ни расспрашивать дальше: он знал, что коровы могут плавать, но не через пол-Волги же!
На Горкино счастье, эту их размолвку наблюдал капитан, щеголявший во всем белом с биноклем на шее, – он снял бинокль, протянул Горке и сказал, улыбнувшись:
– На-ка, посмотри как следует, поймешь.
Горка взял бинокль, забыв даже сказать спасибо, поднес к глазам (он был тяжелый и куда больше, чем хранившийся у них дома полевой), и остров надвинулся на него так крупно, что Горка даже отшатнулся.
– Хороша штуковина, да? – рассмеялся капитан. – Это морской, двенадцатикратный, смотри, только осторожно.
– Спасибо, – наконец сообразил Горка и вновь прильнул к окулярам.
Вблизи остров, мимо которого они неспешно плыли, выглядел совсем как опушка леса за тюрьмой: виднелись кусты тальника, осины и березы, от песчаного бережка вглубь тянулась наезженная в траве дорога, чуть левее чернели следы костровищ (и коровьи лепешки, кстати), – людей не было. Горка смотрел, временами укрупняя план и подкручивая резкость, и наконец в поле зрения появилось то, что разъяснило загадку: на песке лежали, чуть боком, две большие плоскодонки, скорее, шлюпки, с деревянными перекладинами поперек на носу и корме. Вот как туда коровы попадали. Но зачем их возили на остров – трава там какая-то особенная или дома пасти негде было?
Тут Горка вспомнил, как тетя Поля однажды заявилась к ним без привычной трехлитровой банки молока и, плача, сообщила матери, что теперь и не будет – «свели корову со двора». Тогда Горка подумал, что с коровой просто что-то случилось, заболела или украли, может, а потом отец обмолвился о «бестолочи» и совхозах, и стало понятно, что «свели» власти. Но Горка думал, что это у них, в Бугульме, а теперь выходило, что везде. Он помрачнел, отыскал капитана и отдал ему бинокль.
Следующим утром, снова солнечным и безмятежным, капитан опять предложил ему бинокль, показывая на приближавшийся навстречу по реке пароход:
– Глянь-ка, наш брат идет. всё там в порядке у них?
Горка посмотрел. Пароход был и вправду как их «Володарский», точь-в-точь, насколько можно было судить, только на носу у него было написано «Спартак». Ух ты! «Спартак»! Горка два раза прочитал эту книжку, восхищаясь восставшими за свободу рабами и переживая за Валерию, которую Спартак любил и оставил, и за Красса, как ни странно, и за…
Тут прямо у него над головой взревел гудок, отвечая загудевшему встречному судну, Горка вздрогнул и выронил бинокль. Еще до того, как он плюхнулся в воду, Горка понял, что произошло непоправимое, и в отчаянии обернулся на капитана. Тот посмотрел на него, как… как… – Горка не мог описать, – потом кашлянул в кулак и сказал, сдерживая себя:
– Забыл я тебя предупредить, парень, что бинокль надо носить на шее на ремешке, – виноват. – Козырнул и пошел в рубку.
Горка отыскал отца и в слезах рассказал ему, что случилось. Тот тоже кашлянул и пошел искать капитана. Горка сидел в каюте, боясь высунуть нос на палубу, ждал. Прошел час, наверное, отца все не было. Собравшись с духом, Горка отправился на его поиски.
…Они сидели вдвоем в ресторане за столиком у окна, попивали коньяк и неторопливо о чем-то беседовали. Увидев Горку, капитан с улыбкой подозвал его; Горка зыркнул на отца и убежал.
Как отец уладил дело, Горка не спрашивал (а отец о происшествии вообще ни слова не сказал), но навсегда решил, что капитан – отличный дядька и настоящий моряк. И даже захотел стать таким же. И хотел какое-то время.
До Астрахани они доплыли к исходу одиннадцатого дня, пересели там на другое судно, близко не стоявшее с «Володарским» (Горка даже названия не запомнил), и еще почти день плыли до Махачкалы. Каспийское море Горке не понравилось. Может, потому, что пароходишко был неказистый, они даже каюту не сняли, может, потому, что моря толком и не было, плыли почти всю дорогу вдоль берега, а может, потому, что эпизод с потерянным биноклем расстроил и уязвил Горку больше, чем он сам про себя думал; как-то скучно ему стало.
Махачкала удивила тем, что город от порта резко уходил вверх в предгорья, но Горке тоже не понравилась: кривобокие деревянные домишки стояли вперемешку с кирпичными с осыпающейся кладкой, в порту гуляли мутные запахи то ли рыбы, то ли тины… Да они город и не посмотрели толком: сразу из порта поехали на вокзал, отец взял билеты в общий вагон – до Хасавюрта езды было меньше двух часов, убили время, пообедав в какой-то кафешке со склизкими столами и лавками, и отправились. Первая часть путешествия подходила к концу.
На перроне Хасавюртовского вокзала – одноэтажного дощатого строения размером с бугульминскую конюшню – их уже поджидал отцовский друг Сергей. Встречающих вообще было раз-два, но Горка подумал, что этот человек не затерялся бы и в толпе: с обритой головой, черным от загара лицом, украшенным пышными пшеничными усами, весь такой с виду ловкий, пружинистый, он схватил отца в охапку, хотя был на голову ниже, и они смачно расцеловались.
Оторвавшись от друга, Сергей обнял и Горку, – легко, одной рукой, заведя ее Горке на поясницу, и бодро спросил:
– Не ухайдакался, боец, в дороге? Ну, молодец.
Отец тем временем озирался в поиске транспорта. Сергей понял и махнул рукой в сторону тянувшейся вверх пыльной улицы – тут пешком пятнадцать минут ходу, у нас все близко. Ну, пошли пешком. Минут через десять Сергей свернул в переулок, заканчивавшийся поросшим травой тупиком, и сообщил: всё, пришли, вот наш дом родной.
Это был не дом, а домина! За штакетником простирался сад с десятком разных деревцев и кустов (Горка не сообразил каких), а за ним – фасад широкого, по два окна с каждой стороны от центрального входа, здания с верандой во всю ширину и мансардой. У входа, на небольшой деревянной лестнице, стояла женщина, такая же поджарая и смуглая, как Сергей, и улыбалась им.
– Знакомьтесь, – кивнул на нее Сергей, – Айша, моя половинка.
– Очень приятно, – церемонно начал отец, – Прохор Семенович, Проша, значит. – и не удержался: – татарка?
– Сразу видно, что гости из Татарии, – рассмеялась Айша, – нет, я аварка. Да вы проходите, располагайтесь, я сейчас умыться с дороги принесу. – И спохватившись: – а молодого человека как зовут?
– Горка, – ответил отец, – Егор, значит. – он явно чувствовал себя не в своей тарелке.
– Горка лучше, – заключила Айша, – Горка, горы – проходите, проходите!
Горка насупился, вспомнив шуточку Свиницкого, – и тут нашли подобие к его имени! Хотя горы, конечно, звучало лучше, чем горки с бутербродами.
Отец тем временем разложил чемодан, переоделся в простое – рубашку-косоворотку и легкие шаровары, и пошел следом за Сергеем за угол дома, где их у рукомойника уже поджидала Айша с фигуристым, сверкающим кувшином с длинным изогнутым носиком и крышкой.
Кувшин был красивый, но Горка смотрел на него в растерянности: он знал, что это называется «кумган» (видел у соседей), и знал, что мусульмане с ним ходят в туалет, чтобы после всего подмыться. Отец тоже немного растерялся, кажется не зная, что делать. Айша посмотрела на них с непонимающей улыбкой, потом сказала:
– Если вам удобнее, умывальник вот, – показала на перекладину рукомойника, – я просто… как дорогому гостю…
Отец содрал рубаху, склонился и сказал утробно откуда-то снизу:
– Давай, землячка, поливай!
Он так и держал ее за татарку.
Сергей уже стоял рядом с полотенцем на раскинутых руках – как хлеб-соль предлагал.
Хозяева отвели им одну из трех (трех, помимо кухни!) своих комнат, отец улегся на пышную, с периной, кровать и тут же захрапел, а Горка довольно долго сидел у окна, смотрел в сад и думал. О саде, доме, дощатом, но огромном по Горкиным меркам, и о том, как так получилось, что отцов друг с женой живут здесь, а они – в конюшне. Ни до чего не додумался, кроме как до того, что повезло. Им просто повезло.
Это слово, кстати, оказалось едва ли не главным за ужином, который Айша накрыла на веранде. На столе стояло… Горка даже не мог назвать, сколько всего и чего. Три кувшина (стеклянных, попроще) с разного цвета напитками, неизвестная белая рыба, тонкими ломтями распластанная на широких плоских тарелках, холодное вяленое мясо, три стопки горячих лепешек, исходивший ароматом баранины плов в казанке, пристроенном сбоку, а посреди стола – блюдо, доверху наполненное такой крупной и сочной вишней, какую Горка никогда не видал.
Отец посмотрел на все это, крякнул и сказал:
– Повезло тебе, Серега, – такая хозяйка!
– Повезло, – эхом откликнулся Сергей, усаживаясь за стол, – но тогда я думал, что тебе больше.
Оба засмеялись, Айша разлила по бокалам сок, наполнила рюмки мужчин и присела с краешку сама, рядом с Горкой.
Отец взял рюмку, собравшись сказать тост, понюхал ее и заколебался, вопросительно глядя на друга.
– Она, она самая, – засмеялся Сергей, – чача, виноградная. Пей, не бойся: хмель будет, а похмелья – нет.
Отец кивнул, сказал слова за здоровье и благополучие «этого дома», за чудесную хозяйку, они выпили (Айша и Горка отхлебнули из бокалов) и принялись за еду. Потом Сергей поднял тост за отца, который, оказывается, тогда, в 1944-м, спас ему жизнь (отец протестующе замотал головой) и вот так свел с красавицей и умницей Айшой, они выпили, и дальше разговор потек сам собой.
Тут Горка в очередной раз услышал историю про осколок, который срезал чирей на шее у отца («повезло!»), о том, как другим осколком самому Сергею «распустило живот», а отец перехватил ездового и Сергея успели довезти живым до госпиталя в ближнем тылу («повезло!»), а потом, заштопанного, отправили в другой госпиталь, и как он там валялся месяц, а за ним ухаживала «соплюшка-медсестричка» (тут Айша сверкнула на мужа глазами), и как они пришлись друг к другу, а после войны (у Сергея ни дома, ни семьи не осталось) списались, и Айша утянула его вот сюда, в Дагестан («повезло!»).
И вот так они разговаривали, не забывая выпивать, то горячась и воодушевляясь, то сбавляя тон чуть не до шепота, и по всему выходило, что оба такие счастливчики, что удачливее и не отыскать.
Горка и Айша смотрели на них и думали. Горка – о том, зачем отец, захмелев, выпятил, что он дослужился «до какого-никакого, а начальника», но не сказал, что они живут в конюшне на территории тюрьмы, а Айша… Трудно было сказать, о чем думала она, поглядывая на мужа и иногда вставляя слово-другое, если он к ней обращался, но когда отец заговорил о детях, о своих дочерях, особо почему-то упирая на старшую, Нину (постепенно до Горки дошло, что он как-то собирался выдать ее за Сергея, и они разговаривали об этом там, на фронте; Горка не поверил своим ушам), а потом дело коснулось его, отец все говорил, расхваливая, и внезапно Айша притиснула Горку к себе так, что он пискнул, и повисла пауза. Долгая такая пауза на этой скудно освещенной веранде под сверкающим звездами ночным небом, такая тоскливая…
– Повезло тебе, Проша, – хриплым голосом сказал Сергей, глядя мимо отца, – а у нас вот… Не дал Бог деток.
Айша отстранилась от Горки, порывисто встала и ушла в комнаты.
Отец, почувствовав, что заговорился, тоже вскочил на ноги, засуетился, потом метнулся в отведенную им комнату и через пару минут вернулся с длинным тряпичным свертком (Айша тоже вернулась к столу, вытирая платком глаза), развернул, и все увидели, что там был кинжал.
Сергей и Айша переглянулись в изумлении.
– Прохор, – сказал Сергей, подбирая слова, – это очень дорогой подарок, я даже не знаю… но везти в Дагестан кинжал…
Напряжение спало, и отец хмыкнул:
– Как в Тулу самовар, да? – (Сергей виновато улыбнулся.) – Я тоже так подумал, а потом решил: а вот пусть! Пусть друг знает, что и у нас такие умельцы есть!
Сергей меж тем извлек клинок из ножен и рассматривал.
– Односторонка, – сказал, – не кинжал, но добротная вещь, да. Спасибо!
– А ты угадай, – воодушевился отец, – из чего сделано! Ни за что не угадаешь! Из напильника! – И рассмеялся как ребенок. Пьяноват все-таки был.
– Из напильника? – недоверчиво переспросил Сергей. – Это как же, кто же?
– Зэки делают, представь! Да еще вот с такими ручками из плексигласа, все цвета радуги, вон какой набор!
Отец осекся и снова метнулся в комнату, а вернулся с совсем уж небольшим кулечком.
– Айша, прости дурака, чуть не забыл, тебе супруга просила передать, – сообщил отец и встряхнул кулек. Он мягко развернулся, и оказалось, что это был платок, пуховый.
– Оренбургский, – гордо пояснил отец, – через обручальное кольцо запросто протягивается, такой тонкий!
Айша ахнула и осторожно приняла подарок, а отец, обернувшись к Горке, заговорщицки подмигнул. И то сказать: хоть убей, Горка не помнил, чтобы мать что-то просила подарить неведомой ей жене отцова друга. И вообще, трудно было представить, чтобы она попросила.
На ночь им постелили там же, на веранде, – отец попросил, сославшись на то, что дома будет жарко («июнь у вас – как в Сахаре»; будто он был в Сахаре). Горке не казалось, что в их комнате жарко, особенно после того, как Айша устроила легкий сквознячок, пооткрывав окна, но предложение отца он горячо одобрил, представив, как будет, засыпая, считать в небе просто огромные здесь звезды. Сергей с отцом вынесли из дома топчан для отца и раскладушку для Горки, но прежде, чем их заправить, Сергей притащил откуда-то две скатки бурой, на вид похожей на ковер, ткани и развернул по полу веранды. Вот, сказал, с кошмой надежнее будет, ни одна змея не заползет.
– Змея?! – с восторгом воскликнул Горка. – Дядя Сергей, у вас тут ползают ядовитые змеи?!
– Ну, не все ядовитые, – усмехнулся Сергей, – но хватает, это точно. Ползают, гады.
– А вы знаете, – продолжал ликовать Горка, – что если мелом круг сделать, то змея тоже не заползет?
– Мелом? – удивился Сергей. – Не слышал. На кошму они точно не заползают: колет она их. А тебе кто про мел сказал?
– Да как же, вот следопыт у Фенимора Купера…
– Ну ладно, ладно, – остановил Горку отец, – какой там Купер. Начитаешься и фантазируешь потом.
Горка обиженно притих и полез на раскладушку.
Проснулись они ни свет ни заря от заполошного клекота. Горка уселся в постели и воочию убедился, что змеи тут ползают вовсю: в саду с одной из них как раз воевал взъерошенный хозяйский петух. Битва шла нешуточная: петух и наскакивал, и отскакивал, и подпрыгивал, целясь поразить противника когтем или клювом и не переставая возмущенно клекотать. Змея изворачивалась, то сжималась в клубок, то выстреливала в петуха всем телом, норовя куда-нибудь укусить; поодаль, переживая за своего героя, встревоженно кудахтали с пяток кур… Минут через пять появился Сергей с мотыгой в руках, отпихнув петуха, изловчился и тяпнул по змее. Петух тут же кинулся клевать отлетевшую в сторону заднюю половину змеи, Сергей подобрал и кинул в кусты переднюю.
– Дядя Сережа, – спросил Горка, впечатленный этой эпической битвой, – а если бы змея укусила петуха, он бы умер?
– Мог бы, – со смехом ответил Сергей, – да только знаешь, какой он у нас боевой, – что твой мангуст! И перья не зря топорщит, – поди достань до живого.
Ни у Купера, ни у Майн Рида Горка ни о чем таком не читал; бой петуха со змеей стал его личным опытом.
Утро было субботним, и Сергей позвал отца после завтрака сходить на базар, «посмотреть на нашу экзотику», Горку тоже взяли.
Базар оказался большим и при этом тесным: ряды прилавков, заваленных зеленью, рыбой и мясом, стояли так кучно, что надо было протискиваться меж толкущимися тут людьми, гортанно перекрикивавшимися с торговцами. Это было странно и даже немного пугающе («что они все орут?» – шепотом спросил Горка отца, Сергей услышал и, усмехнувшись, пояснил, что это не орут, а просто разговор у местных такой). Они походили, подивились тому, сколько тут всего, – одной рыбы, целиком и толстыми огромными кусками, было видов пять, наверное, а потом выбрались на небольшую площадь, с коновязями и шатрами по периметру.
В шатрах и на низких скамейках возле сидели бритые седобородые старики, пили чай из маленьких чашек («это пиалы называется», – пояснил Сергей), курили, почти не разговаривая, тут и там прохаживались, выпятив грудь, молодые кавказцы в черкесках и мягких сапожках, гордо посматривая по сторонам, подходили друг к другу, приобнимались, заводя руку друг другу на поясницу – точно так, как Сергей приобнял Горку, обменивались парой фраз и снова расходились. Там были и другие люди, в обычной одежде и обычного вида, вот как Горка с отцом, но они были как бы затушеваны, Горка видел только вот этих – ярких и загадочных. Все выглядело так картинно, что напоминало театр, точнее даже – оперетту; Горка смотрел, завороженный.
Картина резко изменилась, когда на площади появились люди в белых кителях и форменных фуражках, две пары милиционеров. Они прямиком направились к молодым кавказцам, и, козыряя, принялись выдергивать из ножен кинжалы, висевшие на поясах у парней, – у одного, у второго, у третьего… Горцы хмурились, мрачнели, но безропотно позволяли проверять оружие, и вдруг Горка увидел, что оружия-то и не было – у всех были кинжалы с обрубленными клинками! Ну, то есть рукоятка и малый кусок клинка, только чтобы в ножнах держался. Горка в изумлении перевел взгляд на отца, но тот был поражен увиденным не меньше и даже не посмотрел на сына. Сергей стоял рядом, мрачный не меньше горцев, и покусывал ус.
Милиционеры исчезли так же внезапно, как появились, но настроение на базарной площади резко изменилось, все как бы померкло, будто грозовая туча нашла. Сергей с отцом и Горкой, уже закупившиеся овощами и мясом, передумали посидеть в чайхане и ушли домой.
Дома, за поздним обедом на той же веранде, Сергей обрисовал обстановку, как он это назвал.
– Вот так у нас сейчас, Проша, – говорил все еще мрачный Сергей, – строго стало: стариков не трогают, у тех кинжалы нормальные, а если у молодняка найдут – пиши пропало, посадят. Хотя, – тут он зло усмехнулся, – откупаются, конечно, кто побогаче, а кто и в горы бежит, в ущелья, хрен там какая советская власть.
Отец прокашлялся.
– Так, а если у тебя найдут, вот который я подарил, то что?
– Ну, я же с ним по улицам не собираюсь ходить напоказ, – усмехнулся Сергей, – но если решат докопаться, еще и хуже будет: такие, как я, тут хоть и свои, да не свои, заступиться некому.
Все замолчали, Айша мечтательно смотрела куда-то в сад. Сергей глянул на нее, на ее блуждающую улыбку, и поправился:
– Да нет, ты не думай, командир, все в порядке. Я года три назад крыльцо перекладывал, и знаешь, что нашел? Вот эти самые кинжалы, целых два! Старинные! Хочешь, покажу?
Отец покосился на него с сомнением, кивнул, и они пошли во двор, в сарай, или хозпостройку, как выразился Сергей. Там, в дощатой пазухе за верстаком, торчали всякие стамески, долота, гаечные ключи и среди них – кинжалы, инкрустированные серебром. «Старинные, в сарае!» – с ужасом подумал Горка, а в следующее мгновение чуть не заплакал от отчаяния: Сергей выдернул кинжалы, и Горка увидел, что у обоих одна сторона клинка была иззубрена – от гарды до кончика.
Сергей повертел кинжалами, будто фехтовать или танцевать с ними собрался, и подытожил:
– Классные ножовки получились, скажи?!
Отец не нашелся что ответить, только смотрел задумчиво – на ножовки, в которые превратились кинжалы, на Сергея, на нити вечернего солнца, просачивавшиеся сквозь щели… И Горка смотрел, с непреходящим отчаянием думая, что бы он сделал, если бы у него были такие кинжалы, как бы он с ними… как бы пацаны посмотрели и девчонки, как бы… Отец тронул его за плечо, и они вернулись в дом.
Ужинали уже не так, как вчера, скромнее, хотя все было так же вкусно и сытно. Поев, Горка отсел в уголок веранды с книжкой (он как раз перешел от Гека к похитителям бриллиантов), Айша ушла во двор мыть посуду и, кажется, что-то стряпать, а Сергей с отцом попивали чачу и тихо разговаривали. Кое-что доносилось до Горки, и постепенно он стал вслушиваться, отложив чтение.
«Так-то все мирно, – доносился до него голос Сергея, – а нет-нет да и сцепятся, и на ножах, а когда и со стрельбой, – это тебе не Россия, брат».
Отец что-то возразил, переспросил (Горка не разобрал), и опять голос Сергея: «Да так же все, их разве исправишь? Детей воруют, в Грузию продают; сегодня ты кунак, а завтра хрясь – и нет кунака».
Тут терпение Горки кончилось, он подошел к столу и в упор спросил Сергея:
– Извините, дядя Сережа, – детей воруют, да? Кто? Кунаки?
Отец, кажется, собрался отослать сына, но Сергей остановил, засмеявшись:
– Ничего, Проша, ничего, знание – сила, да? Но, – обращаясь к Горке, – много будешь знать, скоро состаришься, да? Кунаки – это на их языке, хоть на каком, тут много их, – это вот как мы с твоим батей: не родня, а родней родни. Братство народов, короче.
– Но, – замялся Горка, – вы же сказали – сегодня кунак, а потом хрясь…
Сергей смутился, стал подыскивать ответ, на помощь пришел отец, начавший раздражаться:
– Егор, ты же большой уже, сам не знаешь, что ли, как? Вот народ, а вот враги народа бывают, прямо в нем самом. Так и тут: кунак – не кунак…
– Да не, – нашелся наконец Сергей, – Егорка, тут немножко другое. В России кто живет? русские. Ну, татары там у вас, чуток, чуваши, еще кто, а так-то – русские! А тут, на таком пятачке, кого только нет, сто разных национальностей, клянусь! – (Горка недоверчиво смотрел на него.) – И все горячие, и всем надо где-то жить, понимаешь? И на что-то…
Про пятачок Горка понял, кивнул согласно, но внезапно начал понимать и про кое-что другое:
– И они вот поэтому одной рукой обнимаются – как вы меня на вокзале обняли?
– Егор, – грохнул кулаком по столу отец, – что ты мелешь!
– Не-не, – опять остановил его Сергей, – парень вникнуть хочет, дай я хоть ему объясню, – он поперхнулся, – хоть ему. Я тебя так обнял, – пояснил, – что ты маленький, – и смутившись, – и по привычке, да, свыше нам дана. – (Отец удивленно глянул на друга.) – А местные… мне Айша объясняла… с древних времен осталось: ты его обнимаешь вот так, – он показал, – а рукой-то и смотришь, нет ли там, на спине, за поясом, кинжала, например, или пистолета.
Горка подумал, представил и опять согласно кивнул; он понял. Понял и отец, сказав со вздохом:
– Всё едино, сынок, все оттуда: у нас говорят – камень за пазухой, у них, видишь… – И внезапно оживился. – а вот чокаются, выпивая, зачем, знаешь?
Горка силился вспомнить. отец не дал, сам договорил:
– А затем, чтобы в рюмки перелилось немного, чтобы знать, что не отраву поднесли друг другу. – И, завершая, почти с торжеством в голосе: – вот мы с Серегой и чокнемся сейчас, а ты иди, в саду, что ли, погуляй на сон грядущий.
Горка послушно пошел, ему было надо все услышанное обдумать. Вообще, получалась какая-то глупость, а в то же время и нет, был смысл в сказанном взрослыми. Только какой – Горка пока не решил.
Он побродил немного по саду и натолкнулся на стоявшее отдельно деревце не деревце, куст не куст и увидел, что оно (деревце все-таки) было сплошь усыпано тугими, черными в лунном свете ягодами – вишней, которой их угощала Айша. Он дотянулся до нижней ветки, сорвал одну ягоду, другую… Вкус был потрясающий, но ягод маловато, они висели на ветвях повыше. Горка повертел головой, ища сам не зная что, и углядел в траве небольшую лестницу – то, что и было надо. Он пристроил ее к стволу, взобрался и только начал поедать медово-терпкие плоды, как лестница хрустнула и Егорка полетел на землю.
На шум откуда-то из-за дома выскочила Айша, увидела Горку, все поняла и запричитала:
– Горка, Горка, – ты ел? Бегом на кухню!
Он, вообще-то, думал, что она его пожалеет, хряпнулся-то основательно, а она в крик! Но Айша испугалась другого: оказывается, Сергей утром опрыскал деревце купоросом, и теперь Горке грозил как минимум понос. Его заставили выпить чуть не литр теплой воды, понаблюдали, но никаких признаков отравления не было, Горку даже не тошнило, и все успокоились. Попутно Горка узнал, что ягода-то была не вишня, а черешня.
А следующий день оказался последним в гостях у Сергея, и Горка расстроился: только начал осваиваться здесь – и опять в дорогу. С утра мужчины (и Горка в их числе) сходили на речку, вроде как порыбачить, но, просидев битых два часа с удочками, так ничего и не поймали; речка – узкая, совсем как Бугульминка, только быстрее, журчала себе среди каменьев на удивление прозрачной водой, поблескивала на солнце, но никакой рыбы не было видно, одни стрекозы летали. Да взрослые, заподозрил Горка, ни на какой улов и не рассчитывали: не успели усесться на берегу, как откуда-то из кустарника появились два хмурых кавказца, примерно сергеевых лет, поздоровались, и у них завязался какой-то непонятный разговор – про овчину, транспорт, про то, кто сколько дает… скучно было, короче говоря, и Горка даже обрадовался, когда разговоры эти закончились и они пошли домой.
Обед тем не менее случился рыбный, – точнее, главным блюдом оказалась рыба (после того, как все похлебали холодного свекольника), которую Айша подала в глиняных продолговатых мисках еще скворчащей сквозь сметанный припуск. Горка осторожно поковырял тушку вилкой, посмотрел на отца – карп? Мать часто тушила карпа в сметане, и у Горки были проблемы с рыбьими костями, то и дело занозами заседали в глотке. «Да нет», – с сомнением ответил отец, а Айша пояснила: «кумжа, наша, каспийская, совсем не костлявая, угощайтесь!» Название им ничего не сказало, но рыба была такая нежная, такая вкусная, что Горка и думать забыл о костях и не сумел отказаться, когда Айша предложила съесть еще одну. Ну, они не такие уж и большие были, эти рыбы, примерно с отцову ладонь, так что Горка за милую душу умял и добавку.
После обеда стали собираться, в пять надо было уже быть на вокзале, и тут Сергей с Айшей их огорошили, да так, что отец с Горкой потеряли дар речи.
Сначала досталось отцу. Улучив момент, когда тот перестал возиться с чемоданом и пристроился за столом покурить, Сергей нырнул в дом и вышел на веранду, неся на руках – точь-в-точь как когда полотенце подавал к отцову умыванию – что-то блестяще-черное, вроде плаща.
– Вот, Прохор Семенович, – торжественно начал Сергей, – у нас на Кавказе лучшему другу, – он сбился, крутнул головой, – в общем, прими бурку от души! Свидимся не свидимся, а у меня от тебя вечная память будет, а у тебя пусть от меня.
– Сережа, – протянула Айша с укоризной, но и со смехом, – ну что ты говоришь!
– Да я не в том смысле, – спохватился Сергей, – мы еще повоюем, повоюем, вот – просто!
Отец тем временем приложил бурку к груди, посмотрел на Горку – как, мол, – и Горка увидел, что его глаза повлажнели. Но он тут же собрался, обнял друга, и они расцеловались.
Потом Сергей обернулся к Горке, оценивающе окинул его взглядом и сказал нарочито строго:
– Завидно стало? Думаешь, все только отцу? Нет, брат, и ты джигитом будешь!
Айша с улыбкой подала мужу еще что-то похожее на плащ, тоже черное, только на белой подкладке и с рукавами, Сергей накинул одеяние на Горкины плечи, и Горка сообразил, что это точно такой наряд, как у молодых горцев на базаре, – черкеска! С газырями! Теперь уже Горка гордо глянул на отца, тот улыбнулся, показав большой палец, а Айша, сняв с Горки черкеску, подала ему белоснежную рубашку.
– Вот это, – сказала, – надо под нее надевать, это от меня.
Горка стоял растерянный, растроганный и не знал, что делать, – не обнимать же Айшу!
Она сама его обняла, притиснула к себе, поцеловала в щеку и шепнула: «Расти, мальчик! Пусть все у тебя будет хорошо!»
Простились скомканно, смущенные друг другом. Сергей проводил их на вокзал, они сели в поезд и уехали в ночь, в Москву.
Поезд, в котором они ехали в столицу Родины, оказался пахучим и неторопливым. У них был купейный вагон, но в вагон-ресторан надо было проходить в том числе и через плацкартные, в которых кучно сидели и вповалку лежали разные мужчины, женщины и дети – и от всех них пахло по́том, луком, волглой одеждой, чем-то еще да так сильно, что в первый раз Горка инстинктивно зажал нос и чуть не побежал по коридору. А в их вагоне почти не пахло, точнее – пахло вкусно: углем от титана в конце вагона, пряным парфюмом от женщины, почти постоянно стоявшей у окна, возле своего купе, кожей портупей и сапог военных, куривших и галдевших в тамбуре, и, соответственно, табачным дымом. Но и мочой попахивало, однако, – из туалета, хотя там был примерно такой же металлический унитаз, как и на их пароходе, исправно все смывавший.
