«Бис»-исход
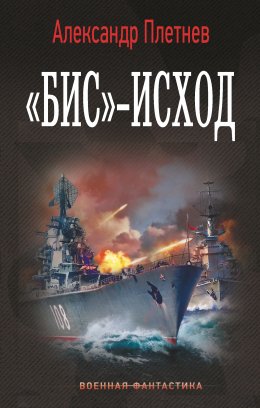
© Александр Плетнев, 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025
Скрытые слагаемые
Война, как спланированная дисциплина, всегда закладывает в себе рассчитанный риск. Однако в приходящих факторах, не учитываемых в базовых установках, либо вовсе выходящих за осмысленные рамки, элементы расчёта бесконтрольно теряются. Порой с катастрофическими последствиями.
А спал плохо, периодически в сушняке водохлёбствуя. Ближе к утру, последние пару часов до подъёма, вообще – то проваливаясь в дрёму, то «подвсплывая», досматривая сиюминутные короткометражки снов… чертовщина.
– Получается, что эскадру послали на убой? – вдруг завёл тему старший офицер особого отдела.
– Что?.. – командир крейсера реагировал рассеянно, отвлекаясь, больше занятый дежурной документацией.
– А-а-а, не то чтобы, но в принципе так и есть. Принимая за аксиому (на веру) сюжетные данные от Анисимова, более детальный и по возможности исторический даже в академическом варианте анализ сложившейся на морских коммуникациях обстановки, включает в себя слишком много переменных, оставляя за противником немало нереализованных возможностей достать и уничтожить советскую эскадру. Бросить вызов флотам союзников в 1944 году на пике их доминирования, шаг, несомненно, рисковый. У адмирала Левченко был мизер по шансам. И он прошёл по этому мизеру, словно по узкой извилистой тропинке.
– Авантюра.
– Авантюра. И если бы не набор положительных случайностей, который на всём протяжении преследовал советские корабли…
Капитан 1-го ранга Скопин, наконец отвлёкшись от вахтенного журнала, взглянул на собеседника уже с насмешливым интересом.
– А вы чего вдруг, тащ полковник, зацепились-то?
– Вбухано столько средств, труда – тысячи тонн железа, тысячи душ в экипажах, чтобы всё свести к какой-то одноразовой рейдерской операции…
– …устроив диверсионный разбой на коммуникациях, – подхватил кэп, окончательно откладывая свои дела. – В первый раз, что ли, Ставке жертвовать дивизией ради целей порядком выше? Корабли введены в строй, полностью боеспособны, не воспользоваться данным ресурсом в той сложившейся военно-политической обстановке прагматичный Сталин, видимо, посчитал неоправданным. Потраченные народные деньги должны принести свой прок, пусть это и будет роковой прок.
Противных же примеров, когда любимые игрушки адмиралов не оправдали своё целевое назначение, предостаточно. Чего стоит бесславное самоутопление Hochseeflotte[1] в 1919 году в бухте у англичан. И с флотом фюрера британцы в итоге тоже разобрались, многие надводные корабли Кригсмарине так и приняли капитуляцию в портах. Тот же «Тирпиц», отыграв свою роль пугала, был забит дó смерти в месте стоянки. О французах и итальянцах я вообще молчу.
Блин. Да знали бы японцы, как бездарно погибнут их «Ямато» и «Мусаси», как будут расстреляны, точно в полигонных условиях, безрадарные старички «Фусо» и «Ямаширо»[2]… Наверное, больше толку было бы бросить весь этот линейный табун в безумную самурайскую атаку на Пёрл-Харбор или вовсе на Сан-Диего, затопив на закуску суперлинкоры в Панамском канале, коль уж всё равно добру пропадать.
Скопин видел, что японские названия собеседнику ни о чём не говорили. Он и не ждал этого, в Советском Союзе тихоокеанская японо-американская тема Второй мировой войны освещалась мало. Пожал плечами:
– Говорят, Сталин слабо разбирался во флотских делах, но экономическое понимание бремени содержания больших кораблей в послевоенных перспективах у него, полагаю, было. Когда о каком-то даже номинальном качестве Fleet in being[3] – типа есть большие кулаки на море на фоне того, что могли выставить британцы, и уж тем более США, помышлять стоило лишь условно. Меня больше удивляет…
Запнулся, у него вдруг выскочила крамольная мысль, что большинство альтернатив в псевдонаучных рассмотрениях или художественных жанрах, по идее обязанных привязываться к строго историческим реалиям, нередко грешат сомнительными допусками в ряде принципиальных моментов.
«Но нам-то что? Что имеем, то и имеем».
– Удивляет, что здесь, в тутошнем Союзе, вообще уложились в сроки и сумели реализовать программу «Большого флота». Пусть и частично. Для этого должны были сформироваться очень существенные предпосылки и условия. Я бы ещё понял, кабы начало «Барбароссы» было отсрочено на год. Но подобное допущение чревато. Чревато ещё худшими сценариями.
– Почему?! Что плохого в том, чтобы оттянуть вторжение на год? СССР успел бы обновить армию.
– Поделюсь с вами, Владимир Николаевич, своей собственной крамолой, хотя, возможно, я и не первый. Тем не менее звучащей в ущерб всем тем диванным историкам, что вопили: «Вот бы СССР ещё годик на подготовку и перевооружение».
– Ага, щас! Война началась очень вовремя, – надавил на это «вовремя» Геннадьич, – у меня даже возникает склонность думать, что всё управляется и срежиссировано некой высшей, расчётливой и справедливой силой. Будь у Гитлера год в запасе, он успел бы получить свою ядерную бомбу. И тогда города «грязных славян» стирались бы с лица земли без каких-либо рефлексий. Так что всё что ни деется…
М-м-да. Воистину развитие исторических реалий тогда держалось на тонких политических смы́чках и естественных ходах сторон.
Спешил Гитлер. Не ждал бы он год.
– Много бомб немцы сделать бы не успели, – ещё попытался оттянуть аргументы особист.
– А что, пяток-десяток крупных городов СССР это бы спасло?
– А сейчас? Ныне?
– Что сейчас?
– Ну, вот придём мы в Союз. Советские исследовательские конструкторские бюро получат перспективы в технологиях. Как и то, что у нас есть на борту. Для задела. Узнав про ваше далеко не радужное будущее, где СССР не устоял, не захочет ли Сталин предвосхитить и, наработав ядерный потенциал, разом покончить с Западом?
– Во-первых, быстро не получится наработать ядерный потенциал. А у янки всё уже на мази, в процессе. Американский континент защищён водоразделом и без баллистических ракет недоступен. Ладно, англичан можно забомбить, измордованная войной Европа, скорее всего, ляжет под Союз, но…
Да чёрт возьми, открыв этот ящик Пандоры, начав глобальную ядерную войну, мы ещё при жизни (если выживем) увидели бы разрушение и гибель того мира, в котором бы желали доминировать. Идеология советская, возможно, ещё бы могла где-то закрепиться и существовать (на костях), но развитая экономика – нет. Классические законы цивилизации, старые хозяйственные связи были бы разрушены. На то, чтобы создать на их руинах новые, потребовались бы годы, возможно, десятилетия.
Разговор в ходовой рубке.
…когда не спится по обязанностям, и командир, взяв на себя часть служебной нагрузки, наравне с остальными старшими офицерами, принял вахту.
…и не спится, потому что у кого-то бунтовал желудок. Корабль качало, потряхивало на волнах, полковнику-особисту бы лечь, приткнуться, да крутит, мутит позывами стошнить. Вот и оставалось, что бродить, едва ль куда присесть, спасаясь крепким чаем и другим чем покрепче, отыскав в бодрствовании и разговорах компромисс с вестибулярным аппаратом.
Крейсер проходил сквозь раскручивающийся шторм. Эскадра проходила.
Ненастье наберёт силу в ночь, достигнув по шкале Бофорта девяти баллов, и не остановится на этом. Чему не приходилось удивляться, подобные погоды для осени северной Атлантики – это сезонная норма.
А в то затянувшееся утро после боя, когда Мур отступил, когда намёки на очертания его кораблей растворятся позади за кормой, советская эскадра начнёт собираться.
С мостика «Кондора» рассмотреть пристроившиеся позади линкор и линейный крейсер особо не представилось – естественная потребность узнать и оценить последствия артиллерийской дуэли. Опять-таки, интерес у Скопина был далеко не академический:
«По-другому разыгранный бой, тем более нашим вмешательством. По идее, и “Советский Союз” и “Кронштадт” должны были получить меньшие повреждения, нежели им причиталось. Любопытно бы сравнить с исходными. С теми условными “печатными данными”. Однако информировать нас явно никто не собирается. А запросить не по субординации».
Тем временем Левченко потребовал доложить о состоянии материальной части и целостности кораблей, озабоченный безопасностью и возможностью далее поддерживать походный режим.
Доложили. Как положено.
С КП флагмана назначили эскадренную скорость, установив курс.
Вытянувшись в кильватерный строй, соединение перестроится в походный порядок, уже апробированный и испытанный ранее. Вновь занявший место головного, «Кондор» положит нос практически на волну. Отзвякает машинный телеграф, рулевой отрепетует: «На румбе – пятьдесят!» Штурманские курсовые линии пролягут по касательной к северу. Исландия отойдёт на край карты, в основных ориентирах прокладок теперь будет значиться Ян-Майен и дальше…
Этим курсом эскадра будет следовать как минимум до заката.
Опережая прогнозы, к концу того же дня ветер быстро набрал силу почти до девяти баллов. Поверхность океана превратилась в уродливую вспененную тускло-зеленоватую массу. С сумерками погода окончательно «пошла ко дну» – серая мгла была настолько густой, что трудно было различить, где кончается вода и где начинается воздух.
На крейсере всё уже давно закреплено по-штормовому, ещё побегали, посновали по верхним палубам, зачехляя последнее, задраивая крайнее – выходные двери, люки, укрываясь в тамбурах, ведущих внутрь корабля. Лишь сигнальщикам мёрзнуть на продуваемых мостиках.
Пошёл отсчёт вахтенных часов «по четыре», под мерный ход туда-сюда дворников, сбрасывающих капли дождя и морских брызг со стёкол ходовой рубки.
Вспоротая форштевнем волна будет пенистым валом катиться по баку, омывая все палубные возвышения, тумбы пусковых установок, обдавая брызгами прожаренные стартовыми двигателями ракет газоотбойники.
Светлое время суток пройдёт незаметно. Свинцовые тучи ещё доедали день, окончательно сгущая непроглядность.
Командир вновь заступит на мостик в «собаку». Скоротав по случаю текущую рутину в разговоре. Умозрительном.
– Вот представить шведско-китайскую войну. Или ещё нелепей – финско-эфиопскую… Финнам ехать к эфиопам, чтоб повоевать? А эфиопам… тем так, хм, ещё дальше, по лености. Этих ребят только буква «фы» и единит, для смеху.
Потому что всегда было кстати конфликтовать не с далёким дядей, а с соседом. Начиная гавкаться по пустякам через забор, накапливая целый ком противоречий и взаимных обид. Особенно когда есть те, кто сидит «за речкой» и подзуживает. Обратили внимание, как вектор антагонизма и ненависти у нас, у русских, сместился от «англичанка гадит» к американцам.
Закономерно. После Второй мировой войны США становятся доминирующей империалистической силой. И довольно агрессивной.
Для нас война… любая: финская, Отечественная, «холодная» и даже афганская, практически неизменно выражается в нехватке ресурсов. Всякий раз требуя каких-то героических преодолений.
А эти сволочи всегда имели выгодную позицию. Если Гитлер не отважился даже на план «Лев»[4] – переплыть всего лишь Ла-Манш, то Рузвельт вообще не нервничал, имея между Европой и берегами Америки целый океан. Как и для тех же японцев пересечение всего Тихого океана являлось непреодолимым в плане устойчивости военной операции расстоянием.
Сидят себе там на отдельном обособленном континенте, всегда в стороне, и уже никогда небезучастно, сверх того – провоцируя на очередную возню в европейской песочнице. А союзнички-британцы услужливо подставили плечо своим непотопляемым авианосцем.
Между прочим, именно Соединённые Штаты целенаправленной политикой в итоге и запихнут англичан туда, собственно говоря, откуда они и вышли вообще…
– Э-э-э… в п***…?
– Я имею в виду их альма-матер – острова метрополии. Добив колониальную империю Британии, вытеснив своим капиталом с рынков. М-м-м, окончательно где-то к шестидесятым, но это уже история…
Здесь пока всё к тому только идёт. Не знаю, подозревает ли об этом Черчилль. Да конечно, всё он прекрасно понимает[5]! Даю сто против одного, что весь этот новый крестовый поход против большевиков, что мы наблюдаем сейчас, раскрутился именно с подачи непримиримого сэра Уинстона. Теряя империю и значимость, он готов пойти на любые чрезвычайности.
А вот Рузвельт…
Из того что мне попадалось про планы Рузвельта на послевоенное выстраивание взаимоотношений с Советским Союзом, странно вообще, что он согласился на столь радикальный шаг.
С дальних берегов
Когда твоя самодостаточность возводится в абсолют, тебе не обязательно смотреть, как ведут себя другие. Пусть они смотрят, как ведёшь себя ты.
Активная игра в стане союзников против Советского Союза началась к началу лета 1943 года. Собственно, она никогда не прекращалась, основные акценты были расставлены, и их никто не умалял, даже в коалиционном взаимодействии. Самым уместным здесь был тезис, озвученный в ходе одного из раутов представителей стран, говорящих на английском языке: «Большевистская Россия и объединённые нации западного мира, противостоящие державам «оси» во главе с нацистской Германией, всего лишь вынужденные союзники в тяжёлые времена».
Тогда, к лету 1943 года, успехи Красной армии на фронтах начали вызывать крайнее беспокойство. Планирующие инстанции, в большей степени английские, однако и американские тоже, склонялись к мысли о возможности быстрого продвижения русских на Балканы и Дунай. Следовало задуматься о том, чтобы как-то обезопасить Восточную Европу от угрозы попадания под советский контроль.
Эпатажный Черчилль колко заметит, что: «Свою роль укоротить Гитлера русский медведь практически выполнил, теперь ему надо снова вернуться в свою берлогу».
С этим можно было согласиться, однако Рузвельт в открытую подобные эпитеты с недавних пор себе не позволял. Россию для него олицетворял Сталин, к которому американский президент относился как к очень серьёзному политическому противнику.
Противостоять продвижению Советов можно было только встречной силой. Британское командование по настоянию премьера разработало план освобождения Восточной Европы от гитлеровских войск собственными усилиями. Предусматривая высадку англо-американского контингента в Италии с последующим овладением Балканского полуострова, выходя на Дунай – в Румынию и Венгрию.
Ничего путного из этого не получилось[6]. Кампания затянулась, союзные войска крепко застряли во Франции и Италии. В то время как русские достаточно успешно продвигались на запад, к весне 1944 года нанеся серьёзное поражение гитлеровским войскам, сосредоточенным на юге Украины, а затем уже к лету разгромив объединённые немецко-румынские соединения.
А если принять во внимание охват частями Красной армии северных флангов с выходом на норвежскую границу, а также неослабевающее давление на центральных участках советско-германского фронта – очень напористо, очень целенаправленно[7], даже сравнительно устойчивый в своих воззрениях Рузвельт на тот момент вдруг испытал неуютные сомнения.
А будет ли Москва выполнять предварительные договорённости по демаркации зон влияния в Европе?
Логика тут была проста своим прагматизмом – зачем тратить силы, громя противника на тех территориях, которые в дальнейшем не собираешься удержать за собой.
– Нелегко будет убедить генералиссимуса Сталина уйти оттуда, куда уже ступил сапог русского солдата, – по обыкновению поделится с супругой своим беспокойством президент.
Чтобы услышать в ответ в целом здравую мысль:
– А ты не думал, что цель здесь ещё и продемонстрировать европейцам, кто пришёл на их землю освободителем?
– Думал. К сожалению, нашим воинственно настроенным генералам подобные мотивы не кажутся обоснованно оправданными.
Даже в прямом окружении президента хватало тех, кто не одобрял его мягкой политики в отношении Страны Советов. В среде военных бытовали ещё более радикальные мнения – спасти западную цивилизацию от коммунизации. Им вторило немало влиятельных лиц из элит и промышленных кругов. Особенно это проявилось в период предвыборной гонки – очередное избрание президента США намечалось на 7 ноября 1944 года. Кампания конкурентов за место главы в Белом доме строилась в том числе на обвинении, что Рузвельт слишком увлёкся дружбой с русским вождём. Здесь приводились не только стенограммы их встреч на официальном уровне. В прессу просочились факты о частной переписке двух лидеров.
– Одна из неизбежных граней демократии, – подметит верная и единодушная Элеонора[8]. – Невзирая на общее дело борьбы с нацистами и в целом на доброжелательное отношение простых американцев к русским союзникам, для истеблишмента и прочих богатеев большевики и их богопротивный строй остаётся тем, чем и был ранее.
– А растолковать простому избирателю о коварстве Дядюшки Джо – обязанность газетчиков и правильная риторика исполнительной власти, – сдержанно примет эту данность Рузвельт.
Выборы были им выиграны.
Победа, которая не принесла ни какой-то особой радости, ни успокоения. И воспринималась как лишь ещё один, энный дополнительный срок, очевидно короткий, однако дающий возможности подвести задуманные стратегии к реализации.
«Начатое одним, им же и должно закончиться. Вот только есть ли у всего этого конец?» – старый больной человек поправит тёплый верблюжий плед – ноябрь в Вашингтоне выдался на погоду так себе, откуда-то сквозило – обездвиженные, покоящиеся на подставке инвалидного кресла-коляски ноги мёрзли[9].
Докучливая критика оппозиции, как и постоянное давление со стороны правительственной бюрократии и чинов военной администрации, в итоге волей-неволей повлияет на политические решения президентского кабинета.
На очередном заседании комитета начальников штабов, куда был приглашён и номинальный верховный главнокомандующий Ф. Рузвельт, показанные на картах Европы жирные стрéлки ударов и продвижений советских армий очень доходчиво моделировали дальнейшую эскалацию событий, трактуя намеренья Москвы однозначно и явно.
Докладчики в погонах поднимали вопрос о «необходимости озаботиться дополнительными ресурсами», «перенаправить усилия», говорили о «срочных мерах и контрдействиях», о «недопустимости»…
В последнем пункте демократичный Рузвельт углядел скрытые упрёки в свой адрес:
«Старая песня. Господь с вами, люди, какая симпатия к Советам? Я реалист. Мне не меньше вашего претит коммунистическая идеология. Я просто пытаюсь оставить лазейки для диалога. Это, кроме прочего, перестраховка на случай, если Красная армия окажется Эйзенхауэру и Паттону[10] не по зубам. Потому как я всё ещё полагаю, что даже при самых плохих сценариях договориться со Сталиным вполне реально. В конце концов, всегда можно сослаться на злокозненные происки Уинстона. Усатый тиран мне поверит – до сих пор же удавалось играть на этих картах».
Президент Соединённых Штатов Франклин Делано Рузвельт на тот момент и не подозревал, насколько был прав в отношении британского премьера.
– И что дальше? Дальше что, я спрашиваю?! Воздушные силы со своей задачей не справились, а мы столько на это возлагали. Сухопутные армии терпят поражение, и как я понимаю обстановку, скоро нам придётся добавить к этому эпитет «сокрушительное».
А теперь вы приходите ко мне и заявляете, что все наши… ваши агентурные сведенья о намереньях Дядюшки Джо относительно Европы являются следствием ошибочных данных и неверной оценки британских спецслужб?
Лицо Джорджа Маршалла вытянулось – такого Рузвельта (всегда выдержанного и вежливого) начальнику штаба армии США видеть ещё не доводилось.
– Насчёт «сокрушительного» рано делать выводы.
Президент отвернулся в сторону, очень сожалея, что, будучи прикованным к креслу, не может выразить свой гнев красноречивыми жестами. А в словах он всегда предпочитал эмоциональную осторожность.
Оплошала, конечно, своя американская разведка. Которая, однако, с начала войны работала исключительно в тесном сотрудничестве с британскими специалистами.
«Когда двое ведут одно общее дело, сложно не попасть под влияние корпоративной солидарности. Англичане неплохо сыграли на этом, предоставив убедительные по форме доказательства против Москвы. Данные, поверить в которые было легче, чем перепроверить. И здесь сработал тот случай, когда задаваемые вопросы лишь катализировали процессы, подстраивая ответы под ожидаемые. Немудрено. Информация поступала от различных источников, включая дипломатические каналы. Что говорит лишь о том, что провокация была спланирована на разных уровнях. Очень тонко и детально. Альбион всегда этим славился.
Итак, Черчилль это сделал. Едва ли Маршалла можно как военного обвинять в просчёте больше, чем меня как политика. Я должен был предвидеть, что Уинстон так далеко может зайти. Чёртов жирный боров!
Рузвельт знал, точнее, до него доходили слухи о бытующих настроениях в правящих кругах Великобритании – не только лейбористских. Даже среди некоторых консерваторов, партию которых возглавлял нынешний премьер-министр, бродили разговоры, что время Черчилля у власти подходит к концу, что на этапе перехода на мирные рельсы «человек войны» станет неуместен. «Мавр сделал своё дело» и должен сойти с политической сцены.
«Хитрый лис сумел переиграть своих оппонентов. И готов платить. Платить дорого. Новым витком бойни. Сумел как-то перетянуть на свою сторону спецслужбы и другие ведомства, состряпавшие провокационные сведенья, что Сталин двинет свои войска чуть ли не до Ла-Манша, напугав всех вторым Дюнкерком и советизацией Европы.
И всё ради эгоистичных интересов усидеть в своём кресле? Конечно, не только. Честолюбие и амбиции сэра Уинстона, надо отдать должное, неразрывно связаны с его чёртовой империей».
Генерал, сидевший напротив, пошевелился, намереваясь что-то сказать. Рузвельт поднял ладонь, останавливая этот порыв, продолжив ход своих мыслей. Приходилось много чего держать в голове, отвлекаясь на внешнеполитические вопросы, включая и текущие внутренние (административные) делá. Новая информация обязывала взглянуть на ситуацию по-другому. При этом принимая факт того, что вернуться к прежним позициям уже не получится. Сейчас его занимали именно военные сводки.
«Именно они будут определять послевоенный политический консенсус. Уже очевидно, что на европейском театре ситуацию нужно срочно стагнировать, к чему бы там ни призывали ретивые служаки, не понимающие, что это всё. Всё! Вновь наступает время дипломатии. И Маршалл меня в этом полностью поддержит».
– Ещё вчера я мог рассчитывать склонить Сталина на слово «да», – заговорил президент, – теперь же это «да» придётся выторговывать с бóльшими уступками. Да, Джордж, по Европе теперь придётся договариваться в худшей территориальной конфигурации. Хорошо, если Сталина удастся уговорить сдать немного назад.
Теперь к Дальнему Востоку. Относительно Тихоокеанского театра. И Кинг, и Нимиц[11] там у себя на другой стороне мира, – Рузвельт улыбнётся одним уголком губ, – очень оптимистичны в прогнозах дальнейшего развития ситуации. В нашу пользу, разумеется.
Агентурные донесения о том, что японские дипломаты якобы зондируют почву для переговоров с Москвой так и не подтвердились?
– Нет.
– Или пока нет. Кстати, как в штабе Нимица отнеслись к возможности спровоцировать русских и японцев на преждевременный конфликт?
Маршалл отвёл глаза. Ему донесли, что Нимиц, узнав о европейских планах союзного командования против СССР, всю эту затею вообще прокомментировал коротким: «Ослы. Вляпают нас в дерьмо по уши».
Идея с провокациями… тут не без сарказма отметился командующий подводным флотом США на Тихом океане адмирал Локвуд: «Вы предлагаете моим ребятам атаковать судно япошек в Токийском заливе, а потом всплыть и помахать красным флагом?»
– Насчёт вступления СССР в войну на стороне Японии, – осторожно промолвил генерал, – я рассматривал такой вариант. В свете последних событий. И признаться, не находил каких-то серьёзных оснований к этому. У русских там не так много сил и совсем нет флота. Версия британского адмиралтейства, что советская рейдерская эскадра отправится на Дальний Восток, не подтвердилась. А кабы и так, в штабе адмирала Кинга, наверное, были бы рады поквитаться за потопленный «Беннингтон». Но у Нимица сейчас и без того хлопот по горло.
– Кинг наверняка придёт в бешенство, узнав, кто стои́т за всей этой конфронтацией с СССР, – Рузвельт криво усмехнулся, зная, как главком ВМФ США недолюбливает англичан, и Черчилля в особенности. И сразу сменил тон: – На данный момент никаких действий против советских кораблей, портов и военных баз на Дальнем Востоке не предпринимать…
Джордж Маршал – главный военный советник президента – подался вперёд, понимая, что это приказ, определяющий дальнейшую политику и стратегию.
– Не встýпится Сталин за Императорскую Японию, – уверенно продавил глава Белого дома, добавив мысленно про себя: «по крайней мере, я в это верю». – Можно помогать слабому в противовес агрессору, как мы это делали в Китае, но вставать на сторону проигравшего… Скорей уж Дядюшка Джо воспользуется случаем и оттяпает себе кус от японского пирога. Вернёт Сахалин, какие-то там клочки суши на севере и…
Президент помедлил, вспоминая название одного из островов японского архипелага:
– И, возможно, позарится на Хоккайдо.
– Значит, выполнение Советской Россией данных ранее союзнических обещаний предрешено? – Маршалл невольно восхитился казуистикой дела.
– Пока ситуация по понятным причинам подвисла. Но думаю, до поры. Не станет Сталин терпеть под боком этих оголтелых самураев – миллионную Квантунскую группировку. Тем более что обязан помочь своим китайским товарищам-коммунистам.
Нимиц говорит, японцы не сдаются в плен, фанатично бьются до последнего. Сколько времени прогнозировали наши стратеги на подобную кампанию? Где-то до полугода? Шесть месяцев, чтобы убить миллион безумных узкоглазых солдат. Если русские там увязнут, нас бы это очень устроило. Не так ли?
– Смотря сколько они снимут армий с европейского фронта.
– Вот именно! Европейский фронт надо закрывать.
Генерал чуть склонил голову, давая понять – принято. Ему очень хотелось напомнить президенту, что вот так – волей слова и росчерком пера, там, на полях Европы, всего не отменишь – инерция войны ещё будет колыхать линию соприкосновения туда-сюда.
– Европейский фронт надо закрывать, – повторил Рузвельт, – но сохранив баланс оккупационных контингентов, разумеется. Однако всё это, конечно, реально, если удастся вновь вернуть ситуацию в Европе на диалоговый уровень. Будем полагаться на здравый смысл наших оппонентов.
«Минус в том, что усатый азиат наберёт себе слишком много козырей. Чем мы можем ему ещё ответить? Чтобы удивить и напугать. Так-так, мне срочно нужна свежая информация по Манхэттенскому проекту».
Рузвельт склонился к столу, сделал пометку в блокноте: «Вызвать руководителя, нет, лучше физика. Оппенгеймера. Оценка учёного, как скоро ждать результат, будет более точной».
Вновь вскинулся к собеседнику:
– Да, и… Джордж. Эскадру русских оставим англичанам. В конце концов, это их дело, задет их авторитет. У нас же Британия зовётся «Владычицей морей», не так ли? Вот пусть и исполнит свою роль. Может быть, в последний раз… «в добрых традициях Короны».
Последнюю фразу президент произнёс с растяжкой, не скрывая ехидной иронии.
В традициях Короны
Посланный зашифрованной радиограммой обстоятельный доклад адмирала Мýра в определённой степени всё же лимитировался конкретикой – сухими фактическими выжимками и попросту эфирными издержками, а потому Лондон явно не удовлетворил. Адмиралтейство запросило более подробные данные с описанием хода сражения.
В пунктах спецификаций также стоял вопрос, какой процент своей огневой мощи (на предположение) сохранили линейные корабли противника. Какое количество боезапаса истрачено британскими линкорами, и в частности «Кинг Джорджем»? Обязательно запрашивался точный объём оставшегося топлива на борту флагмана. Уточнялись технические детали в рамках координации последующих действий.
В целом высшее военное руководство планы Мýра одобрило, однако не разделяя его осторожный пессимизм. По-видимому, из глубины комфортных кабинетов (оперативный отдел штаба Королевского флота размещался в подвальных помещениях под старинным зданием адмиралтейства) ситуация смотрелась достаточно оптимистично. Все, что предусматривалось необходимостью масштабных мероприятий по локализации советской рейдерской эскадры, было запущено в исполнение. Необходимые суда снабжения и адмиралтейские танкеры уже находились в море, тактически обеспечивая дальнейший ход операции. Списочный состав наличных сил флота – боевые отряды и эскадренные соединения, средства контроля за акваториями, включающие патрульную завесу из надводных кораблей, а также воздушную разведку, даже с известными погодными оговорками, – всё это вселяло чинам военно-морского ведомства твёрдую уверенность, что поставленная задача будет выполнена.
Нетрудно понять, какими оперативными соображениями руководствовались штабные специалисты. Подходя к вопросу развёрнуто, учитывался даже тот потенциальный факт, что как минимум часть слабозащищённой зенитной артиллерии русских в ходе дуэли тяжёлых калибров выбита. А значит, прорвавшиеся к кораблям противника ударные самолёты палубной авиации встретят меньшее сопротивление. А там уж…
Вместе с тем высказывались и некоторые сомнения.
– Перехваченный ранее, 19-го числа, к югу от Азорских островов крейсером «Орион» капер большевиков под голландским флагом по всем логическим выводам являлся судном снабжения. Ко всему, радиолокация с кораблей адмирала Мýра выявила в составе советской эскадры ещё одну единицу, что тоже, вероятней всего, встреченное ими в море судно-обеспечитель. Сейчас погода вряд ли позволит провести дозаправку на ходу, однако по предсказанию метеослужб – сутки, максимум двое, и послештормовое волнение спадёт. Пополнив запасы, русские могут пренебречь экономией топлива, постоянно поддерживая высокую скорость при прорыве к побережью севера России.
Исландский барьер ими уже прóйден, и после Ян-Майена, прорвавшись в приполярные моря, в выборе маршрута у них развязаны руки. Хотя все их пути, в принципе, предрешены. Предсказуемость этого выбора облегчает наши расчёты. Самое относительно узкое место, где было бы проще их поймать, это линия Шпицберген – Медвежий – Нордкап. Противник тоже должен это понимать. Не исключено, что там уже развёрнуты советские субмарины Северного флота. Фактически это зона, куда с натяжкой может дотягиваться их базовая (береговая) авиация. В конце концов, – здесь говорящий офицер позволил себе снисходительною усмешку, – туда же выдвинется и то немногое, что есть у большевиков из надводного. Включая, вероятно, и наш «Ройял Соверен».
Некоторые из присутствующих офицеров со знанием переглянулись в унисон.
Доныне считалось, что военно-морской флот СССР – величина незначительная, и в расчёт не брался. Прошляпив каким-то непостижимым образом постройку трёх новых крупных кораблей на балтийских верфях, о Русском Севере англичане знали почти всё, бывая там частыми гостями с ленд-лизовскими конвоями. Да, какие-то корабли и подводные лодки в тех акваториях у Советов, конечно, водились, вот только флота не было… в большом понимании.
Что касалось переданного России линкора «Ройял Соверен», в адмиралтействе резонно полагали, что освоить его для применения в полноценном бою русские просто не успеют.
– Как бы там ни было, – продолжил меж тем докладчик, – будет правильно приложить все, все и максимальные усилия, дабы обнаружить и перехватить эскадру противника как можно раньше.
Работа в этом направлении, конечно, велась самая тщательная. Хорошо организованная служба радиоперехвата уже выявила ряд источников радиоизлучения, идентифицированных как «неопознанные» и «потенциально вражеские». Это могли быть и германские субмарины, кодовые шифры которых в принципе были известны. А могли быть и действительно передачи с русских кораблей.
Положив на карту все пеленги, аналитики радиоотдела чертили линии, нанося предполагаемые, на их взгляд, точки нахождения советской эскадры и ведущие от них равновероятные пунктиры дальнейшего пути следования.
Управление связи адмиралтейства рассылало циркулярные и адресные распоряжения, делая все возможное, чтобы предоставить исполнителям на местах максимально точные оперативные данные, направляя и перенаправляя надводные силы дозорной завесы. Штаб флота известил о переходе на одностороннюю радиосвязь, подчёркивая важность сохранения боевыми соединениями и отдельными кораблями режима радиомолчания.
В общем, флот, все причастные – от простого матроса до высшего военно-морского руководства, были преисполнены решимости довести дело возмездия до конца.
Мимо всего этого, разумеется, не мог пройти главное лицо британского политического истеблишмента. Сэр Уинстон, признанный мастером[12] пера и слова, особенно когда того требовали официоз и публичность выступлений, разразился искромётным заявлением:
«До той поры, пока эскадра большевиков не будет уничтожена, за каждой безнаказанно пройдённой ею милей будут тянуться кильватерные призраки потопленных конвойных трампов[13], потерянных боевых кораблей, загубленных душ моряков».
Кстати, для себя галочкой Черчилль отметит выраженную позицию США – американцы фактически отстранились от участия в операции. С одной стороны, оправданно, поскольку советские рейдеры выходили из их зоны ответственности. Это касалось и возможности использования базировавшейся на Исландию авиации, так и собственно кораблей – в свободном доступе под звёздно-полосатым в Атлантике, в восточной её части, практически ничего не было.
Однако скрытый посыл: «Что же это, великая Англия на море без нас уже не справится?» – притязательный премьер узрит, спустив досады побоку. «Британского льва» на тот момент, если быть честным, больше беспокоили события, происходящие на сухопутном фронте европейского ТВД[14].
Всего-то трое суток назад военные сводки не предвещали чего-то совсем уж негативного. Да, Москва отвергла выставленные Лондоном и Вашингтоном требования, да, русские войска на западном фронте масштабно перешли в наступление. Но план был тем и хорош, что предусматривал подобную агрессивную реакцию генералиссимуса Сталина. Выставленные пушечным мясом на острие ударов Красной армии немецкие части, мотивированные битвой за свой фатерлянд, должны были вобрать в себя атакующий потенциал большевистских орд, нанеся им по возможности максимальный ущерб. Лишь затем в дело вступали нарастившие мощные группировки коалиционные силы союзников, основной костяк которых составляли американские, английские и канадские дивизии. Генералы предрекали неминуемый успех. Количественное и качественное превосходство западных армий гарантированно ставило русских на место.
Победой Англия нарабатывала политические очки, поднимая статус, утверждая своё влияние на европейском континенте в общей идее: «Судьбы народов решают страны-победительницы».
На этом моменте Черчилль, всегда чуткий к форме слова, с жабой в душе подметит, что представление Великобритании как страны-победительницы теперь неразрывно связано с Соединёнными Штатами. И совсем не в паритетной роли.
И всё же ещё трое суток назад глава британского правительства пребывал в бодром расположении духа и позволял себе благосклонно разглагольствовать, прикрывая стратегические просчёты демагогией.
– Политическая самостоятельность – понятие очень условное. Даже наши решения отсюда, из Уайт-холла, диктуются от конъюнктуры. Имеют смысл только долгоиграющие стратегические планы. Которые также коррелируются в соответствии с меняющейся обстановкой. Манипулирование оппонентом – суть политики, – подтолкнуть потенциального противника к тому или иному шагу. Пример Гитлера…
Говоря, Черчилль ставил паузы намеренно и многозначительно, зная, – Колвилл[15] многое из того, что он произносит, конспектирует на бумаге, в числе прочего производя редактирование речей премьер-министра, черновиками которых он сам порой и занимался.
– С Гитлером мы попали в собственные силки. Прилетело бумерангом, а вот…
– Русские, – выпалил навскидку помощник.
– Что русские?
Джон Колвилл чуть пожевал губами, подбирая правильные формулировки. Прослужив у Черчилля много лет, он научился подстраиваться под шефа, имитируя его манеру изложения.
– Положим, Россия самостоятельна в своих решениях и выборе. Иногда это так. Но здесь за русских зачастую играет их пресловутая непредсказуемость. Когда кажется, что их поступки диктуются неизвестными императивами.
– Так уж и неизвестными, – сварливо перебил хозяин кабинета. – По мне, доходящая до абсурда непредсказуемость русских, ставшая притчей, уж не помню с чьей подачи[16], опирается на инстинктивное начало и обусловлена именно неустанными политическими интригами со стороны, скажем так, «просвещённых держав», играющих на своём правовом поле. Мы устанавливаем правила!
– Тем не менее непредсказуемость русских срабатывает…
– Равно как и цивилизованная логика европейских стратегов. То есть 50 на 50. Что ж, варварам не привыкать терять миллионы своих людей. Терять, но в итоге снова возвращать свои территории.
Сэр Уинстон примолк.
Упоминания о территориях лежали на рабочем стеллаже: донесения, отчёты, статистика, карты….
И первым делом, едва пузырь назревающего противостояния прорвало, на аудиенцию в Уайт-холл напросился глава польского правительства в изгнании Стани́слав Миколайчик, с порога огласив поздравления об открытии антибольшевистского фронта.
Британский премьер сразу понял, в чём была цель визита.
«Хотите отбить свою, как там кличут её панове, – Речь Посполитую? (Боже мой, до чего ж корявый язык!) Так вперёд! Оружие предоставим, но британских солдат я туда не пошлю. Всё равно Сталин не отдаст Восточную Польшу, как того бы вам ни хотелось.
Хорошо, если удастся вообще отстоять хоть какую-то суверенную целостность для этого изрядно уже осточертевшего эмигрантского правительства на английской земле».
А назавтра в сводках с фронта появились угрожающие намёки. Внимательный не только к фактам, но и к интонационной подаче, Черчилль сразу отметил эмоциональность формулировок военных, сменивших победные реляции на обтекаемые «отразить, предотвратить, удержать…»
Ощущая, как трудно удержаться ему самому – всегда, когда что-то шло не по плану, его душа рвалась на передовую – сделать то, с чем другие не справились.
«Снять Монтгомери? Тактика которого – методичное прогрызание обороны противника – не оправдалась. Однако и американцы увязли. Немецкие части, наверное, были бы готовы умереть. Но их возможности небезграничны. Русские их бьют… точно по привычке. Буквально перемалывают».
К полудню 24-го британский премьер-министр уже знал, что дело принимает совсем плохой оборот. Самое большее: продвинувшись на десяток километров, части союзных сил были опрокинуты, частью были взяты «в котлы». Попытка 1-й английской армии деблокировать кольца окружения натолкнулись на упорное сопротивление советских войск. Наступление Паттона на юге окончательно остановилось.
Хуже было другое! Дипломатическая разведка донесла о смене настроений Рузвельта в отношении России. Аналитический отдел штаба уже выдал неутешительные прогнозы, что прагматичные американцы готовы отступить, не желая втягиваться в затяжную конфронтацию.
– Янки сдулись, – презрительно выдавит из себя сэр Уинстон, вновь возвращаясь к мрачному пониманию, насколько Британия стала несамостоятельной.
Взятая Эйзенхауэром оперативная пауза, официально подтверждённая, скорее всего говорила об отказе Вашингтона от военного решения большевистской проблемы. По крайней мере, в ближайшей перспективе.
Искушённый в интригах ум премьер-министра пытался отыскать параллельные политические решения. Начиная нервничать и заводиться, крупный и очевидно обладавший лишним весом мужчина в возрасте семидесяти лет с тяжёлыми чертами по большей части мрачного лица вышагивал по кабинету, будто тяжеловесный танк.
Ход мыслей неожиданно вернул его к операции, проводимой Королевским флотом.
«Хотя почему же неожиданно? – Опытный политик знал, как неудачи, возникшие на одном направлении, прикрыть громкой победой на другом поле. Тем более там, где англичане были традиционно сильны, – не скажу, что уничтожение советских рейдеров имеет прямо уж такое судьбоносное значение. Это значение престижа. И такой прекрасный повод продемонстрировать морскую мощь».
Нажав на кнопку вызова, он запросил последние сведения о советской эскадре и все оперативные адмиралтейские наработки.
Справедливости сюжетного баланса следовало бы, пожалуй, взглянуть ещё на одного не менее значимого представителя некогда «Большой тройки».
Что ж, на минутку и одним глазком.
Русский с акцентом
Заслуги человека меряются не одним днём и не одним-единственным существенным (в плюс или минус) поступком. Однако хорошо, если этот гипотетический поступок вообще имеет место быть. Некоторые не сподобились в своей жизни даже на это единственное.
Сталин принимал «по-рабочему» – в поношенном кителе защитного цвета без знаков различия, с неизменной трубкой.
Заседание Ставки проходило в малом кабинете Верховного главнокомандующего и в несколько усечённом формате, отсутствовал ряд командующих фронтами, которые в данный момент пребывали непосредственно в войсках. Вот-вот ожидали Жукова, его самолёт уже приземлился на Ходынском аэродроме.
Пока же докладывал нарком ВМФ Кузнецов Николай Герасимович. Получилось у него очень коротко, потому что информации о происходящем в Атлантике (а именно эта тема заявлялась основной) поступало мало. Можно сказать даже – крайне мало. Генштаб ВМФ о судьбе Эскадры Открытого океана пребывал в практическом неведенье. Обрывочное, оборванное плохой проходимостью сигнала радиосообщение, полученное с флагманского линкора, поведало о главном – эскадре удалось выстоять бой с флотом метрополии, все остальные подробности утонули в белом шуме помех.
На повторные запросы ответ так и не был получен. Попытки связаться вскоре прекратили. В штабе флота знали о шторме в северной Атлантике, понимали – время вышло, и Левченко ушёл в молчанку. Догадывались о нужде экономить топливо, о растраченном боезапасе. И совсем не ведали ни о понесённых потерях, ни об ущербе, доставленном врагу.
Кузнецов явно переживал, но вида старательно не подавал, бодро отрапортовав о том, что знал точно, и даже о том, что вытекало из логических соображений.
Сталин слушал доклад, мягко прохаживаясь по ковру, приостанавливаясь на тронувших его моментах, точно прислушиваясь.
В конце он лишь качнул головой, мол, всё понятно. Верховного, так же как и его английского оппонента, сейчас всецело поглощали вопросы эскалации на европейской части суши. Всё должно было решиться в ближайшие дни, если не часы.
– Со дня на день ожидаем англо-американских представителей с новыми предложениями. С более уважительными к советскому народу предложениями. Так? Или товарищ Сталин ошибается? – вопрос был риторическим. Вождь щурился от дыма трубки будто бы вполне благосклонно.
Сидящие за большим столом чины с генеральскими и маршальскими звёздами на погонах могли чувствовать себя немного расслабленными – Хозяин выглядел удовлетворённым.
Хотя, быть честным, полного удовлетворения результатами битвы за Европу достигнуто не было. Вот явится Жуков, и ему наверняка будет высказано. А впрочем, и того, что удалось, хватало, чтобы вести послевоенную дипломатию с более выгодных позиций. Военные своё сделали, теперь дело за наркомом иностранных дел Советского Союза Молотовым и его дипломатической командой.
Иосиф Виссарионович остановился у своего рабочего стола, где на зелёном сукне среди прочего лежали кричащие заголовками лондонские газеты, доведшие свою антисоветскую агитационную истерию до пика.
– На каких мотивациях строится западная пропаганда, оправдывая войну против СССР, нам известно. А как упорны союзные части в боях?
Отвечать взялся Василевский, прибывший буквально час назад с фронта. Не с передовой, конечно, но и его вид, и окружающая его аура создавали иллюзию, будто маршал пропах окопами и порохом. От этого его оценка звучала особенно достоверно.
– Ми вас поняли, – по лицу Сталина можно было понять, что он ожидал немного других отзывов. – Примем этот факт: когда надо, американцы и те же англичане сражаются нэплохо. Вопрос – оно им надо? Что простому американскому солдату далёкая и вечно конфликтующая Европа, чтобы за неё умирать?
– Так точно, товарищ Сталин. Самопожертвование отдельных бойцов или коллективная отвага каких-то подразделений в рядах западных армий, конечно, имеет место быть. Но в целом…
– В целом «просвещённый запад» предпочитает идти по пути наименьшего сопротивления. Вот только война – это не бухгалтерская книга, точнее, нэ только… что бы там ни озвучил один исторический персонаж[17]. У войны слишком сложная структура себестоимости, – Верховный главнокомандующий говорил размеренно, соблюдая свои фирменные паузы, плавно помахивая уже потухшей трубкой, – а в бою порой правят инстинкты…
Пришло бы ему вослед более развёрнутое соображение, несвойственное выпускнику духовной семинарии, но порождённое материалистическим учением?
Что-то типа: «Война, являясь социальным симптомом человечества, имеет глубинное начало и заложена в программу естественного отбора (в том числе и межвидового), а значит, подвластна инстинктивным проявлениям, от которых вид гомо сапиенс не избавлен».
Вряд ли.
Субъективно для товарища Сталина. Не в его стиле, да и не в его образовательном амплуа. При, кстати, достаточно разносторонней начитанности Иосифа Джугашвили.
Так что оставим последнее на совести автора[18].
Неумолимая проза стихии
Гренландское море, 72° с. ш., 2° з. д., 230 миль
к северо-востоку от острова Ян-Майн,
23 ноября 1944 г.
Трудно было понять, достиг ли этот арктический антициклон своего пика. Барометр колебался. Ветер, влекущий массы холодного воздуха со стороны Северного Ледовитого океана, достигал тридцати, а в порывах пятидесяти узлов. Вóды Атлантики податливо и одновременно строптиво отрабатывали свой унисон, перекатываясь валами, разгоняя крутую волну, беспощадно отыгрываясь на кораблях эскадры.
«Кронштадт» и «Советский Союз», весившие за сорок и шестьдесят тысяч тонн соответственно, продирались в тисках шторма вполне уверенно.
А вот бывший лёгкий крейсер, а ныне авианосец «Чапаев» буквально швыряло на курсе, каждым порывом ветра, каждым ударом волны норовя отвернуть вправо.
Ещё более тяжко приходилось «Кондору». Во всяком случае, так казалось с его борта. Хотя чего уж там, и со стороны, наверное…
Входя в полосу встречного ветра («мордотык», как с лёгкой руки обозвал это бывалый боцман), вгрызаясь в волну, разбивая её форштевнем, нос крейсера зарывался в накаты чуть ли не по срез палубы. Встречными порывами тучи пенных брызг омывали весь полубак, быстриной прокатывались по шкафуту, захлёстывая надстройку, добивая до самых клотиков и полётной палубы, не оставляя ни клочка сухого места.
Вся неприятность была даже не в высоте волн, а в их длине, когда получалось, что нос взбирается наверх, в то время как корма падала в подножие, словно в яму.
Прежде чем заступить на мостик, капитан 1-го ранга Скопин сначала решил спуститься в БИЦ – дать напрямую указания ночной вахте.
Пока ходил туда-сюда, обратил внимание, что хотя всё и было задраено по-штормовому – люки и двери внешнего контура в надстройках, – где-то в верхах боевых постов и по коридорам бродили сквозняки, откуда-то отдалённо грюкало металлом. Прислушался, но так и не понял, откуда. Показалось, что снаружи.
Немилосердно раскачивающийся корабль словно вымер… ещё бы, была б кому-то охота шарахаться, когда то и дело мотает, кидает, норовя приложить обо что-нибудь угловатое, не дай бог головой. Ходить по трапам в такую болтанку та ещё задачка, угадывая крен, пробираясь натурально перебежками, хватаясь за поручни. Дважды его, не особо сильно, но болезненно припечатало к переборке.
Переваливаясь с волны на волну, крейсер издавал похрустывания и скрипы, из чего на ощущениях и опыте можно было констатировать проявление смешанной килевой и бортовой качки, когда корпус судна будто выкручивает.
Войдя в ходовую рубку, первым делом задался:
– Мне кажется, или мы идём каким-то рако-макарным образом? Виляем задницей?
– Да. Так точно. Волна в скулу бьёт, а ветер своё дует… корма гуляет по горизонту с размахом метра в три, – подтвердил вахтенный лейтенант, не особо вдаваясь.
Командиру больше и не надо было, и сам знал, как оно бывает: дифферентом и приличным креном длинные размашистые океанские накаты водили корму крейсера по курсу. Прибавить к этому парусность высокой надстройки…
– Происшествия? Нам там ничего не сорвало? А то я слышал какие-то непонятные стуки. В бытность на систершипе «Ленинград» вот так штормовыми вóлнами однажды сорвало левый парадный трап, да так, что пробило обшивку, образовав пробоину и что-то там притопив. Распорядитесь осмотреться в отсеках. Без выхода наружу, разумеется, человек за бортом нам не нужен.
Снаружи в штормовом клокоте волн завывали растяжки антенн, шумел стегающий косыми струями дождь. Дворники ходовой рубки отбивали на остеклении монотонный ритм, не справляясь. Смотреть было некуда, глаза вязли в нескончаемых оттенках серого, гибнущего в черноте ночи.
Где-то, судя по радиовизгам широкополосного приёмника, из свинцовых туч били молнии. Их зарева периодически разнообразили вид «из окна». Собственно поэтому кэп и ходил к радиометристам, прознать о возможных проблемах – не ровен час вдарит вот таким атмосферным дефибриллятором по антеннам. Воочию поглядел, как экраны РЛС забивает катарактами грозовой подсветки.
Приняв вахту, командир в первую очередь потребовал ежечасный доклад от БЧ-5, и далее внимательно реагируя на все звонки, поступающие от машинной группы.
Практически всё время минувших полутора суток главная энергетическая установка корабля работала в полную силу: сначала давали обещанные 27 узлов на перегоне – восемь часов кряду, начиная с южного входа в Датский пролив. А затем и весь бой с соединением Мýра приходилось маневрировать на предельных режимах, выжимая из машин максимальные обороты.
И сейчас… пусть эскадренная скорость и была невелика (при этом тормозили именно менее мореходные лёгкие корабли), потребность сопротивляться накатам штормовых волн, постоянно подрабатывая рулями, чтобы удерживаться на курсе – всё это ложилось тревожащим бременем на механизмы корабля.
Командир БЧ-5 со своим персоналом лично и почитай безвылазно, хмурясь от тревоги, прислушивались, фиксируя, чуя наглядную постоянную вибрацию в кормовой части.
– И? – спрашивал, запрашивал с мостика кэп.
– Да пока нормуль, – отвечали «с низов», – идём, бредём, скачем, прём.
Натерпелись, откачались на этих карусельных горках, но ночь пережили.
К утру ветер несколько поменялся, начав задувать круче с левых курсовых углов, и только более усилился. Волны росли, иногда прокатывались такими валами, что, проседая в подножье, – поглядеть со стороны на мателотов – только мачты торчали.
Даже с учётом где-то там взошедшего солнца, сигнальной вахте легче не стало. Снаружи та же картина маслом – сплошь в серых тонах, с мерцающими за косматыми тучами разрядами молний. Ливень унялся, однако ледяной ветер в порывах по-прежнему приносил дождевые шквалы.
Получил свой мокрый кус и Скопин, когда к концу, утомлённый, поймав себя на дрёме в кресле, встряхнувшись, сдуру решил приоткрыть иллюминатор, типа подымить в форточку – дыханье забилось в глотку, просквозив пронизывающим холодом.
Сменить его должен был старший штурманской БэЧе, уже явившийся на мостик, поприветствовав командира почти сочувственно:
– Тяжёлая ночь?
– Да, помотало-вымотало. Но я ещё чутка тут подожду. «Мауритиус» вот-вот должен объявиться, если… Если верить написанному. Интересно, на него они сами выйдут? У них какой-то там «Вектор» – хитрый аппарат инфракрасного обнаружения стоит.
– Теплопеленгатор. А мы разве не подстрахуем? Хотя и нашим в такой катавасии окружающее не в самом лучшем виде, – пожал плечами капитан-лейтенант, покосившись на динамик радиоприёмника УКВ дежурной связи с флагманом, откуда доносился треск статики атмосферных разрядов.
Радиолокационные средства крейсера находились в режиме дежурной готовности, операторы жаловались, что наряду с грозовыми помехами, экраны рябило отражёнными сигналами от кучево-дождевых облаков, а по низам от высоких волн.
Как бы там ни было, всё это не помешало что-то заметить на осте. Засветка была слабая, какое-то время её вели, уточняли, а поиграв параметрами, отсеяв естественный фон, на посту РЛС, наконец, определились и с точным пеленгом, и с дистанцией.
Связались с командным пунктом «Советского Союза», информируя – цель есть.
Там на флагмане как-то и не торопились. Было заметно, что с «Кронштадта» моргали сигнальным фонарём, явно отвечая на предписания флагмана. По всей видимости, Левченко согласовывал действия и почему-то не воспользовался радиосвязью, причём переданные им станции Р-860, не без погодных огрехов, но приемлемую работу всё же обеспечивали. По крайней мере, данные по цели с «Кондора» прошли эфиром без особых на то затруднений.
Только по прошествии двадцати минут оба линейных корабля покинули кильватер, выдвигаясь на перехват противника. Две тяжеловесные туши, тягуче набирая скорость, проследовали мимо, обгоняя по правому траверзу идущий головным ПКР. Уходя дальше, они разделились – «Союз» двинул напрямую на выданный пеленг цели, с явной готовностью проутюжить вражеский корабль без изысков маневрирования. В то время как «Кронштадт» стал забирать левее, здесь намеренье, очевидно, было перерезать противнику пути для отхода.
Они быстро растворились в насыщенной влагой мгле.
«Чапаев», смыкая строй, послушно пристроился к «Кондору» в кильватер.
Скопин, получив распоряжение от командующего придерживаться прежнего курса, тем не менее решил поэкономить, чтоб потом долго не искать друг друга. Приказал рулевому:
– Возьми правее на два румба, право 15, курс 145, – бросил штурману, поясняя: – Пройдём ближе вслед.
Тот обеспокоился:
– Сами на британские стволы не нарвёмся?
– Пф-ф! Чтобы два тяжёлых артиллерийских монстрика да не раздавили лёгкий крейсер? Там и «Союзу» на один кус. Тем паче мы, если что, подсветим, наведём. Не потеряется.
Артиллерийскую стрельбу донесло минут через двадцать, продлившись накоротке, утихнув. Все чутко вслушивались в эту вязкую паузу, принимая вполуха освещение обстановки с поста РЛС. По всей видимости, загнанный в угол англичанин сумел уйти от контакта, укрывшись в дождевом шквале. Однако вскоре канонада возобновилась с новой силой. В этот раз долбило гораздо дольше, то дробным разнобоем, то сливаясь в гулкую череду залпов. Ветер, несущий звуки с места схватки, иногда порывами подбрасывал целые амплитудные порции непрерываемого рёва орудий.
После пары отметок оператор РЛС доложил:
– Наблюдаем… цель застопорилась.
– Ну вот, походу, и всё, – спокойно молвил капитан 1-го ранга, – замочили «Мауритиуса». Поглядим?
Два авианосных корабля продолжали двигаться навстречу разыгравшейся на поверхности океана военной трагедии.
Первыми что-то углядели вооружённые лучшими средствами сигнальщики, сообщив об отсветах слева по курсу.
Видимость едва дотягивала до сорока кабельтовых, по ограниченному горизонту блуждали ливневые наплывы, меж которыми вдруг появился просвет, из которого спроецировался, буквально вывалился корабль – «Кронштадт» с отметинами пожаров.
Он бил куда-то совсем на близкой дистанции, опустив стволы главного калибра практически на прямую наводку, давлением дульных газов снося не только пенные барашки с волн, подминало сам океан.
– Да где он? Где англичанин?! – проследив в том направлении, куда садил линейный крейсер, Скопин, наконец, поймал прореху в дождевой полосе – в оптике с наложенной поверх изображения градуированной шкалой появился силуэт жертвы. Картинка дёргалась, размывалась, но было понятно, что это была уже агония – накренившийся, судорожно сотрясаемый от накрытий и попаданий, извергающий пламя и обломки корабль.
– Довернуть на полрумба, возвращаемся на курс, – распорядился кэп, поймав одобряющий взгляд штурмана.
Огни горящего корабля поползли, ползли, уходя мимо траверзом.
«Кронштадт» задробил главный калибр, более стрелять смысла не было, лишь чьей-то инициативой очистить казённик одиноко гавкнуло и виновато заткнулось 152-мм орудие.
Окутавшийся дымом и клоками огня представитель британского типа «Фиджи» уже в неуправляемом дрейфе быстрым погружением под воду окончательно захлебнулся. Штормовой океан лязгнул пастью очередного девятого вала, и заведомо обречённого как не бывало.
Тем временем правее реальность в очередной раз обнажилась очертаниями выплывшего из непогоды линейного корабля – «Советскому Союзу» пройти над местом водоворота из нефти и обломков… бремя победителей – подобрать немногих выживших.
Позади…
Бремя догоняющих
Позади, всего в семидесяти милях, мучился дурным сном адмирал Генри Рутвен Мур… пробудившись, ворочаясь, прокручивая в голове заботы минувших суток и ожидаемого дня.
Перед отбоем он провёл не столько очередное совещание своего походного штаба, сколько просто пригласил приближённый круг офицеров в адмиральский салон, чтобы обсудить общую картину дела. Выслушать мнения, даже если те представляли лишь теоретические выкладки.
Полученная ранее циркуляром адмиралтейства метеосводка вызвала среди штабистов очередную волну дискуссий, предположивших версию, что ледовая обстановка позволит русским пройти к норду от острова Медвежий, поднявшись к более высоким широтам.
– В этом случае следует подумать о расширении зоны охвата в северных направлениях для патрульных «Либерейторов» с аэродромов в Норвегии. Иначе «красная эскадра» сможет проскочить незамеченной мимо соединения контр-адмирала Вайена, которое окажется намного южнее, чтобы дотянуться до противника палубными самолётами-разведчиками, как и всей ударной авиагруппой.
Кто-то немедленно возражал, по заведённому порядку любое высказанное суждение требовало оппонирующего разбора.
– Вряд ли «иваны» отважатся на подобный крюк. Это, во-первых, потерянное время. Во-вторых, к северу и шторм сильнее. Всё это неотрывно следует в контексте третьего аргумента: у них, как и у нас, наверняка существует проблема пополнения топливом.
Вставит своё и адмирал Мур:
– И можно лишь жалеть, что прежде увели в метрополию «Имплекейбл», ещё один авианосец в оперативном доступе очень был бы к месту[19]. Сейчас погода нелётная, но назавтра, когда немного прояснится, использование авиации станет более чем актуальным. Не стоит забывать, по результатам боя с авиагруппой «Беннингтона», что русские, пусть локально, но оказались в состоянии обеспечить плотное ПВО своей эскадры. Да-да, локально. Само по себе рейдерство, как концепция, несёт в себе элемент локальности при нашем бесспорном преобладании на море: оказаться в нужном месте и в нужное время, например, против слабозащищённого конвоя или одинокого крупного транспорта, уничтожить их и быстро покинуть место, избегая возмездия.
А они, между прочим, наглядно продемонстрировали способность пережить и линейный бой.
Вижу я, на что вы заритесь – артиллерийский реванш: если советский адмирал всё же сделает такую глупость, удлинив свой маршрут, тогда надводный бой неизбежен. Успеем их догнать и мы, вполне успеют подтянуться и тихоходные линкоры, что ведёт Бонэм-Картер. И даже если русские выдвинут какие-то свои силы из состава Северного флота, – адмирал значимо зыркнул на слушающих офицеров, – перетопим!
Не та битва, о которой мы мечтали, джентльмены. «Ройял Соверен»… что уж, сомнительная победа – пустить на дно, пусть и переданный врагу, корабль Его Величества[20].
– Они назвали его «Архангельск», сэр.
– Вот-вот, ещё и «архангела» в придачу. Хотя, будь я проклят, тем самым мы оказали бы большевистской России услугу, так как не думаю, что в свете последних событий Дядюшка Джо его вернёт. Корабль пятнадцатого года постройки – сомнительное приобретение, если говорить о расходах на его содержание, тем более для разрушенной войной экономики.
Пробудившись, взглянув на часы («…пятнадцать ноль пять, а разошлись лишь вторыми склянками после часа ночи») и поняв, что сна не будет, Генри Мур со скрипом встал, решив пройтись в ходовую рубку.
Ночной визит командующего не застал врасплох, вахта неслась исправно. Доложились об основных интересующих показателях: курс, скорость, место. Час с небольшим назад миновали, как ориентир, траверз Ян-Майна, где согласно штурманской прокладке совершили поворот, немного склоняясь к восточным румбам. С каждым оборотом винтов линкор сокращал разрыв, нагоняя корабли противника, по крайней мере, должен был. Мур знал, что русских в любом случае задерживает лёгкий авианосец в составе их эскадры, который по всем законам гидродинамики, вследствие малого тоннажа и размерностей, вне сомнения тяжело переносит штормовые волны.
«Кинг Джордж» задерживал лёгкий крейсер «Диадем». По тем же причинам.
Ещё перед отбоем, подумав, Мур связался с его командиром, и они договорились разделиться. На время. Распоряжением командующего сопровождающий флагманский линкор крейсер постепенно отстал.
– Наладится погода, нагонит, – утвердился аргументом адмирал. Не откатавший с момента ввода в эксплуатацию и года и уже успевший пройти текущий ремонт на верфи в Росайте, HMS Diadem вполне способен выдать заявленные 32 узла. Дождаться бы лишь, когда немного утихнет и уляжется.
– Контакт с ним поддерживается?
– Сэр. Проходимость радиосигналов отвратительная. Последний раз с его радиоточкой связывались сорок… – ответственный офицер взглянул на часы, – почти час назад, сэр.
Адмирал покивал головой: только относительная близость крейсера позволяла пробиваться радиосигналу. Связь со штабом флота отсутствовала. Как и мало что было известно о высланном в оговорённое место встречи судне-танкере, последний сеанс радиообмена с которым состоялся несколько часов назад. И произойти с ним за это время могло всё что угодно, не исключая не вовремя вылезшую германскую субмарину или всё то же пагубное воздействие шторма.
Сам «Кинг Джордж» преодолевал нынешние девять баллов Бофорта почти без потери в назначенной и фактической скорости, прямым, будто рубленным носом вспарывая океан. Потоки воды гнало, заливая всю баковую часть, вплоть до носовых башен, брызги долетали до ходовой рубки. В бою это доставляло массу проблем. Британские линкоры данной серии справедливо считались «мокрыми» кораблями.
Адмирала Мýра сейчас больше волновал резерв, а вернее уж было бы говорить, остатки топлива. 40 тонн в час – таков был расход флотского мазута у линкоров типа «Кинг Джордж» на полном ходу. Плюс четыре тонны на общекорабельные нужды.
В вопросе топливной логистики адмиралтейство пошло по пути минимизации издержек: своё горючее отдаст один из десятка выведенных в море кораблей дозорной завесы – оказавшийся в доступе вспомогательный крейсер. Мур даже не знал, сколько может выделить это переделанное в военный корабль судно, и готов был высосать его досуха, по минимальную планку мерного лота, оставив донора ни с чем.
«Нам важнее. Если мы не примем нужного запаса, то можем оказаться в очень сомнительной ситуации, и что самое отвратительное – по закону подлости в самый неподходящий, горячий момент, когда надо будет вступить в бой. Что ж, если понадобится, мы выжжем свой мазут до конца, даже если потом придётся жечь в топках дерево палуб».
– Отсутствие топлива не очень надёжное алиби, чтобы отказаться от погони, – вдруг выдал свои мысли вслух адмирал.
– Сэр? – переспросил один из вахтенных офицеров, видимо смущённый формулировкой. – Алиби?
– Это фигура речи, – отмахнулся Мур. Отвернувшись, испытал нереализованную неприязнь, только сейчас узнав в рабочем полумраке ходовой рубки лейтенанта, сына одного своего давнего, ещё по Шерборну[21], приятеля, отказать которому в просьбе пристроить отпрыска не мог. Припомнил, как молодой человек был ему представлен буквально перед самым выходом эскадры в море.
Он тогда спросил:
– Куда бы хотели быть назначенным?
Ответ прозвучал несколько развязно для надлежащей субординации:
– Это действующий флот, сэр, здесь выпивку на заказ не наливают.
Громко тренькнул телефон связи с радиорубкой, возвращая внимание адмирала к настоящему. Взявший трубку мичман взволнованно доложил:
– Перехватили выход в эфир, сэр.
– Радиограмма?
– Сэр, обрывок… помехи жуткие, ни координат, ни дистанции, ни пеленга.
– Кто? Кто адресат?
– Если бы не открытым текстом и не короткий кодовый номер корабля… сэр, похоже, что это HMS Mauritius передал: «Нахожусь под обстрелом», и всё.
Переглянулись. Ясней некуда: резкий выброс в эфир и тишина, обмануться в которой уже никто не помышлял.
– «Мауритиус», где его зона патрулирования? – очнулся Мур, перейдя к столу, склонился над картой. Найдя нужное, незамысловато обвёл пальцем определённый участок океана. – Ну вот, теперь хотя бы знаем примерный ориентир, где они.
Они
Точка поворота на границе Норвежского
и Баренцева морей юго-восточнее острова
Медвежий
Сроки, уготованные погодой, вышли. Шторм начнёт терять свою убойную силу примерно спустя двенадцать часов. Ближе к нулям уходящего 24 ноября метеобригада зафиксирует падение скорости ветра почти наполовину, отметив в журнале устойчивые 15 метров в секунду. К утру уляжется и волнение, хотя недовольный океан ещё будет тяжело дышать, поднимая и опуская четырёхметровые волны. «Кондор» неохотно раздвигал их форштевнем, словно всё ещё брал препятствия, принуждённо взбираясь, пенным уханьем опускаясь.
Курсовая линия советского соединения пролегала всё далее к востоку, забирая выше к норду, где сопливые послеисландские широты начнут подмерзать свисающими с лееров сосульками. Эскадренный ход сменится на особый экономический. Умотанный ненастьем личный состав наконец сможет немного снять напряжение, нормально принять горячую пищу, в условиях всё ещё сохраняющейся качки не без своих специфических условностей – на баках (столах) [22]расстилали мокрые газеты, чтобы не дать посуде уехать с содержимым на пол.
Боцман погонит людей наружу для послештормового осмотра корабля. Сам вышагивая с неповторимой грацией развалочки привыкшего к качке старого морского волка.
Впрочем, каких-то сильно неприятных последствий выявлено не будет: сгорел один из моторов вследствие заливания антенного поста станции управления зенитной стрельбой, что было выявлено при контрольном тестировании систем. Заменили.
Ещё одна неприятность – бытовая и тоже поправимая – из-за сорванного люка оказались затоплены шкиперские продуктовые кладовые в ахтерпике, подмочили запасы картошки.
Другой недогляд выявился позже – почему-то сразу не обнаружили, что каким-то образом смыло один из контейнеров со спасательным плотом с левого шкафута.
Вот эта потеря могла стать проблемой с дальними последствиями.
– Вот гадство! – выругается на доклад боцмана Скопин. Добивая уже мысленно: «Эта штуковина будет болтаться и кочевать по волнам сколь угодно долго, пока её не подберут с воды, что более всего вероятно. Или не выкинет на берег рано или поздно. А внутри подарок – всё необходимое для выживания десяти человек, включая средства для навигации, сухой паёк и медикаменты. На которых стоят сертификаты и маркировка с датами. Попадёт к пытливым и заинтересованным структурам, возникнут ненужные вопросы».
– Чёрт, неужели наследили?..
С самого рассвета, ещё табличного, ещё затемно, с флагманского «Советского Союза» поступит сообщение… Левченко вознамерился провести общее совещание походного штаба эскадры. Скопин сразу понял, что командующий хочет видеть у себя на борту каких-то представителей от крейсера. Что, в общем-то, вытекало из текущей необходимости согласования дальнейших действий. Следующий этап противостояния в оперативных планах подробно не рассматривался.
Тогда, отталкиваясь от злободневного, перед прорывом через Датский пролив и далее, внимание всецело уделялось предстоящему артиллерийскому бою с линкорами Мýра. И не говори, «нам бы э́ту ночь выстоять, да день продержаться, а там поглядим».
Ныне же, когда небо начало проясняться, разумеется, следовало ожидать, что противник поднимет в воздух патрульную авиацию, всё, что можно: с исландского, ирландского, норвежского побережий. И наверное, уже поднял. Плюс к тому палубные разведчики с обещанных авианосцев «Индефатигейбл» и «Формидэбл», которые должны были находиться где-то неподалёку.
– А наш адмирал деликатен, – заметит Геннадьич, прежде собрав своих на короткую планёрку с целью обсудить общие перспективы на ближайшие сутки, – хотя я понимаю его беспокойство – меж собой у них все тактические приёмы обговорены, а мы немного не вписываемся. Понятно, что при всех доступных к рассмотрению факторах вести сражение с двумя ударными авианосцами британцев мы можем, отталкиваясь только от обороны. Думаю, с нашей стороны достаточно будет послать специалиста от группы РТС – увязать радиолокационное наведение и целеуказание, и кого-то от ракетно-артиллерийской боевой части – зама, а лучше сразу командира БЧ-2. Что?.. – вопрос был адресован к последнему, видя, что тот недовольно покачал головой.
– По одиночным разведчикам мы уже успешно отработали, когда навели перехватчики на «Каталину», – ответил капитан 2-го ранга, – а потом сбили «Либерейтор». Особых трудностей повторить не вижу. А вот в ожидании больших стычек в воздухе, сверх того, подразумевая групповой авианалёт с двух британских авианосцев, организация всей противовоздушной обороны потребует компетенции непосредственно командного состава и специалистов «Чапаева».
– И в чём проблема?
– Не на линкор ехать надо, а на «Чапай». Лично говорить с командиром авиагруппы. Провести чёткую отработку и согласование с руководителем полётов – офицером-диспетчером, отвечающим за управление истребительного прикрытия в воздухе. Загодя скоординировать азимутальные и эшелонные сектора боевой работы: мы будем пулять ЗУРами по высотным пикировщикам в дальней зоне поражения, «Яки» станут работать по низам, срывая атаку торпедоносцев. Именно так я вижу разумное распределение целей. Далее – каналы связи. Я не говорю о том, чтобы мы сидели на их рабочих частотах, но очень не хотелось бы завалить какой-нибудь «Як», который по горячке боя полезет в зону поражения. По уму, следует довести все нюансы применения управляемых зенитных ракет до командиров эскадрилий. По моему мнению, надо собрать всех пилотов и дать полный и по возможности подробный ликбез.
– Вот об этом обо всём и скажете товарищу вице-адмиралу. В любом случае, и именно в нашем случае, субординация обязывает прямое согласование с командующим. Всё, собираемся, времени у нас в обрез.
Уже на выходе Геннадьич тормознул командира БЧ-2, сунув ему вчетверо сложенные исписанные листки.
– Тут вот ещё. Лётчики там все почитай асы, но опыт в авианосных боях – это другой опыт, которого у них нет. Я на досуге в вахту помучил, набросал, что помню из хроники войны на Тихом океане: познавательные факты, разбор воздушных боёв, а точнее, дуэлей авианосцев. Первый опыт – сражение в Коралловом море. Некоторые выводы по тактике и ошибкам. Ну и, конечно, из самого известного – перемусоленные подробности, как япошки продули битву за Мидуэй. Обратитесь к полковнику Покрышеву, он там главный у летунов. Может, чего и почерпнут полезного.
За рабочим шумом, окриками, гулом приводов цепных транспортёров, подаю́щих вертолёты к подъёмникам, в замкнутом помещении ангара было довольно шумно: только что, свиристя лопастями, снялся с палубы разведчик погоды, ещё два противолодочных «Камова» грели движки уже наверху. Внизу в регламентной готовности стояли дежурный Ка-25ПС и ещё одна машина, должная перекинуть на флагманский линкор назначенных офицеров. Приходилось разговаривать на повышенных тонах.
Командир крейсера вертел в руке шуршащую плёночную упаковку с ярким названием на иностранном языке, поданную особистом.
– Похоже, это от печенья. Точно, – прочитал, – крекер.
– Производство ГДР. Дрезден. Дата изготовления 1984 год, – дорисовал полковник.
– Как это оказалось у пленного?
– Не признаётся. Ещё и ухмыляется, сволочь. Но конечно, здесь, в смысле где-то на корабле, подобрал. Им выдали сухое переодеться и только сейчас вернули их нацистские тряпки. Я приказал провести шмон, и вот…
– Значит, лейтенант кригсмарине себя ведёт, будто о чём-то догадывается? По каким-то надписям на родном дойче и сомнительной дате на этикетке? Ну и, допустим, подглядев чего-то в том же вертолёте, когда их везли? Хотя грузовой отсек на вертухе гол, как сарай…
– Снова требует поговорить с командиром. Говорит, что не дурак, и что-то там типа про вундерваффе.
– Да уж, немчик – малый не дурак… но и дурак немалый. Его такого догадливого теперь проще к стенке, и концы в воду.
Он снова покрутил в руке улику, словно желая выбросить. Вернул, бросив почти брезгливо:
– Ну и чёрт с ними. На кой леший нам эти пленные вообще нужны? А? Только пайку жрут. Долой их с корабля.
– В смысле долой? В расход? – полковник немного опешил от такого предположения, по-свóему поняв «к стенке, и концы в воду».
– Обяз-з-зательно, – глумливо оскалился кэп, – и «макарова»[23] вам, товарищ капитан 1-го ранга, в руку – привести в исполнение. А уж потом зá борт их с гранатой на шее… с участью того негра. Гранату для гуманизма, дабы не замёрзли в ледяной водичке.
…И посерьёзнев:
– Нет, конечно. Отправим их на «Союз». Там в реалиях разбираются не в пример нашему, знают, о чём допрашивать, лучше оценят актуальность информации о вероятных субмаринах на маршруте. Вы как, товарищ капитан-лейтенант, не против вернуться с дополнительными трофеями? Пленных берёте? – Скопин вполоборота повернулся к стоящему подле офицеру по обмену из штаба Левченко – упакованному, с портфельчиком, в готовности грузиться на вертолёт (адмирал ни с того ни с сего вызывал своего эмиссара обратно на флагман).
Тот дёрнулся, прошипел что-то сквозь зубы о фашистах, в неприкрытых интонациях выразив всю свою ненависть, накопившуюся за четыре без малого года.
Не удивил.
«А мы уж позабыли эту ненависть», – за подобные проявления капитан-лейтенанта хотелось уважать. Получалось не очень. Слишком уж специфическое у того было поведение, со всеми характерными признаками человека из органов.
«Пожил у нас пару дней, собрал инфу – вона, даже про негра услышанного не постеснялся переспросить, – и на доклад к Левченко. Интересно, этот адмиральский вызов был заранее задуман или он про нас какую-то пакость прознал?»
Так или иначе, обстоятельства требовали.
«Обстоятельства требуют от нас проявления открытости. Что ж, приоткроем», – Геннадьич улыбнулся:
– Ну что вы, товарищ капитан-лейтенант, негр самый что ни на есть (точнее, что ни на был) настоящий. Только история случилась не здесь, а… там. Хотите послýшать? Дело было в апреле, в апреле 1985 года. Шли мы в Индийский океан. Из Севаса[24], через Средиземку, Суэцким каналом. Обстановка там в связи с «минным кризисом» оставалась напряжённой и…
Что интересно, сейчас, отсюда, из сквозящего открытыми проёмами лифтов ангара, возвращаясь памятью к ясной картинке вчерашнего – в жарý и жёлтые цвета египетской пустыни, – он испытал странную ностальгию или сожаление, возможно, по чему-то безвозвратно ушедшему. Добавив матерно-мысленно: «В который раз…»
Тогда, на переходе Суэцким каналом, из-за каких-то озабоченных пертурбаций каирских властей они вынуждены были застрять на полпути в Большом Горьком озере[25].
Время неспокойное. Вóды мутные. Ночь тёмная. В местах якорных стоянок потенциально опасных акваторий для срыва действий подводных диверсантов предписывалось периодически и по скользящему графику, с тем чтобы запутать таящегося под водой врага, бросать с бака и юта гранаты – специальные или же обычные безосколочные фугасные РГ-42.
Ответственный – назначенный мичман-арсенальщик, контроль – вахтенный офицер с ходового, исполнители – наряд ППДО[26].
Был в данных мероприятиях в тех тёплых морях и побочный положительный момент – бáхая на глубине, с поверхности собирали всплывшую оглушённую рыбу, несомненное разнообразие к столовому меню. Поэтому мичман особенно усердствовал на юте по левому борту, там, где сброс отходов с камбуза привлекал стайки мелкой рыбёшки. Увлечённый сим занятием народ, подсуетившись, даже спустил барказ для сбора добычи.
И вот по прошествии третьего часа – внезапный переполох со стороны носа корабля!
Перед концом смены у матросика, стоящего на баке, уже и глаза от неустанного бдения в кучу: за леерами тьма египетская, море чернильное, мечутся круги прожекторов, как вдруг всплывает, лоснясь резиной, гидрокостюм…
– Вижу подводного диверсанта у правого борта! – возопил парень, и согласно инструкции досыл патрона в ствол, переводчик огня нервной рукой застревает на первом положении автоматической стрельбы, нажимая на спуск… «Калаш» стучит, лающей очередью нарушая безобидную гармонию гулких подводных подрывов в корме.
По кораблю – «Тревога»!
Прожектора – на воду, а в лучах… – то не гидрокостюм, то эфиоп в естественном окрасе… случайный ли, не случайный, опознать, чёрная его душа, невозможно, из одежды только набедренная повязка.
Труп прибило, присосав к заборной трубе пожарного насоса. Давай его отталкивать. Не выходит. Насос пришлось выключить[27]. Однако тело почему-то упрямо не хотело тонуть и уплывать с течением тоже.
Поблизости шныряли какие-то аборигенские лоханки, непременные патрули представителей местной власти. Увидят – как себя поведут? Неизвестно. С учётом политических предвзятостей на самых высоких уровнях. Разбирательств и проволочек, когда у командира стоѝт задача и лимиты по срокам, допустить нельзя.
Уж успел явиться и заспанный старпом, а вслед за ним и кэп, прояснив, навтыкáв люлей, разобравшись, распорядившись – просто и радикально: спустили водолаза, привязавшего к ногам грузило, отправив негра на корм рыбам.
– Эскадренный ход решили держать прежний, экономический, четырнадцать с половиной узлов. Виной топливные проблемы, как я понял, – перед Скопиным стоял командир БЧ-2, доводя основные усмотрения, принятые на штабном совещании у командующего.
– Разумно. От авиации всё равно не убежать, а если британцы всё-таки подтянут устаревшие тихоходные линкоры или Мур догонит, тут горючкой уже можно будет жертвовать, отрываясь от преследователей, поскольку там уж немного останется – сутки, двое, и мы в зоне действия советского Северного флота. Отмахаемся.
– «Кронштадт» сильно выработал ресурсы.
– По топливу?
– По всему. Начштаба прямо при мне зачитал полный отчёт шифрограммой от Москаленко: погреба ГК практически исчерпаны, что-то там осталось из боеприпасов к орудиям вспомогательного и универсального калибров, но половина башен попросту выбита. Как и зенитная арта, и приборы управления огнём. Это делает линейный крейсер в предстоящих стычках с авиацией противника полностью зависимым от эскадренной поддержки.
– Три интенсивных артиллерийских боя за десять дней любого исчерпают. «Кронштадту» повезло в этом рейде – перетопить тоннажа… вот и «Мауритиус» на себя записал, хотя мы намеренно выводили «Союз», – Скопин мимолётно нахмурился вдруг возникшим сопутствующим мыслям, тут же возвращаясь к насущному. – И что, командующий вот так без утайки взял да и выложил все свои проблемы?
Особо и не ожидая ответа – пустое… Делая для себя выводы.
– По всем признакам адмирал преодолел кризис недоверия. Или просто… время?.. Наверное, так и есть – доверие порой требует не лишней убедительности доказательств, а времени. Левченко нужно было попросту «переварить эту пищу», свыкнуться. А?
– Возможно, – неопределённо согласился капитан 2-го ранга, – если так, то тут есть и оборотная сторона.
– В каком смысле?
– Оптимизма там у них прибавилось, что ли, уверовав? Один из штабистов, поинтересовавшись расходом наших «высокоточных зенитных средств», закинул удочку о том, что, дескать, расчищая небо от самолётов-разведчиков ЗУРами на дальних подступах, можно попытаться проскочить незамеченными. Ну, тут… – командир БЧ развёл руками, не считая нужным продолжать – и без того ясно, что проскочить незамеченными, когда плотность поисковых сил противника наверняка доведена до максимума, это что-то из разряда благих пожеланий. – Короче, на «Союзе» мы пробыли недолго.
По результатам сравнительно непродолжительного совещания у командующего геликоптер с пассажирами покинул линкор, прострекотав в хвост кильватера, где уже был принят на палубу «Чапаева».
Упомянутый на оперативной планёрке ликбез для пилотов включал ещё один пункт – ознакомить лётчиков с техникой спасения из воды вертолётом в режиме зависания. В штабе Левченко это инициативное предложение встретили вполне положительно, так как предназначенные для подобных аварийных целей гидросамолёты в условиях всё ещё сильного волнения помочь могли вряд ли.
На борту авианосца дело решалось практически: собравшиеся гурьбой вокруг винтокрылой машины лётчики, экипаж Ка-25ПС наглядной демонстрацией втолковывал премудрости пользования поясом с карабинами и универсальным креслом, что спускалось электролебёдкой на тросе. Даже учли пиропатроны с маркерными дымовыми шашками – привезли, сколько смогли.
Конечно, предполагалось, и верили, что потери будут минимальными, и большинство покинувших самолёты парашютом будут как раз таки англичане. Но логика здесь была донельзя прагматичной и жёсткой: ориентируясь на цветной дым, вызволять из воды прежде своих (возможно, раненых) и уж потом противника… если вообще останется на это время. Война не знает нравственности.
Да и вертушка для самолёта-истребителя крайне уязвима, задерживаться над полем боя, когда в любой момент из облаков может вывалиться какой-нибудь атакующий «Сифайр», было бы неразумно – подобрали, кого надо, и бежать, бежать вслед за уходящей эскадрой.
Инструктаж по аварийному спасению ещё продолжался, когда по авианосцу заголосил ревун боевой тревоги. На мачте островной надстройки к рею поползли подхваченные ветром распорядительные флажки. На полётной палубе всё враз пришло в движение. Стоящие в стартовой позиции у кормы истребители дежурной четвёрки запустили движки, пилоты, получив полётные указания, попрыгали в кабины, газуя, постреливая белым выхлопом, доводя температуру моторных жидкостей до оптимальных номиналов. Механики обслуги выдернули колодки из-под колёс первого наизготовку, выпускающий офицер поднял ладонь на отмашку, посекундно озираясь, ожидая команды подтверждения.
Со стороны надстройки появились бегущие фигурки офицеров управления, ещё издалека размахивающих руками, выкрикивая команды.
Вылет откладывался…
Обнаружением некой цели отметились с поста РЛС «Восход». Информация транслировалась как на КП флагмана, так и на мостик «Чапаева». Детализируя. Уточняя. По установленной скорости объекта цель классифицировали как самолёт – метка ползла по экрану, смещаясь к северу – то есть курс не пересекался с эскадрой и близко, и дистанция была достаточно велика, в пределах двухсот пятидесяти километров. Что и послужило поводом отложить вылет дежурного звена на перехват.
Кто это может быть, пока лишь гадали, не исключая прилёта какого-нибудь «Либерейтора» с норвежских баз. Но ожидали, конечно, появления гостей с палуб – тут, куда ни плюнь, выход на сцену британских авианосцев напрашивался даже из элементарных тактических обоснований, не обязательно было что-то знать заранее. И подтверждение вскоре было получено – на экране высветилось ещё сразу две засечки, прецизионно ориентированные с того же юго-западного пеленга, в приблизительной удалённости.
А вот выбранные ими направления… Радиометристы, прослеживая перемещения контактов, сделали самый очевидный вывод: самолёты-разведчики, высланные с авианосцев на секторальный круговой поиск. Что, первое: определило примерное место этих самых авианосцев; и второе: радиус этого самого поиска, который, несомненно, должен был захватить и настоящее место советской эскадры.
С поста РЛС подтвердили – маршрут одного из разведчиков, скорее всего, пройдёт если не впрямую над советскими кораблями, то в достаточной близи, чтобы в разрыве облаков суметь разглядеть хорошо заметные белые дорожки кильватерных следов как минимум.
– Цель № 3, ожидаемое время контакта сорок минут.
– Взлёт! – отзвучало в цепочке команд, добравшись до прямых исполнителей.
Качнув носом, довернув на полрумба, «Чапаев» выправился на ветер, с его палубы кратчайшим интервалом один за другим в воздух взмыли истребители дежурного звена, на подъёме проходя траверзом мимо строя кораблей, уж затем забирая вправо на указанный пеленг.
На выполнение задачи направили звено Алелюхина, ранее уже успешно отработавшего слепое наведение по радиокоманде. Приоритет – сбить противника – предусматривал незаметный выход на цель и неожиданность атаки. Радиостанции истребителей стояли исключительно на приём. Уловить передачу с «Кондора», ведущуюся на ультракоротких волнах, по расчётам из-за слабости сигнала считалось затруднительным, почти исключая такую возможность. Точка перехвата предусматривалась всего в тридцати километрах от эскадры по той же причине скрытности, но в этот раз от корабельных радаров англичан. Согласно анализу радиометристов, фиксирующих всплески импульсов неких, конечно, вражеских РЛС (иных здесь быть не могло), авианосное соединение противника могло находиться где-то в пределах двухсот пятидесяти миль. А дальше, чем на пару сотен километров, британские антенны не глядели.
«Яки» поднялись на 4300 метров, заняв эшелон выше летящего навстречу чужака, специально спрятавшись в сплошном облачном слое.
Небо, усеянное отдельными кучевыми образованиями, а на определённых высотах слоистыми покровами с редкими разрывами, как нельзя лучше подходило для скрытого наблюдения за поверхностью – как для воздушного разведчика, так и для внезапной атаки, особенно когда тебя профессионально наводят по радару.
Шли плотным строем, чтобы не терять друг друга в серой неоднородной пелене, по стрелке компаса, по прямым указаниям диспетчера-оператора, отслеживающего на экране РСЛ все перемещения четвёрки «яков» и вражеской цели. Уже было понятно, что никакой это не «Либерейтор». Машина по отражённому ЭПР[28] сопоставима размерами с преследовавшими её одноместными истребителями.
Получив очередную лаконичную корректировку: «Цель у вас под крылом ниже на тысячу на контркурсе», Алелюхин повёл своих в разворот, спускаясь в пологой глиссаде, всё ещё прячась в облаках.
Теперь трансляция с корабля шла в постоянном режиме, отсчитывая сокращение дистанции сближения, в том числе и по высоте.
Решение атаки гвардии майор выбирал по обстановке, по ситуации, отказавшись от захода с хвоста. Мелькнувший ниже в облачной прорехе распластанный крыльями силуэт, показавшийся таким доступным, только подстегнул на энергичные действия. Качнув крыльями для внимания, отжав ручку от себя, командир бросил машину вниз, выходя в отвесное пикирование – намеренно, полагая, что стрелкý оборонительной пулемётной точки смотреть, задирая голову в зенит, не в пример хлопотней, чем обшаривать взглядом более острые углы.
Все четыре истребителя, набирая скорость, падали на жертву, точно хищные птицы на жертву. Навстречу неслись пронизываемые насквозь клочки эфемерной белой ваты, вражеский самолёт стремительно рос на глазах. Уже виднелось тускло поблёскивающее остекление задней кабины, где сидел второй член экипажа, выполнявший, как водится, функцию радиста – именно туда нацеливалась командирская машина. Важно было, чтобы противник не успел выйти в эфир.
Время сближения измерялось секундами, и те, кто находился внизу, никак не забеспокоились, всецело занятые наблюдением за водной поверхностью.
Внезапность была абсолютной… однако не обошлось без нестыковки. Британский пилот, видимо, для лучшего обзора вниз, вдруг чуть склонил машину на крыло, отчего та начала скользить вправо, как раз туда, куда собирался выходить из пикирующей атаки капитан.
Всё произошло настолько быстро, что Алелюхин успел дать лишь короткую пушечно-пулемётную очередь. Отпустив гашетки, бросая истребитель уже влево, пройдя в какой-то паре метров от чужой плоскости, едва не «наломав дров»[29]. В миг сближения атакованный самолёт заполнил весь вид, более чем ясно выявив характерное для «Файрфлая» развитое, не выступающее за профиль фюзеляжа остекление фонаря задней кабины, – опасения напороться на встречную пулемётную очередь заднего стрелкá оказались напрасными[30]. Туда он и метил, удовлетворившись разлетающимся крошевом.
Огонь ведомого, которому было уже чуть попроще, убил пилота. Вторая пара доработала закрутившуюся в штопоре машину.
Им даже не пришлось сообщать о победе, на экране радара всё было и так прекрасно видно.
«Файрфлай» ещё падал. На диапазонах, известно используемых британцами, ничего экстраординарного не прозвучало. Прослушивающие эфир операторы молча покачали головами в наушниках, поглядев на старшего вахты – мичман сразу же донёс наверх, что сбитый англичанин сообщить об атаке не успел.
«Скорее всего», – мысленно добавил принявший на мостике доклад капитан 1-го ранга Скопин. Не особо чтоб сомневаясь, однако нельзя было исключать и того, что британцы могли работать на какой-нибудь хитрой частоте.
Обнадёживало, что радио ловили и на других кораблях эскадры, проскочило бы что-то тревожное – известили бы.
– Смотрю я на все эти кошки-мышки, – вдруг завёл заглянувший на мостик штурман, – и скажу, будь бы «Чапаев» полновесным авианосцем, со сбалансированной авиагруппой…
– И что бы? – склонил голову кэп.
– Да то, что в нашем раскладе эскадра Левченко с британцами даже и близко не может сыграть в равную игру дуэли авианосцев – первыми найти и непременно первыми атаковать.
– Что сумели, то и построили. Ограниченный тоннажем «Чапай» несёт ограниченную функцию – прикрыть истребительным зонтиком эскадру.
– Хорошо. В таком случае какой смысл было тащить с собой за тридевятый океан эскадрилью Су-6, стоят сейчас в ангаре мёртвым грузом. Попытка поиграть в универсальность? На всякий случай, лишь бы былó? Пугнуть «Беннингтон» восьмёркой бомбардировщиков с 500-килограммовочками на подвеске? Против их-то ПВО? Сомнительно.
Ладно корыта «Либерти» утопить, но для этого вполне сгодились бы истребители-бомбардировщики. Як-9 с литерой «Б» брал до четырёхсот килограммов бомб. За глаза хватило б…
– А поднял бы он эту полную загрузку с короткой палубы «Чапаева»? – оспорил со снисходительным превосходством знатока Скопин. – А?.. ну?.. то-то!
Не спорю, унитарная машина – истребитель, способный провести штурмовку и бомбометание. К этому пришли к концу войны все воюющие стóроны. Немцы вложились в «Фокке-Вульф» – фронтовой Fw-190, япошки со своим палубными «Зерó» – те же 500 таскал, и не обязательно в режиме камикадзе. У американцев – «Корсар», а «Хеллкет» – тот так вообще мог подвесить чушку под девятьсот кэгэ, что не всякому одномоторному бомбёру под силу. Но взлетали они с таким грузом, обращу внимание, не с ограниченных палуб эскортных и вспомогательных авианосцев.
Теперь давайте рассуждать логично, исходя из того, что штаб ВМФ СССР во всём, что касалось всей этой рейдерской операции, планировал всё тщательно… а планировал он тщательно! – надавил Скопин. – В обязательном порядке подключив разведку в стане давешних союзников. Какой анализ? – по идее на атлантических коммуникациях у англосаксонских недругов на тот текущий период ничего особо серьёзного не должно было быть. Так как для конвойных операций большие корабли не требуются.
А против одного-двух эскортных авианосцев авиагруппа «Чапаева» вполне сбалансирована. Более чем достаточно.
То, что американский «Беннингтон» – здоровяк класса «Эссекс» – случайно оказался поблизости, тогда как, несомненно, необходим был на Дальнем Востоке, это и есть случайность.
Теперь британцы… – да, сумели оперативно вытащить в море три своих достаточно быстроходных в классе «Кинг Джорджа». Да, у них на театре имелись тяжёлые ударные авианосцы, но обратите внимание, тот же «Формидэбл» должен был отчалить на Тихий океан и задержался лишь из-за того, что вдруг сломался. Случайность.
Так что свои… какие-то, – сомнительно поправился Геннадьич, – резоны у Кузнецова и тех, кто занимался разработкой и планированием этой морской провокации, были.
Самолёты боевого патруля продолжали оставаться в воздухе, барражируя в ожидании, сжигая топливо, ходя кругами над эскадрой. И лишь по прошествии получаса, когда ничего не происходило, получили разрешение на посадку.
– С таким раскладом играть в кошки-мышки можно долго, – высказался о случившемся старпом.
– Это лишь отсрочка, – вяло возразил командир. – По всей логике самолёт-разведчик должен сохранять радиомолчание, нарушая его по факту обнаружения искомого. Так? Сколько он может находиться в воздухе? Час? Два? Потом они хватятся.
– Можно сказать, ужé, – известил старший помощник. Прижав к уху трубку прямой линии с постом РЛС, наморщив лоб, он выслушивал радиометристов. – Походу, к нам ещё один гость.
Доподлинно же ничто не указывало на то, что появление в ближней зоне очередного разведчика вызвано именно потерей «Файрфлая» или каких-то иных подозрений англичан. Размашистое маятниковое движение чужого самолёта было больше похоже на плановый осмотр сектора и предполагало отсроченный момент контакта.
– Не та это неприятность, – бросил кэп.
Это была именно та неприятность.
– Радар, – сухо известил старпом, приняв сообщение службы РТР, – пеленг совпадает на цель, несущая частота другая… у него бортовой радар.
Это меняло ситуацию. Дальность обзора самолёта-разведчика в режиме радиолокации от простого визуального увеличивалась вчетверо, если не больше. И время, когда четыре крупные засветки советских кораблей попадут в поле его зрения, измерялось уже в других единицах.
Пилотам истребителей экстренно отменили посадку. Выходящий на глиссаду командирский Як-9 с выпущенными шасси и гаком, прервав манёвр, дал по газам, прошёл с набором над палубой авианосца, вновь взбираясь на потолок.
Алелюхин, получая по радио указания по новой цели, консолидировал звено для следующего перехвата.
– А вот этого, возможно, и следовало бы сбить ракетой.
– Без разницы, – флегматично пожал плечами Скопин, провожая взглядом исчезающие точки истребителей. Невзирая на ожидаемую атаку силами двух британских авианосцев, он пребывал в совершеннейшем спокойствии. Даже в какой-то отрешённости. Что явно было заметно со стороны… вон, старпом покосился с непониманием. Или неодобрением.
«Может, я пережёг свой адреналиновый запас? Что ж, пусть старпом дёргается. Да молодые летёхи азартничают. А по мне, так через всё самое опасное мы перешагнули. Этот этап эскадра преодолела и без нашей помощи. Только лётчики там, очевидно, выложились полностью, судя по косвенным намёкам в повествовании. Надеюсь, что теперь…
Нет, ударить ракетой ещё не поздно – притормозить «Яки», ребята на радаре в любом случае селектируют цели, в этих условиях своих не зацепят. Но для этого надо запрашивать флагман. Поскольку приоритеты приняты, есть план и субординация. А я не должен показывать эти метания: сказал – не будем тратить ЗУРы на лёгкие цели, вот и держи слово», – с упрямством повторил себе Геннадьич, неожиданно поняв, что твёрдость позиций – во всём – ему надо проявлять именно перед Левченко, а стало быть, перед его штабом, включая замполита и местного особиста.
Поняв, почему: «Я готовлюсь к встрече с товарищем Джугашвили. Ему, не сомневаюсь, по возможности составят мой полный портрет – что за фрукт, что из себя представляю. На основе которого и начнётся разговор. Я не дам вождю поводов играть со мной, как он любит это делать со своим окружением».
Повернувшись к помощнику, повторил:
– Без разницы. Отделаться от авианосцев всё равно не получится. А ту же работу сделают и истребители, с учётом тепличных условий четыре к одному. У них получится.
У них получилось. Им хватило короткого взгляда, чтобы узнать характерный высокоплан «Барракуды» – палубная машина далеко не выдающихся характеристик.
Англичанин летел на двух тысячах, бодая попадавшиеся на курсе облака, то ныряя в них, то вновь появляясь, очевидно, полагаясь в основном на радар – высота ему была необходима как раз для лучшего поискового обзора.
Где-то там, за остеклением длинного совмещённого фонаря, вертел башкой задний стрелок, и его спаренный 7,7-мм «Виккерс», в принципе, мог доставить неприятности.
Алелюхин не раздумывал, у него подходило к концу топливо. Поднырнув под самолёт противника, он исполосовал тому беззащитное брюхо. Ведомый, как положено, поддержал, да так, что второй паре даже не понадобилось тратить боезапас, незадачливый разведчик, грузно перевернувшись на крыло, камнем свалился вниз.
И в этот раз отслеживающие эфир операторы службы радиоперехвата выказали полную уверенность, что на частотах врага ничего не проскочило – экипаж самолёта-разведчика не успел не то что сообщить на свою базу о контакте, но даже что-либо вякнуть паническое, предсмертное.
«Удачно сработали, – выкуривал очередную паузу ожидания командир крейсера «Москва», – был бы толк. Тянем, оттягиваем… и ладно мы тут, ракеты жрать не просят, сидят себе в барабанах погребов, расчёты штаны за пультами протирают. А пилотяги на “Чапаеве” в ожидании взлёта, поди, совсем там извелись – как на иголках. Да плюс движки на прогреве от непонятностей тоже, наверное, гоняют, издерживая матчасть и горючку.
Ресурсов у двух авианосцев англичан с лихвой, и в запасе ещё больше светового полудня, на час раньше, на два позже, не мытьём, так катаньем, найдут, отыщут и атакуют. Как говорится, чему быть…»
…того не миновать
Время едва успело подойти к полудню, когда следящие за воздушным пространством операторы радиолокационных станций стали фиксировать заметное оживление на юго-западных румбах.
Уже следующий их доклад исключал какие-то иные толкования – сами британские авианосцы были недосягаемы для РЛС, скрываясь за кривизной земли, но на экранах те засветки каких-то английских самолётов, что поодиночке отлипали с линии горизонта по мере набора высоты, начинали собираться в стайки, порой сливаясь единым наложением, группируясь, выстраиваясь на очевидный боевой курс.
БИУС выдала предварительные данные и расчёты по дистанции, которая начала медленно втягиваться.
– Множественные воздушные цели. Пеленг 240 градусов, дистанция 270, подлётное время в зону поражения ЗРК «Шторм» сорок минут.
– Ненадолго мы… ушли от графика, – Скопин взглянул на часы, – всего-то на час с копейками. Что ж, цветочки понюхали, настал черёд срывать ягодки… россыпью. Приготовиться к бою.
Эскадра, развив скорость до максимума, перестраивалась, рассредоточиваясь из расчёта держать строй пеленга. Приходилось учитывать потери «Кронштадта» в зенитном вооружении, а лёгкий «Чапаев» достаточными средствами не обладал изначально. Линейные корабли конфигурировали совместное ПВО, отвернув севернее – не ахти какая мера в потребности увеличить дистанцию на милю-другую для приближающегося неприятеля.
«Кондор», тот и вовсе теперь шёл обособленно, готовясь держать углы для ЗРК «Шторм», разворачивая пусковые установки на правый борт, откуда ожидался наплыв самолётов противника. Противовоздушные средства крейсера переходили из оперативного режима в боевой.
– Цели сопровождаю всеми комплексами! – отчитался командир ракетно-артиллерийской части.
Курс «Чапаева» пока подчинялся ветру, перекладкой рулей авианосец заносил корму, выправляясь так, чтобы белые дымы шашек на полётной палубе стелились от носа ровно по оси корабля. Эскадрильи поднимались на крыло по тревоге.
Главное оружие авианосцев – это их палубная авиация, самолёты и пилоты, порой списываемые на потери боевые единицы, практически разменные. То, что в каждой кабине живой человек, не меньше любого другого желающий остаться в живых, статистику войны не волнует.
Незатейливо и убийственно мотивированные лётчики накручивались комэсками во всё той же парадигме: потеряем палубу… выведут из строя линейные корабли – всё одно тогда всем погибать в этом холодном океане вдали от родных берегов.
Однако каким-то образом средь личного состава прошёл слушок, что этот бой последний – перемолоть содержимое ангаров ещё вот этих двух вражеских авианосцев, и больше англичанам выставить нечего. Это породило некое противоречие – непременно защитить свои корабли, разбиться в лепёшку, но и себя по возможности сберечь. Тем более, когда так наглядно обещали вытащить, непременно вытащить всех в случае приводнения.
Конечно, никто из них не помышлял о заведомой смерти. С её постоянным соседством за годы войны успели свыкнуться – чему быть, того не миновать. Однако в первую воздушную драку над океаном с американцами «Беннингтона» шли в каких-то других настроениях. С бóльшим оптимизмом, что ли? Или правильней будет – с расчётливым и в какой-то степени бедовым оптимизмом. Сейчас же, когда казалось, что вот совсем немного, и прорвёмся домой, умирать не хотелось совершенно.
Инструктаж – уже не по разу, и ещё вдогонку, на ходу, топая гурьбой, придерживая свисающие на ремнях кожаные лётные планшеты с расписанными тактичками, ещё раз обмениваясь деталями, переговариваясь, балагуря…
– «Девятые» на неполной заправке, – напоминал командир 6-й эскадрильи, – бой не обещает быть долгим, а нам лишние секунды на виражах не помешают[31].
Один из пилотов с заметным украинским акцентом перебирал навскидку, загибая пальцы, ведя условный подсчёт:
– …и эти, прибывшие чи с «Москвы», чи с «Кондора», обещали сразу на дальней дистанции выключить у бриттов минимум 30 машин.
– Ой, щедро, – не без насмешки подцепил услышавший Степаненко[32] из алелюхинского звена. – Видáли мы, как «Либерейтор» ракетой сшибло. Те глазом не моргнули, вжик – и посыпались! Но, говорят, очень ценный и невосполнимый ресурс эти ЗУРы. Видать, наши шкуры менее ценные. Меняем шкуры на ЗУРы…
– Так, разговорчики, – вмешался командир авиагруппы Покрышев, явно повторяя уже обговоренное. – Сами же видели, в каком состоянии зенитки на наших линейных? На «Кронштадте» так вообще всё в хлам, а тут такое подспорье. Тем более ударят они по эшелону выше, где будет следовать эскорт – по истребителям. Так что берём, что дают.
Довожу ещё раз: наверх, пока работают зенитными ракетами, не соваться – попадёте под раздачу. Слушать эфир внимательно. Внимательно – позывной «Кондора».
И ещё, не преследуйте отстрелявшихся. Пусть уходят. Не зарабатывайте себе дешёвые очки. Сбросившие бомбу или торпеду угрозы кораблям уже не представляют. Японцы вон, слышали ж все, как на этих граблях сплясали, просрав четыре своих авианосца.
– Справились с американцами, задавим и этих.
– Ты смотри, как бы искупаться в ледяной водичке не пришлось.
– Во-во, не зарекаемся, мужики. Кстати, не забыли? Собьют, окажетесь в море, будут спасать с вертолёта – следите, чтобы конец верёвочной лестницы или люльки обязательно обмакнулся в воду. Хватайтесь только опосля этого, иначе можно получить хороший удар током статического электричества.
Отлаженная процедура взлёта заняла несколько минут. Неполные три десятка машин, уже в воздухе набирая высоту, собирались поэскадрильно, разбиваясь звеньями, ложась на курс, не спеша, на крейсерской скорости – времени покрыть сорок с лишним километров для выхода на рубеж у них было вполне.
«Чапай», выбросив в воздух истребители, тут же отвернул вслед за линейными кораблями.
Точки соприкосновения
Для англичан – находящегося на оперативном острие авианосного соединения – локализация местоположения советских рейдеров далась не прямыми действиями ведения круговой воздушной разведки, а совокупностью мер, косвенно дополнивших друг друга.
Во-первых, просчитав очевидность маршрута русских, аналитики штаба, не смущаясь весьма расплывчатой формулировкой, продолжали утверждать: «Они должны быть где-то поблизости».
Второй пазл внесла служба радиотехнической разведки. Спонтанно регистрируя работу посторонних радиолокационных станций с разных направлений (сигналы эффектом дифракции и переотражений распространялись далеко за радиогоризонт), предугадать искомый источник хорошо обученные специалисты были вполне способны. По крайней мере, предоставив начальству рекомендательные выводы с уже более точными координатными привязками.
Службе радиоперехвата даже удалось засечь какие-то переговоры русских. Правда, на запрос с мостика о пеленге радисты ответили, что «частота плавает, пеленг берётся неточно, но… где-то рядом».
Два пропавших разведывательных самолёта на обозначенных румбах окончательно дали то нужное подтверждение и сектор, где находится враг.
Возглавлявший авианосное соединение контр-адмирал Филип Вайен прекрасно понимал, что навигационные данные по-прежнему остаются приблизительными, точное место советской эскадры просчитывалось обобщающей оценкой. И что следовало бы произвести доразведку, однако…
Вайен считал, что времени у него на лишние телодвижения нет, подозревая, что одним разом дело не образуется, и что запланированный воздушный удар придётся повторить – возвратившиеся самолёты надо будет снова заправить, перевооружить, а это время, время, тогда как день в северных широтах короток. А назавтра погода вновь может испортиться.
В 11:45 британские авианосцы развернулись на ветер, и первые из сгрудившихся в корме палубных машин побежали на разбег.
Процедура взлёта неоправданно растянулась, невзирая на то, что использовалась так называемая экономичная схема – с отсрочкой для истребителей эскорта, с тем чтобы избавить их от необходимости кружить над соединением и жечь горючку в ожидании очерёдности остальных эскадрилий.
Первыми поднимали ударные самолёты: штатные «Барракуды» HMS Formidable, большей частью из-за низких лётных характеристик используемые предпочтительно в качестве пикировщиков. Нагруженные одной 1600-фунтовой бронебойной или тремя 500‐фунтовыми бомбами[33], они медленно взбирались на эшелон 16 тысяч футов (пять километров). Следом и параллельно с палубы «Индефатигейбла» оторвались торпедоносцы, этим высоко подниматься не требовалось.
Более скоростные истребители нагоняли всех уже на дистанции следования, общий сбор осуществился на марше, формируя отдельные и сводные группы. И как бы там контр-адмирал Филип Вайен не загадывал с оговоркой, что потребуется провести повторный налёт, в первый он вложил всё и всего по максимуму, рассчитывая на комбинированный, но цельный удар. Вплоть до того, что предпочёл усилить атакующие силы лишними истребителями эскорта, оставив в воздушном патруле подле авианосцев почти номинальное прикрытие – всего шесть «Сифайров».
Собственно, не особо и рискуя, свидетельства американцев с «Беннингтона» упоминали о безуспешной контратаке русских лишь восемью палубными пикировщиками, два из которых они вроде бы как сбили. И вряд ли советский малотоннажный авианосец в плане ударников располагал чем-то бóльшим.
«А коли так, встречный налёт нам не грозит. Вряд ли они позарятся отправить то малочисленное, что у них осталось, против наших бронированных палуб», – рассудил стоящий на мостике авианосца командующий соединением.
Его сейчас едва ли не больше беспокоило мизерное количество кораблей эскорта, на которые в преддверии большой линейной драки раскошелился адмирал Мур, выделивший всего четыре эсминца и ни одного крейсера. Всё то время, пока проводились взлётные операции, авианосцы, вынужденные выдерживать строгий курс, оказывались в очень уязвимом положении для атаки из-под воды. Всё ещё рыскающих в океане недобитых нацистских субмарин никто не отменял.
Наконец два тяжёлых корабля, выписав четырёхрумбовую дугу, вновь развернулись, в этот раз вслед ушедшим самолётам, набирая доступно полный ход в целях сократить по максимуму расстояние, чтобы повысить шансы для тех возвращающихся экипажей, машины которых, возможно, будут повреждены в ходе сражения.
Провожая взглядом взлетевший последним торпедоносец, задержавшийся из-за каких-то неполадок в двигателе, Вайен ещё подумал, что это знáковый момент для Королевского флота:
«Наша палубная авиация, наверное, впервые полновесно и самостоятельно выступает против именно авианосных сил противника. Да ещё и далеко в открытом океане»[34].
И подивился превратностям судьбы – назначенный командиром 1-й эскадры авианосцев Королевского флота в составе Восточного флота, он должен был отправиться на Тихий океан в рамках союзных операций против Японии. Авария в машинах «Формидэбла» задержала и его, и корабль в Гибралтаре.
А теперь всем им предстояло сразиться с русскими.
«Воистину с безумными русскими, коли они отважились бросить вызов британскому флоту», – контр-адмирал слышал, как со сдерживаемым возбуждением переговаривались за спиной офицеры штаба, оценивающие шансы на быстрый успех – армада в небе выглядела внушительно.
Их уверенность стихийно передалась и Филипу Вайену.
Можно было признать, что к концу 1944 года (практически к концу войны) британская палубная авиация, наконец, обрела боевую полноценность. В немалой степени за счёт американских самолётов ленд-лиза, лишь упрямством традиции (доброе старое английское) продолжая держать в ангарах своих авианосцев доморощенные «Сифайры», «Барракуды», «Файрфлаи» и даже прочие «Суордфиши».
Хотя в настоящий момент доля заокеанских машин в составе обеих авиагрупп была невелика. Задержавшийся на палубе «Индефатигейбла» TBF Avenger принадлежал 820-й эскадрилье торпедоносцев, насчитывающей 21 самолёт.
На «Формидэбле» базировалось шестнадцать F4U Corsair, переведённых на авианосец ещё в июле. Однако полноценного опыта истребительных воздушных боёв на «Корсаре» британские пилоты, по сути, не получили. Скорей он был даже отрицательным, действуя против немцев (удары по «Тирпицу») при полном господстве англичан в воздухе, они больше занимались штурмовкой наземных или морских целей.
Ныне, в формирующейся ударной волне, эти почти 6-тонные машины, лучше всего приспособленные для боя на больших высотах, шли выше всех, имея задачу атаками сверху отсекать противника от пикировщиков. Либо же пытаться вытянуть русских со средних и малых высот наверх, где тяжёлые американцы с мощным мотором будут иметь преимущество. Хотя никто из британских скуадрон-лидеров и флайт-лейтенантов[35], зная тактико-технические характеристики советских истребителей и в целом всё же проникнувшись осознанием, с какого класса лётчиками им придётся сражаться, на это особо не надеялся.
Против лёгкого в манёвренном бою «Яка» на средних высотах прекрасно подходил Seafire – чистый британец, сочетавший и скороподъёмность (приоритет на вертикали), и хороший потенциал на виражах. При том, что в обновлённой модификации в приближении максимальной взлётной массы этот истребитель кампании Supermarine тоже тянул к пяти тоннам.
Часть «Сифайров» – три флайта охотников, не связанных задачей прямого прикрытия, также держали высокий эшелон, остальные семь рассредоточились где-то посередине между пикировщиками и торпедоносцами, так чтобы поддерживать с ними визуальный контакт, иметь быструю реакцию для защиты и тех, и других.
Кроме всего прочего, в непосредственной опеке «Эвенджеров» участвовала неполная эскадрилья «Файрфлаев» – этот двухместный и не менее тяжёлый истребитель благодаря использованию усиленных закрылков превращался в подобие полутораплана с весьма хорошими показателями по манёвренности на малых скоростях.
Идущие в авангардном составе «Барракуды» модификации ТВ Мк. II, оснащённые радарами дециметрового диапазона с дальностью обнаружения крупных надводных целей до 66 километров, должны были закрыть (по месту и по факту) вопрос с более точным указанием местоположения эскадры русских. В распоряжении британцев оставалось ещё три таких самолёта. Растянувшиеся поисковым веером разведчики вполне перекрывали необходимый сектор, чтобы не пропустить врага.
Формирование больших ударных групп – с этим у англичан, в отличие от известных авианосных коллег, американцев и японцев – всегда получалось неважно. Однако в этот раз они расстарались, подойдя к делу организации самым тщательным образом, собрав из авиагрупп двух своих тяжёлых авианосцев две отдельные, но взаимосвязанные волны.
Учитывалось подлётное время, необходимое для выхода в район нахождения неприятеля, учитывалось, что за это время вражеские корабли покроют какое-то расстояние и, возможно, они сменят курс.
Наряду с этим, руководивший всем боевым вылетом групп-кэптейн (group captain) понимал – придётся очень постараться, чтобы выйти на противника, сохранив координацию между всеми элементами. Как понимал и то, что едва начнётся бой, всё только усложнится. До полного раздрая. И тогда каждая эскадрилья будет выполнять предписанное задание самостоятельно.
Немаловажным плюсом офицер считал сложившиеся погодные условия: бóльшая часть небосклона была усыпана слоисто-кучевыми облаками с разрывами по разным эшелонам, что было благоприятно для ударных самолётов, но не для кораблей, даже если те ожидают атаки.
«От радаров за тучами, возможно, и не спрячешься, – рассуждал групп-кэптейн, – но у экипажей пикировщиков имеются хорошие шансы для визуально незаметного выхода на цели».
Динамика событий развивалась встречно.
Идущая на правом фланге дозорная «Барракуда»: авиаспециалист 2-го класса в световых всполохах осциллографа радарной установки выявил признаки надводных целей, схватился за ларингофон внутренней связи, затребовав у пилота довернуть машину, чтобы сориентировать антенны и яснее распознать зацепку… потратив полторы минуты на свою уверенность в обнаружении. За это время самолёт успел пролететь десяток километров, входя в зону действия ЗРК «Шторм».
С крейсера «Москва» вели ситуацию много загодя. Такие цели, как полезшие на пятикилометровый эшелон поршневые монопланы, были взяты радиолокационной станцией «Восход» с предельной дистанции, едва те появились в поле обзора. На выносном индикаторе РЛС пункта управления рябило отметками – многочисленные точки с переменными скоростными показателями, кучкующиеся на разных эшелонах. Специалисты в БИЦ пока не выделяли какого-то конкретного построения вражеских эскадрилий, сообщая лишь текущий пеленг, общий курсовой вектор и неукоснительно на сближении меняющуюся дистанцию. Карта-сетка секторального ПВО была предварительно испещрена трассами проводки воздушных целей, предполагая отражение атак с различных высот и направлений.
Картинку дополнила появившаяся из-за радиогоризонта низколетящая россыпь. И по мере того, как сами британцы формировали свои группы, операторы смогли определиться с тактическим рисунком воздушного налёта, безошибочно выявив две атакующие волны, ненамного разделённые по дистанции и в небольшом интервале друг от друга. Никаких тебе заходов с флангов, намечающихся фальшь- или отвлекающих ударов. Но это, наверное, пока… И если успеют.
Оба «Шторма» взведены, в носовой части корабля двухбалочные пусковые установки с нанизанными ракетами развёрнуты на траверз, сориентировав углы наведения, замерев наизготовку.
Происходил запуск боевого цикла. Данные с радиолокационных постов поступали в бортовые ЭВМ. Система обработки информации могла взять на сопровождение сразу до пятнадцати целей, определяясь по дальности, азимуту, углу места, подав указание на систему приборов управления стрельбой, высчитав в режиме экстраполяции траектории полёта и координаты упреждения – точку встречи ракеты и цели. Отбивались валидные, закреплённые в правилах боевой работы доклады и команды, озвучивались все предстартовые указания.
– Курсовой параметр целей в пределах возможностей комплекса. Принять целеуказание! Режим основной!
– Пост № 1, целеуказание принято! Сопровождаю!
– № 2 – принято! Цель в параметре. Сопровождаю!
– Стрельба по готовности.
– Есть «первый»… пуск!
– «Второй» – пуск!
С обеих установок почти одновременно сошло по ракете, уходящих вверх по наклонной траектории. Изначально густые дымные шлейфы по мере удаления изгибались неровными белыми дорожками, сходя визуально на нет, становясь всё менее заметными.
На мостике корабля секундомерным отсчётом начали принимать первые доклады. После схода ракеты с ПУ параметры её работы и встречи с целью фиксировались для последующего анализа, делая соответствующие записи в журналы. Каждый расчёт ЗРК – № 1 и № 2 вёл свои цели и свои счета сбитых.
– «Первый» – подрыв! «Второй» – угол места падает, есть поражение.
Сражение началось.
«Тихоходные поршневички, что семечки – только щёлкать», – продефилирует мыслёй будто отстранившийся, позволивший подчинённым делать своё дело командир. Но если честно, не так-то уж и беспечно, но проведя в уме скороспелый расчёт. Взяв навскидку все переменные, включающие необходимые манипуляции на предстартовую подготовку, подлётное время ракет с сокращающейся с каждой минутой дистанцией. А самолёты англичан всё ближе и ближе…
«Если б нам идти в одиночку, и массированная атака вся на нас, перещёлкать все эти семечки до ближней зоны… хм, могло бы просто не хватить времени. Стóит задуматься».
Ещё не успели сработать командно-исполнительные связи – с начала радарного обнаружения эскадры русских прошли минуты две-три – никто ничего не ожидал, ничто не предвещало наличия поблизости вражеского истребительного патруля… а они вдруг начали терять первые машины.
Сразу досталось идущим в авангардном опережении высотным истребителям «Формидэбл». Пилот с затесавшейся меж ними дозорной «Барракуды», поглядывая то на приборную доску, то по сторонам, с некоторым недоумением проводил взглядом падающий с тонкой струйкой дыма «Корсар» – ни тебе пушечно-пулемётных очередей, ни видимых повреждений – летит самолёт… падает самолёт. Последнее – всплеск и круги на воде.
Затем прямо у него на глазах чем-то сшибло второго, идущего буквально по соседству чуть впереди. В этот раз причина поражения явственно наблюдалась ударившей снизу огненной вспышкой.
«Барракуда» шарахнулась в сторону, ложась на крыло, отваливая с нисходящим скольжением. С её борта оператор установки РЛС, сглатывая от спонтанной невесомости подкативший к горлу комок, взахлёб передавал выявленные координаты – направление на корабли противника, – смысла в соблюдении радиомолчания уже не было.
Для воздушных стычек вот такие неожиданные атаки из-за облаков или со стороны солнца вполне характерны. Лётчики-истребители ещё сохраняли выдержку, держась друг друга, оставаясь в прежнем строю – лишь начали дёргано, точно нервически, поигрывать курсовой устойчивостью, покачивая на элеронах крыльями, головы за остеклением фонарей крутились на все сто, выискивая угрозу, подбадриваясь на общей частоте: «Смотрим… смотрим… где они, где? Снизу никого… не вижу».
Второй «Корсар»… Прямо под его коком внезапно раскрылся букет огненно-дымной шрапнели, иссекая осколками двигатель, вмиг задымивший, теряющий мощность, как обрубленного увлекая вниз.
Эфир взорвался: «Кто?! Откуда?! Где неприятель? Что за чертовщина!»
Рой тупоносых машин с конструктивно изломанными крыльями заметался, продолжая нести потери, не видя ни самого противника, ни его пулемётных трассеров – тугие, зримо пульсирующие жгутики, дающие направление на агрессора и некий шанс ввязаться на равных. Ныне же, когда небо вокруг тебя закручивается «бочкой»[36], чередуя верх-низ, глаза ищут тёмные силуэты или тени вражеских самолётов, а видят лишь стремительные дымным росчерком тени из ниоткуда, не поддающиеся ответной реакции, разящие соседей… если не тебя самого.
Командиры эскадрилий, недоумевая, кто же их так точно и умело выносит, окриками пытались скоординировать действия. Первым здраво стал мыслить тот, кому было положено опомниться. Ещё не успевший ничего толком накомандовать групп-кэптейн при обязанностях контролёра атаки, издалека в разрывах слоистой облачности заметил тянущиеся демаскирующие дымные хвосты, угадав в них ракеты. Видел, как одна забрала пикировщик: сначала вспышка непрямого попадания под брюхом самолёта, и через миг детонация подвешенной бомбы – страшное и фееричное зрелище разнесённой в клочья «Барракуды». Офицер утратившим лаконичность голосом известил: «Смерть приходит снизу-спереди», на эмоциях вместо «угроза» употребив именно «doom»[37].
Поправ изначально декларируемую согласованность, среди скуадрон-лидеров и флайт-лейтенантов в неизбежном выплеске адреналина и потребности что-то делать случился разлад, нарушивший слаженное построение. Каждый принимал решение за себя и за своих. Кто-то импульсивно увёл эскадрилью от опасности снизу – вверх… и их настигало уже там. Кто-то более напористый кинулся навстречу нераспознанному противнику, пробивая слой облаков ниже.
Примечательный штрих. Лейтенант Айвор Морган из 894-й эскадрильи[38], у которого буквально перед носом был сбит ведомый идущей с превышением пары, с перепугу бросил свой «Сифайр» в резкий вираж. Наверное, и не догадываясь, что тем самым практически сумел уклониться от сработавшей от дистанционного взрывателя предназначавшейся ему ракеты. Покувыркавшись, с изуродованной плоскостью и обвисшим элероном Морган развернулся, потянув домой, вцепившись двумя руками в рычаг управления, отжимая влево, старательно удерживая норовящий опрокинуться на крыло истребитель.
Возможно, подобный подранок от воздействия ракет оказался не единственный, но лейтенант первый сел на свой авианосец и первым составил подробный отчёт о внезапной атаке врага неопознанными высокоточными средствами.
С того момента, как всё началось, строй пикировщиков нарушился, восемь «Барракуд» уже падали вниз, волоча за собой клубы чёрного дыма, распуская вслед зонтики парашютов. Ещё два повреждённых бомбардировщика повернули назад, управлявшие ими пилоты отчаянно надеялись дотянуть израненные машины до ожидающих возвращения палуб.
Из группы «Индефатигейбла» урон понесли идущие на четырёх тысячах «Сифайры».
Офицер-координатор пытался обозреть всю ситуацию целиком (точно пастух всё стадо), срочным запросом в эфире у командиров сориентироваться по ситуации. Вдруг выяснив для себя характерное – низколетящие торпедоносцы, как и прикрывающие их на превышении 1300 футов «Файрфлаи» атаке не подверглись…
Долго не раздумывая, приказал всем уходить с высоких эшелонов!
Из каких соображений? Скорей из интуитивных, исходя из того, что вот – лежало на поверхности. И как бы там ни было – решение, относящееся к разряду спонтанных, оказалось своевременным. Сам того не подозревая, командир соединения нарушил некие «распаковки» неприятеля.
Полковник Покрышев, командир авиагруппы «Чапаева», вёл своих.
Вёл достаточно компактной группой, не было нужды преждевременно рассредоточиваться, информация о противнике поступала в исчерпывающем виде. На взгляд полковника, даже в слишком исчерпывающем: согласованность, а точнее, специализация в очерёдности – сначала ракетного удара, а уж потом выхода на сцену истребителей, была выверена до минут и до считаного километра дистанций. Поэтому тот, кто сидел на радиочастоте координатором (тактическое управление на данном, начальном этапе возлагалось на КП «Кондора»), озвучивал группе перехвата чёткий курс и скорость полёта, назначая, как скоро надо будет выходить в атаку.
Помимо прямых указаний, в дополнение Покрышев держал на коленке планшет с тактичкой, расписанной по тем же минутам, видел, насколько мало с наступления активной фазы у него этих минут.
Приняв по радио уведомление, что с пусковых «Шторма» сошли первые ЗУРы, полковник покачал крыльями, привлекая внимание подчинённых, по-прежнему не желая нарушать радиомолчание. Он ещё рассчитывал, что заходя с угла во фланг, для противника они пока не разгаданы.
Обратив на себя внимание, командирская машина начала плавный подъём. Вслед с таящегося бреющего на удобные и оптимальные для боя средние высóты полезли и остальные истребители: «троечки» второй, третьей и четвёртой эскадрилий, «девятые»[39] – пятой и шестой.
Поглядывая на циферблат часов, отсчитывая отрезок времени, отведённый по плану на ракетный удар, Покрышев успел подумать о быстро сокращающейся дистанции: «Скоро. Ещё немного и…», как его нагнал ведомый, жестикулируя, мол, глянь туда, указывая налево.
Повернул голову…
Сквозь усеянное облаками, а где и чистое пепельной голубизной небо тянулись белые дорожки выхлопа, оставляемого ракетами. Проследив за ними взглядом, снова возвращая обзор вперёд, наконец, увидел главное: тёмные точки вдалеке, их было много – с двух авианосцев. Они скоростью сближения, острым намётанным зрением и просто пониманием быстро превращались в распластавшие крылья-крестики, всё ещё похожие на стаю вóронов, неестественно ранжированных строем. Этот строй вследствие ракетной атаки – там-сям возникающие белыми ватными клубочками разрывы – начинал ломаться. Ещё сохраняя инерцию направления полёта, чёрные крестики стали рассыпаться, уходя на низы, кто-то тянул чёрные дымы, кувыркаясь, теряя части себя обломками.
В виду противника рука словно сама потянула ручку газа, набирая мощь и скорость.
«Пора?»
Планшет соскользнул с колена, застряв за креслом, радио контролёра молчало.
«Пора! Сейчас мы вам…»
Ещё было не пора, но встречно сходящиеся скорости оказались выше расчётных.
– «Шестая» – торпедоносцы на сорок пять ваши, «пятая» – вам разобраться с эскортом, – распределял он эскадрильи по целям, указывая градусы направления и километры высоты, – «вторая» – ваша группа справа на четырёх с половиной, «третья» и «четвёртая» – за мной!
Можно было упрекнуть Покрышева, что он немного форсировал события. Но и его понять можно – слишком мал был зазор от порога дальности противодействия зенитных ракет (55 км) до зоны ответственности истребителей воздушного заслона. И слишком близко от кораблей им предстояло встречать атакующих англичан – для торпедоносцев проскочить пару десятков километров до рубежа сброса это буквально минуты. А его, командира авиагруппы, ещё на стадии планирования что Осадченко[40], что замполит основательно накрутили, и всем остальным перед вылетом мозг выели – допустить врага к кораблям нельзя ни в коем случае.
Крейсер «Москва»…
Операторы радиотехнического дивизиона, ведущие мониторинг ситуации по методичному отстрелу воздушных целей, наблюдали на своих радарных экранах несколько десятков (более сотни) засветок, россыпи на разных высотах – выше, ниже, в разносе меняющихся дистанций.
Селекция целей ещё сохранялась, однако преждевременный выход на перехват истребителей «Чапаева» – заметное и неукоснительное сближение – нарушал внятную и относительно устойчивую картинку. Ко всему, британские самолёты верхних эшелонов резво ушли на средние высоты, где и должен был вот-вот завязаться встречный воздушный бой. Иначе говоря, всё быстро шло к тому, что разобрать, где свои, а где чужие скоро станет невозможным.
Пытаться притормозить Покрышева уже было неактуально, офицер, поддерживающий канал связи непосредственно с командиром авиагруппы «Чапаева», попросту не успевал – очевидно, противники уже видели друг друга визуально, кинувшись навстречу. Довеском вдруг выяснилось, что радиостанции противоборствующих сторон настроены на одну волну, и понятно, сейчас пилотам переходить на резервную уже не с руки. Эфир вмиг заполнился английской и русской речью – окриками предупреждений, указаниями, командами, и всё это в эмоциональном предвкушении схватки.
Операторы БЧ-7 ещё сопровождали отдельно идущие самолёты противника, подпадающие под категорию уверенная цель, однако предупредили о вероятности ненароком сбить своих.
Капитан 1-го ранга Скопин на ходовом мостике поддержал опасения:
– Надо заканчивать. А то будет нам дружественный огонь, friendly fire, как говорят наши визави, чтоб им всем опоноситься.
– Несход ракеты! – вдруг выдал пост ЗРК № 1.
– Что за дела? – немедленно отреагировал кэп. И не дожидаясь ответа, приказал: – Всё! БЧ-2 – дробь! «Первому» немедленно разобраться в причинах сбоя. Жду доклада.
Сидящие за пультами мичманы из группы управления ракетным оружием довели свои уже выпущенные ЗУРы, отрапортовав: «Такая-то по счёту цель поражена».
С ходового мостика было видно, как возле не отстрелявшейся пусковой установки – ракета даже не встала на направляющие при подаче из погреба, – появилось несколько человек, закопошились. Командир зенитно-ракетного дивизиона лично отправился разбираться в причинах неисправности.
Вместе с тем всё шло своим чередом. Поступили доклады о расходе. Была дана предварительная оценка результативности из расчёта скорострельности, интервалов между пусками, выбора удобных целей, переноса огня на другие группы самолётов. В том числе зафиксировано минимум два срыва атаки с уходом ракет с траектории.
В целом Скопин мог бы быть довольным – своё заявленное обещание они выполнили. Примерно около тридцати британских самолётов было сбито или повреждено с невозможностью дальнейших действий. Расход составил тридцать четыре ракеты. Хотя под это дело он готов был выложить на стол до пятидесяти единиц. Не задалось…
Распоряжением «Лево на борт» крейсер поворачивал вслед ушедшей эскадре, сейчас для них также имело смысл как можно больше разорвать дистанцию с приближающимися ударными волнами противника.
И ведь до недавнего времени они с полным основанием могли рассчитывать на успех. Простая арифметика: обладая превосходством в общем количестве самолётов (в разы), можно было тактически распределить задачи. Свободные «Сифайры» и «Корсары» в статусе охотников завяжут с русскими бой на выбивание, в то время как истребители непосредственного прикрытия будут срывать атаки на опекаемые ими ударные группы, не вовлекаясь в «собачью свалку»[41]. Добавить к этому собственные оборонительные точки пикировщиков и торпедоносцев – свинца и огня на каждый самолёт неприятеля приходилось более чем достаточно.
В битвах с люфтваффе англичане успели наработать некие стандартные и нестандартные приёмы, вполне успешно показавшие себя против такого грозного противника, как германские эксперты[42]. Логично, что опыт советских ВВС оттачивался на тех же оппонентах, в тех же почти классических правилах воздушного боя. Чего-то сверхвыдающегося от русских никто из пилотов британских FAA[43] резонно не ожидал, более того, многие уверенно ставили свой класс выше.
– В конце концов, неуязвимых нет, били матёрых асов Геринга, справимся и со сталинскими соколами, – звучало на инструктажных брифингах. Разбегавшиеся по боевой тревоге по самолётам лётчики, влезающие в тесные кабины «Сифайров», перешучивались, бравируя:
– Ну вот, пропустим очередную стряпню местного корабельного кока. Что ж, джентльмены, на ланч сегодня у нас будут поджаренные «иваны».
Так что присутствия духа и решимости им было не занимать.
Понесённый первичный урон от ракет не сильно повлиял на индивидуальный настрой экипажей. Сбитые вышли из игры, и их голоса уже не тревожили воображение. Даже смотрящий групп-кэптейн не до конца и не полностью оценивал количество выбывших. Да, пусть и списав что-то на безвозвратные (в приблизительной оценке), он по-прежнему мог рассчитывать на преимущество в свободных истребителях. Минимум на паритет.
Реальность оказалась иной. Вдруг выяснилось, что здесь всё стандартное и запланированное работает мало. Русские разбивали все схемы. Ворвавшись в боевые построения англичан, схлестнувшись в первом огневом контакте и взяв первые жертвы, советские машины хаотично рассы́пались по пространству боя, неожиданными наскоками оказываясь везде и всюду. Разбивая собственные слётанные пары, они действовали эффективно и в одиночку, лишь накоротке порой отвлекаясь от непосредственно выбранных целей, по необходимости стряхивая с хвоста товарища какой-нибудь вцепившийся «Корсар».
– Только так, – взвешивал и, в свою очередь, наставлял на предполётном инструктаже Покрышев, – при том неравенстве сил для нас тактика боя только на непредсказуемых и хаотичных элементах маневрирования! Только так своим меньшим числом удастся оттянуть на себя как можно больше истребителей. Только в этом случае назначенные эскадрильи смогут относительно беспрепятственно выбивать несущие угрозу кораблям торпедоносцы и бомбардировщики.
Подчинённые, немало кто равный командиру по званию, кто-то с бóльшим боевым опытом и количеством сбитых, кивали, соглашаясь и понимая – на методичную работу у них попросту не будет ни времени, ни километро-милей расстояния. И конечно же никто англичан за слабаков не держал.
Сейчас, когда их стая неслась на сближение со стаей врага, и те чёрные распластанные крылья-крестики уже видимо рисовались силуэтами судорожно перестраивающихся, выходящих на контрперехват машин, главная их доктрина – истребительного подразделения авиагруппы лёгкого эскадренного авианосца – строилась на тактическом результате активного действия: атака, удар, вираж, атака!
Небо летело навстречу, вздыбливаясь и ухая вниз, открывая на мгновенье панораму подкупающе ровного рябью океана, переворачиваясь, пробивая облака в стальную синеву зенита, ловя силуэты с опознавательными кругами Королевских ВВС: в профиль, в фас, в хвост, спуская в эту вёрткую или упрямо огрызающуюся цель трассирующие желания – уничтожить!.. Слыша, как барабанят по собственному фюзеляжу чужие надежды – уничтожить!.. вновь кидая машину в пируэт, срываясь у кого-то в прицеле.
Британские 827-я и 830-я эскадрильи пикировщиков Fairey Barracuda, уже понёсшие ощутимый урон от ракет, на смене эшелона ещё более утратили организацию, и без того затруднив работу эскорта, – попробуй прикрыть растянувшееся, разбрёдшееся стадо. При появлении новой угрозы пилоты неуклюжих бомбардировщиков попытались собраться, чтобы поддерживать друг друга огнём стрелков задней кабины. Из этого мало что получилось – приходилось всячески уклоняться от перечёркивающих небо пристрелочных и разящих очередей, всё одно нарываясь на полноценные пушечно-пулемётные, подранено или навсегда отправляясь вниз к воде.
На долю «Сифайров» и «Корсаров» пришлось, казалось бы, не так уж много противостоящих русских, однако…
Скоротечная фрагментарность схватки подчёркивалась именно тем, что англичане субъективно назвали «хаотичное маневрирование». Никто из советских лётчиков не завязывался на один хвост – жалил, отворачивал, выходя на виражах и «свечках»[44], снова кусая уже другую цель. Тем самым один истребитель занимал внимание сразу двух, трёх и более оппонентов.
Такая несвязанная тактическими двойками модель боя была, наверное, неизбежна. Подборка лётного состава на эксклюзивный советский авианосец происходила из принципа «если брать, то лучших». Каждый из них уже был сформировавшимся асом, лидером. Уже утвердившимся ведущим, в конце концов. Они всё равно, невзирая на боевую дисциплину и устоявшуюся целесообразность ролевого разделения во взаимодействии – вести сражение прикрывающей друг друга парой, разбились бы на волков-одиночек, справляясь с делом (и справившись!) при этой, как кому-то могло бы показаться, одиночной уязвимости. В общем, если бы англичане не имели общеусреднённое представление о том, сколько «красные» могут выставить против них боевых машин с лёгкого, по сути эскортного авианосца, многие из них готовы были поклясться, что это количество раза в полтора больше.
В трёхмерном пространстве на десятки километров воздушной среды завязалось то, что зовётся той самой «собачьей свалкой».
В небе вдруг стало тесно, десятки самолётов – истребители во взаимном истреблении – сошлись в огневом контакте, тут же расходясь, разбегаясь для захода на повтор, вычерчивая виражные петли, взмывая на вертикали. Накал страстей и нервов рос в экспансивной прогрессии, в эфире перекликалось забористым русским матом и избирательной руганью на английском – мотивированные на равных, британская холодная решимость столкнулась с отчаянной решимостью русских!
Выжившие «Барракуды» поспешили нырнуть в ближайший протянувшийся ниже фронт облачности.
Английские эскадрильи среднего эшелона в тот момент находились под атакой – лёгкие «троечки» россыпью ворвались в боевые порядки, навязывая «Сифайрам» и «Корсарам» бой на горизонталях. Тяжёлые американцы, нырнувшие на три тысячи от ракетной угрозы, пользуясь своим преимуществом мощных двигателей и инерцией манёвра на большой скорости, вновь полезли наверх. Однако их попытки атаковать с высоты в пикировании быстро утратили актуальность. Кто-то из британских лётчиков отчасти уже принимал тот факт, что, возможно, придётся делать упор на оборонительную тактику, лишь бы защитить ударные эскадрильи.
А прикрывающие торпедоносцы «Файрфлаи» и не пытались впутываться в закрутившуюся догфайт-кутерьму, вцепившись в оборону, предпочтя отбиваться от атакующих по американской методике spray and pray[45], суть которой была в том, чтобы не столько поразить вражеский самолёт, сколько, стреляя издалека с претензиями на упреждение, отогнать противника с атакующего курса.
Практически все они выбыли из игры, однако смогли удержать остервенело напирающих русских. Ударный костяк Grumman TBF Avenger за малым исключением сохранил свой потенциал, продолжая настойчиво двигаться вперёд.
Обронив с ведомым пару вражеских истребителей в первом заходе[46], полковник Покрышев поспешил уйти «свечкой» на вертикаль. Руки, ноги отработали доведённый до автоматизма «иммельман»[47], вынося «Як» на спину, выправляясь «полубочкой», тем самым возвращаясь к месту, обозревая уже видом с вéрха.
На самом деле, относительного вéрха, так как картина – ожидаемая: не он один, кто-то тоже ушёл на потолок, какие-то из самолётов оказались ниже, какие-то выше, скученные в эскадрильи построения британцев распались, возможно, сохраняя и реализуя слётанные тактические приёмы, звеньями или индивидуально. В небе начали закручиваться хороводы – попытки переиграть соперников в атаках с выгодных ракурсов.
Издалека отличить «Яки» от «Сифайров» сложно. Идентификация самолётов противника на большом расстоянии возможна скорее по раскраске, отличной у оппонирующих сторон. Силуэты не опознать – только цвет! Лишь намётанным глазом полковник угадывал своих по манере поведения в воздухе. И конечно, оценивал результат их первого налёта – с десяток дымных полос, оставляемых горящими машинами (он ни в какую не верил, что среди этих подбитых есть кто-то из его ребят).
Однако времени на созерцание и раздумья не было. Крутнув головой, удостоверившись, что ведомый ещё при нём, не обременяя себя командой в эфире, качнув крыльями (напарник наверняка и без того весь внимание), полковник повёл своё звено в новый заход.
С целями определилось самопроизвольно – два «Корсара», очевидно, выскочившие из-под атаки, форсируя моторы, усиленно лезли вверх на выгодный для них эшелон, подставляя выкрашенные в светлый цвет животы. Навострившуюся пару советских «яков» они явно не заметили. В какой-то момент один из британских пилотов, будто поняв свою ошибку, начал вращение вдоль оси, открывая себе поле зрения. Увидел! Дёрнулся от реакции ухода.
Поздно… оба уже находились под атакой! Очередь Покрышева прошлась вдоль всего планера, убедительно прошивая дюраль из скорострельных УБСов[48]. Дожатая гашетка ШВАК[49] запоздала – противник уже выскочил из прицела, скорость и инерция пронесла Як-9 полковника мимо. Не задерживаясь, не оглядываясь – попал ли сам, попал ли ведомый.
Если б было кому в этой развернувшейся воздушной свистопляске отслеживать и вести подсчёт побед, однозначно бы записали:
…ведомый, старший лейтенант Смирнов[50], беспрепятственно поразил подставившееся брюхо F4U полным бортовым залпом;
…из всей очереди Покрышева – всего две или три крупнокалиберные 12,7‐мм пули, пришедшиеся в область капота, пробившие головки цилиндров, застрявшие где-то в потрохах двигателя… – радиальный воздушного охлаждения «Пратт-Уитни» в 2450 лошадиных сил порой прожёвывал и не такие повреждения. Однако в этот раз что-то пошло вразнос, обрывая шатуны, нарушая балансировку, выплёвывая через систему выхлопа первые лоскуты возгорания.
Взмывший в горку «Корсар», воя перебойным звуком, дошёл до грани сваливания, потерей удельной мощности провисая, сваливаясь на крыло. Гравитация тащила его вниз, и ни крылья, ни чихающий, исходящий дымом и пламенем мотор уже не могли удержать машину в воздухе.
Уходили переворотом с небольшим снижением.
Внимание Покрышева привлекло несколько сбившихся в подобие строя самолётов, видимо, кто-то из британских звеньевых вновь сумел сколотить из разброда «Барракуд» ударное крыло.
Бросив коротко в эфир, обозначив свой командирский позывной, не обращаясь конкретно – кому дóлжно, тот отреагирует: «Я – первый, я – первый! Внимание! Пять пикировщиков с прикрытием – направлением на север», – полковник переложил ручку вправо от себя, креня машину, выбирая целью два концевых бомбардировщика, старательно пытающихся догнать основную группу. Прикрывал их одиночный «Сифайр», и его надо было нейтрализовать первым делом.
Чуть утяжелил винт, двинув рычаг газа, начиная разгон в пологом снижении. Электротахометр уверенно выводил к максимуму, как вдруг в набирающий обороты рокот вторглось перебоем:
– Этого мне ещё хватало! Движок?
Движок… Стоящий на внесерийных палубных «яках» ВК-107А выдавал превосходные характеристики, но по сути он был перефорсированным, работая на пределе ресурса. Такова цена. И когда от 1600-сильного зависит твоё всё…
Быстрый взгляд на приборы, выискивая проблему по стрéлкам-шкалам. Внешних повреждений он не помнил – когда в тебя попадают даже мелкокалиберной пулей, во фюзеляж ли, плоскость, слышно каждый удар, каждый щелчок. Сам же прислушивался – к машине привыкаешь, воспринимая её на уровне звуков, вибраций, что отдаются на руки-ноги, через спинку кресла… нутром чуя.
Прокашлявшийся мотор вновь заурчал ровным звуком.
– Пошёл, пошёл, тудыт его через коромысло! – воспряв, сам готовый рычать, как все двенадцать горшков[51] на форсированном выхлопе! Беря круче, правя на заюлившую в прицельной рамке чёрную растянутыми крыльями кляксу вражеского самолёта. Сбой в двигателе был не более чем минутным, и никак не повлиял на намерения.
Скованный обязанностями эскорта, «Сифайр» оказался лёгкой целью. Вместо того чтобы уйти в свободно-активное маневрирование, управлявший им пилот старался непременно держаться за опекаемых, лишив себя инициативы.
Отправив его штопорящим факелом вниз, получив волю, полковник, спокойно обходя сектора обстрела задней оборонительной точки, в два приёма поджёг замыкающую приотставшую «Барракуду». Бомбардировщик задымил, теряя высоту, экипаж покидал машину, один из них зацепился парашютом за хвостовое оперенье, беспомощно волочась на привязи. Подобные явления в авиации случаются. Этим, бывало, грешили американские «Аэрокобры». Вымученный британцами палубный шедевр, Fairey Barracuda, отличался высоко расположенными на киле стабилизаторами, так что…
– Немудрено, – пробормотал Пётр, невольно сочувствуя чужой нелепости и, зазевавшись, едва не поплатился.
– Командир, сверху! – предостерегающий окрик на общей радиочастоте.
Без раздумий – увод машины в сторону переворотом на крыло. Сверху сыпануло, зацепив правую плоскость – ды́ры, слава те господи, не от пушечных попаданий – от крупнокалиберных «браунингов».
«А вот и виновник!» – едва цепляя краем глаза нечто, уже промчавшее в сотне метров справа, всё же распознавая «Корсар» по характерному поджарому профилю.
Наперерез ему, закручиваясь в штопорящем полуперевороте, пронёсся ведомый, полосуя вдогонку бело-дымными просеками исходящих огнём пушек. Оба самолёта мигом выпали из поля зрения. Более тяжёлый «Корсар» на разгоне неизбежно отрывался.
Вспышка досады из-за собственной неосмотрительности быстро улеглась. Глянув на правую плоскость, Пётр попробовал оценить степень ущерба – не нравилось ему место попадания. Силовой набор цельнометаллического крыла истребителей Яковлева под палубный вариант со складывающимися сегментами пришлось серьёзно переработать, идя на компромисс между прочностью и прежней лёгкостью конструкции.
Ещё раз подумал, что если бы это были 20-мм, уж отлетался бы. Так или иначе, мысленно отмахнувшись. Сейчас отвлекаться на неочевидные измышления у него не было минуты ни промедления, ни жизни.
«Надо давить, давить в темпе, пока они в смятении от такого-то нашего напора. Да чтоб меня… Драться с вдвое, втрое превосходящим противником нам не впервой!»
Ручку на себя, рычаг газа на себя, облегчить винт, движок взвыл, «Як» вновь взбирался на оптимальный тактический эшелон, где можно в полной мере использовать манёвренно-весовые преимущества, получить необходимый обзор и выбор следующего объекта атаки.
А британцы будто только сейчас осознали, насколько всё серьёзно и убийственно. Тональность выкриков в эфире на английском наречии подскочила до захлёбывающегося пика. Самые рьяные из пилотов ожесточились, выкладываясь с большей отдачей, что сразу было отмечено по резко изменившейся манере пилотажа.
Вот теперь по-настоящему стало жарко! И казалось, куда уж больше, но и Покрышев только ещё более ускорился, не отвлекаясь ни на эмоции, ни на давящие и выворачивающие ощущения при перегрузках, работая как автомат, почти на рефлекторных посылах. В какой-то момент в череде атак, пилотажных пируэтов, с учётом частых переворотов сверху на голову – в «бочках», петлях, полупетлях – для него всё сплелось в сплошном сумасшедшем калейдоскопе. Едва в рамке прицела появлялся силуэт, быстро определившись, не свой ли – враг, он жал на гашетки и, не цепляясь за цель зубастым псом (слишком велик был риск, что тебя в этот момент не сцапают сзади, снизу, сбоку, сверху), бросал свой Як-9 в вираж. Опыт позволял за то короткое время огневого контакта положить в чужой фюзеляж или плоскости дробь 12,7-мм пулемётных или один-два 20-мм пушечных.
Новая жертва случайного выбора – пойманный на выходе из пикирования, уже миновавший низшую точку «Сифайр». На траектории проседания разогнавшаяся машина испытывает сильные перегрузки и крайне худо реагирует на элементы управления. Английский лётчик если и увидел угрозу, уклониться мог лишь с трудом – вектор инерции упрямо тащил потяжелевшую машину под выстрелы. Выход – прервать резкий набор, что он и сделал.
Вцепившийся накоротке Покрышев только того и ждал, читая все действия противника наперёд – опыт!.. уверенно вписал пунктирную пулемётную линию в подставившийся борт.
Закрутившийся на восходящий «бочке», потерявший и скорость, и ориентировку злосчастный англичанин… Покрышев его быстро нагнал, успев рассмотреть трясущего головой, срывающего намордник кислородной маски пилота. На очередном витке за бликами фонаря, где белело лицо конвульсирующего человека, брызнуло красным, растекаясь по остеклению.
«Сифайр» клюнул носом и как подкошенный пошёл вниз.
Отпечаток этого фрагмента, наверное, навсегда останется у Петра Афанасьевича в памяти. Война машин в воздухе, по сути уже давно ставшая дистанционной, обезличенной – когда давишь на гашетку, поражая самолёт, как некую номинальную цель, тем не менее ещё не утратила вот таких прямых и близких контактов глаза в глаза, пробуждая спрятанный в глубинах человеческого восприятия биологический механизм протеста на убийство себе подобных.
Следующим он дожал удачно подвернувшийся нерасторопный, подвисший на потере скорости «Корсар». Тот отчаянно юлил, но с каждым витком виража лишь ещё более терял потенциал, проигрывая на горизонталях более лёгкому «Яку». В итоге рухнул в воду.
А Покрышев нет-нет да и поглядывал на часы: «На этого ушло аж три минуты!» Спеша в набор, наращивая километры в час. Круговерть боя – рваная последовательность собственных атак, а также неизбежность реагировать на выпады противника вывели его на слишком малые высоты, где не было свободы манёвра.
Два «Сифайра»! Видимо, хорошо слётанная пара, заставившая самого повертеться ужом.
«Ловкие, черти!»
Сначала он зацепил одного. Прокрутившись в размашистом штопоре, англичанин предпочёл выйти из боя, снизившись с тонкой белёсой струйкой дыма к самой воде, направленно потянув к востоку – где-то там, по всей очевидности, находился спасительный плавучий аэродром или на худой конец борт эсминца – подобрать приводнившегося.
Второй в поединке один на один оказался уже не так хорош. Ему бы оторваться, английский «Роллс-Ройс» выдавал на 700 л. с. и где-то на полсотни километров в час больше, однако тот упрямо пытался переиграть на манёвре вёрткого русского, видимо, уже начиная выходить из себя, иначе как объяснить судорожную попытку изобразить лобовую атаку.
Пётр Афанасьевич лишь криво и с превосходством улыбался, англичанин этот был ему явно не ровня. Да и на коротких дистанциях удельная нагрузка на мощность «сто седьмого»[52] плюс массогабаритные характеристики «Яка» обеспечивали советскому истребителю выдающуюся приёмистость.
Исход дуэли: с неизменно меньшим радиусом разворота заход в хвост… огонь на поражение… чадящая чёрным, падающая вниз поверженная машина, и белый купол спасшегося… условно спасшегося, ибо как знать…
Если бы он гнался за результативностью – непременно отметить ещё одной галочкой победу, – то сегодняшние показатели были бы выше всяких ожиданий. Вот только здесь, сейчас, вдали, над океаном ставка определялась иными, куда как более важными приоритетами.
Взгляд на приборы – уровень топлива подозрительно полз вниз, то ли бой на полной тяге двигателя высасывал так бензин, то ли здесь явно попахивало пробитием бака… даже принюхался.
Снова на циферблат – время… сориентировался по месту – далеко ли до кораблей? Остались ли ещё где пикировщики? Как справляется «шестая» с торпедоносцами? Кстати, где они?..
Внезапно слева и справа фонаря со спины прошли дымные трассирующие пулемётные росчерки. Не впритирку, но достаточно близко, заставив инстинктивно вжать голову в плечи, срисовывая в зеркало заднего вида нечёткий силуэт увязавшегося за ним самолёта. Тот был ещё достаточно далеко, и стрельба с такой дистанции выдавала или не очень опытного или слишком перевозбуждённого пилота. Всё бы ничего, но их там…
«Ёпт! Их двое! – намётанный глаз отличил позади дальше ещё силуэт, ожидая по мессершмиттной привычке. – Ща, дав пристрелочными, вслед выложат из пушек». Забыв, что перед ним другие машины[53].
Как ни странно, уже выдёргивая истребитель с линии огня, прилетевшее по пятам очередное он точно идентифицировал как пушечный калибр – 20-мм снаряды белыми шариками зримо умчали далее вперёд.
Развернулся, но…
Те, кто его обстрелял… – один уже падал, вытягивая клубящийся шлейф, второй… Вторым оказался почему-то не услышанный в эфире объявившийся ведомый, очевидно, всё ещё продолжавший приглядывать – всё-таки командир всей авиагруппы.
Это его 20-миллиметровые едва не задели покрышевскую машину, когда он снимал с хвоста командира подобравшийся «Корсар».
И всё-таки бой тактической одиночкой в высокоскоростном режиме выматывал до предела. С начала атаки прошло всего-то с десяток да ещё с пяток минут, а он уже был весь мокрый от пота. Угроза сзади, да с любого направления, вынуждала крутить головой на все 360 градусов, то и дело зыркая в зеркало обзора задней полусферы.
Ведомый снова откололся, отправившись на вольные хлебá. Поэтому полковник полагался сугубо сам на себя, концентрируясь на сиюминутной, почти фрагментарной задаче, забыв о своём командирском управлении авиагруппой, хотя бы в номинальной координации, что, в общем-то, было неправильно.
Тот темп, который был взят советскими асами… надо было понимать, какого это стоило напряжения нервного, физического, подводя человеческий организм к пределам. Когда же люди начали неизбежно выматываться от такого бешеного ритма, врагов – не вдруг – оказалось заметно меньше, и можно было немного перевести дух.
Вот только было бы на то время и резервы – советским эскадрильям, как ни крути, тоже досталось. Оглядываясь, пытаясь что-то понять и соизмерить в матерящихся эфирных перекриках, полковник Покрышев не загадывал, не сомневался, но и не обольщался, непроизвольно задаваясь вопросом: «Скольких сегодня не досчитаемся?»
В глазах памятью воздушной кутерьмы отпечатался объятый пламенем на нисходящей глиссаде до самой воды Як-3 с рисунком орла на носу, как на всех без исключения самолётах четвертой эскадрильи. И крик в эфире: «У меня на хвосте “Спит”, снимите!» Никто на хвосте у него уже не висел, уже сняли, но пылающий истребитель это никак не спасало.
В том же списке, но хотя бы лишь выбывших из боя – лаконичный доклад на общем канале лейтенанта Кирилюка[54]:
– Попадание в двигатель, парѝт, выхожу, буду тянуть к кораблям.
И кто-то в эфире мрачно и негромко – но пробилось среди всех звучащих голосов:
– А Бочкарёв Миша из «пятой» не успел. Вечная парню…
Потом ещё фрагментом – чуть сверху в стороне слева что-то штопорящее, испускающее дым!..
– Ах-х, ты-ы-ы… наш! На плоскостях красные звёзды! Ёрзая на парашюте, изворачивая голову, креня истребитель – его порывало досмотреть падающую машину, досмотреть – раскроется ли парашют.
Всё же заставляя себя не терять бдительности и озираться вокруг – зевать по-прежнему было нельзя. Тем более – вот оно… пропуская под крылом дымный ручей пулемётных пунктиров, изгибающийся излётом, уходящий вниз. Кидаясь в переворот, закладывая крутую дугу, нацеливаясь в ответную атаку, ловя в прицеле, давя на спуск… параллельно с облегчением слыша в эфире:
– Я шесть-три, я шесть-три. Гринберг. Подбит. Подбит. Машине швах. Буду прыгать, – голос капитана из шестой разведывательной звучал убийственно спокойно для данной ситуации, показалось, даже будто немного с горькой усмешкой: – Мужики, пусть не забудут меня подобрать. Всё…
Вот и сейчас, буквально боковым зрением поймав, – наш, с обтрёпанной обшивкой крыла и наполовину вывалившейся из ниши стойкой шасси (разбитый фиксатор стойки или ещё какая напасть). Управлять самолётом в таком состоянии та ещё задача, однако тот настырно лез в драку.
Бортовой номер? – похоже, комэска «второй». Точно он.
Командир 2-й эскадрильи Александр Покрышкин[55] боролся за жизнь. Ныло простреленное плечо – мелкая винтовочного 7,7-мм калибра пуля от «Барракуды» прошла скользя, но кровь липла по всему рукаву, крутить головой вправо стало невыносимо больно. Оттуда, справа, его и подловили – пулевой барабанный грохот, в плоскости дыра, ширясь… А вскоре крыло, захлопав трепещущим от набегающего потока куском дюраля, надломилось, отрываясь с мясом по замкам складывающейся консоли. Самолёт завертело.
Уже почти с потерей ориентации в этом неуправляемом кубаре, руки тридцатиоднолетнего трижды Героя[56] неподконтрольно и лихорадочно дёргали, хватали то, что поможет продержаться какое-то время на воде до обещанной помощи, выбрасываясь наружу из падающей машины.
