Симфония безумия: Реквием по лжецам
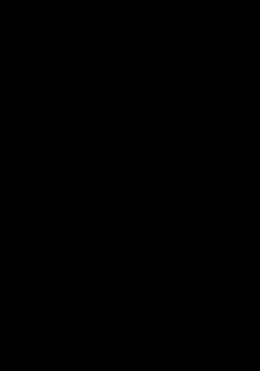
Читать в серии Симфония безумия:
1.Реквием по лжецам
2.Ария мести
В каждом аккорде – чья-то боль.
В каждом такте – чья-то смерть…
ДИСКЛАЙМЕР
Все события, персонажи и места, описанные в этом произведении, являются вымышленными. Любые совпадения с реальными людьми, организациями или событиями случайны и непреднамеренны.
ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Данное произведение содержит сцены, которые могут быть травмирующими для некоторых читателей:
Психологическое и физическое насилие (включая домашнее насилие над детьми);
Токсичные отношения с элементами психологической манипуляции;
Графичные описания самоповреждений;
Симптомы посттравматического стрессового расстройство (ПТСР) и диссоциативные состояния;
Употребление алкоголя, табака и наркотических веществ;
Описание применения психотропных препаратов;
Сцены жестокости и эмоционального абьюза;
Нецензурная брань;
Автор категорически не романтизирует и не пропагандирует описанные деструктивные модели поведения. Текст представляет собой художественное исследование психологических травм и их последствий.
Произведение предназначено исключительно для взрослой аудитории (18+). Читателям, имеющим личный опыт травмы или психологические особенности, рекомендуется соблюдать осторожность.
Мнения и действия персонажей не отражают точку зрения автора или издательства. Если вы столкнулись с подобными проблемами в реальной жизни, обратитесь за профессиональной помощью.
ОТ АВТОРА
Ну, здравствуй, дорогой читатель! Вот мы и встретились вновь. Если ты читаешь это после путешествия по Лабиринтам, пристегнись и приготовься – мы отправляемся в новый мир… мир, полный безумия и страсти. Мир, где безумие и любовь идут рука об руку, а музыка не утихает и становится либо оружием, либо спасением.
ПРОЛОГ
ТИХИЕ АККОРДЫ ПРОШЛОГО
«Лунная соната» Л.Бетховен.
«Музыка – это тишина, которая кричит.
И в ее нотах живут все наши мертвые».
– Анонимная запись на полях партитуры.
Валери сидела на стуле в углу светлой палаты, руки безвольно лежали на клавишах старого фортепиано, стоявшего у окна. Каждый аккорд звучал глухо, как выстрел в пустоте, каждое касание – будто ее пальцы были связаны невидимыми цепями, не дающими ни свободы, ни силы. Она не играла музыку, а пыталась зарыться в нее, как в последний островок реальности, где ее тело, наконец, перестало бы чувствовать боль.
В окно проникал слабый свет зимнего солнца, расплываясь по грязному стеклу, как едва заметный след памяти. Все здесь было непривычно – и стены, и окна, и эти женщины с пустыми взглядами, которые иногда останавливались у ее дверей, и лечащий врач с постоянным выражением жалости, которое она не выносила. Но именно в этом месте, среди отчаянной тишины, Валери ощущала, что хотя бы на мгновение ей удается контролировать свою жизнь.
Тихие аккорды на фортепиано, неуверенные, не такие, как раньше. Она не могла играть так, как раньше. Все теперь было другим. Мелодия не имела формы, не имела завершенности. Она была как ее жизнь – куски воспоминаний, что не соединяются в целое. Раньше пальцы Валери летали по клавишам, не замедляясь, не думая, но теперь каждое движение требовало усилий. Все в ее теле стало чужим и тяжелым, но вот пальцы… Они все еще помнили музыку. Музыку, которая была частью ее самой.
Глаза Валери закрылись на секунду, и перед ней снова возникли те самые картины – размытые, но такие яркие в своей боли.
Мать и сестра. Она видела их, стоящими перед ней в последние моменты. В тот вечер, когда они сели в машину. Когда все было еще нормально, когда в доме царил смех, а она была счастлива. Кажется, ее сестра тогда что-то говорила, но она уже не помнила, что именно. Мать смеялась, а Валери сидела на заднем сиденье и смотрела с улыбкой что-то в телефоне. В следующий момент… Удар. Осколки стекла. Крики. Слезы. Тишина.
И потом – боль. Безжизненные тела. Машина, в которой не осталось ничего живого, кроме нее. Валери не помнила, как выбралась из того кошмара, но не смогла забыть, как кровь капала ей на руки, как трудно было дышать, как осколок стекла застрял в ее шее. Старшая сестра была мертва. Мать тоже. А она? Она осталась. И не понимала, как. Мозг не мог вместить этого. Ее душа отказывалась верить в происходящее. Но это было реальностью. И мир Валери рухнул, разлетелся на осколки, остался лишь тот кошмар, который продолжал преследовать ее каждую секунду.
Валери сделала глубокий вдох и вновь положила руки на клавиши. Ее вдох был слабым, словно сила была зажата где-то внутри, но не хватало решимости. И в этот момент ей захотелось крикнуть, рвать грудь руками, но она могла лишь играть. Играть, чтобы хоть как-то пережить это.
Она не могла смотреть на себя в зеркало. А в палате ей казалось, что висели зеркала, они преследовали ее будто с момента аварии. Слишком много отражений, которые не оставляли места для мыслей о ее прежней жизни. Она стала чужой. В глазах окружающих Валери выглядела разрушенной, сломанной. Они говорили, что память – часть нас, но что делать, когда твое воспоминание – это не ты? Когда каждый взгляд на мир как первый раз – холодный, чужой, незнакомый.
Валери убрала руки от клавиш и закрыла глаза. Шум прошел, но оставался еще в ушах, эхом… Это было не просто воспоминание, а скорее постоянное присутствие. Никакие лекарства не могли стереть этого. Препараты, которые ей давали, только вызывали странные галлюцинации. В ушах Валери звучала не музыка, а ее собственный голос, ее же крик, который не мог найти выхода.
Когда-то она была кем-то другим. Музыка являлась ее жизнью. Сестра и мать гордились ею, пианисткой и певицей, которую ждало прекрасное будущее. Они часто шутили, что на этом свете ничего не может быть важнее, чем искусство, и что однажды она станет одной из лучших. И тогда, когда ее мать в последний раз поцеловала ее перед тем, как сесть в машину, они все были счастливы. Но что-то случилось. Что-то, что никто не мог предотвратить.
Валери встала, подошла к окну и посмотрела на серое зимнее небо. Погода была как ее настроение – тусклая и холодная. Она чувствовала, как в груди сдавливает тоска. Что произошло в тот момент, когда они стали такими далекими, мертвыми? Кто виноват в той трагедии, что произошла два года назад?
Ее взгляд зацепился за что-то вдалеке, и в какой-то момент она почувствовала, как ее сознание ускользает, уводя в другое место, в другое время. Сестра, сидящая рядом с матерью, ее голос, улыбающаяся Валери на заднем сиденье, звуки, которые казались знакомыми, но исчезли, как только произошел этот ужасный поворот. Затем – глубокая тишина.
Она услышала, как кто-то подошел к ее двери. Шаги раздавались неуверенными, но решительными. Дверь в палату открылась, и вошел врач. Он не был добрым и злым, просто делал свою работу. Его холодный, отрешенный взгляд никогда не менялся. Мужчина верил не в чудеса и восстановления, а в таблетки и терапию, в бесконечные сеансы. Он смотрел на Валери с легким презрением, как на человека, которому нужно просто пережить свои воспоминания и уйти.
– Валери, ты снова играешь. – Его голос всегда звучал сухо. Казалось, этот человек не был знаком ни с радостью, ни с болью.
Она молча кивнула, продолжив смотреть в окно, не собираясь отвечать. Он знал, что Валери не хочет с ним говорить, что она не помнит, что было до аварии, но также знал, что девушка помнит музыку. Иногда, когда Валери играла, она казалась живой. Иногда, когда начинала теряться в звуках, ее взгляд становился ясным. В такие моменты Валери пыталась рассказать ему, что слышит музыку – другую музыку, такую, которую она не могла понять. Но ей не верили.
Врач стоял у двери, наблюдая за ней с профессиональной дистанцией. Он не осуждал ее, а просто пытался помочь, однако Валери все равно не могла в это поверить. Она ощущала, как ее память теряется, а вместе с ней уходит и вся жизнь.
Но однажды Валери обязательно все вспомнит. Она чувствовала это, хотя и не знала, когда. Это не была простая попытка выбраться. Это – борьба с самой собой, с тем, что она потеряла, и тем, что она еще могла вернуть. Музыка являлась ее спасением. И она играла, чтобы не забыть.
Тишина. И вот снова, нота за нотой, аккорд за аккордом, рука на клавишах. Аккорды стали звучать четче, и вскоре Валери почувствовала, как память начинает пробиваться сквозь туман. Это был лишь первый шаг, но для нее он был важен.
Осталось только продолжить играть. Продолжить бороться с голосом, который шептал ей остановиться и перестать искать осколки воспоминаний.
ГЛАВА 1
ПОКОЙ ПОСЛЕ БУРИ
«Spiegel im Spiegel» Арво Пярт и «On the Nature of Daylight» Макс Рихтер.
«Музыка – это тишина между нашими ранами.
И когда она заканчивается – начинается безумие».
– Из дневника Дж. Леймана.
Несколько лет спустя. Осень.
Валери Вайс жила в мире, окрашенном в оттенки серого и черного. После выписки из психиатрической больницы, где она провела долгие годы, ее жизнь свелась к поиску покоя. Покоя, которого она отчаянно жаждала, но который казался ей таким же недостижимым, как далекие звезды. Ее квартира, маленькая и унылая, располагалась в старом, обветшалом доме на окраине города. Стены были выкрашены в бледно-желтый цвет, который теперь казался ей болезненным. Мебель – простая, функциональная, но лишенная души – была приобретена на распродаже и напоминала о безличности ее новой жизни.
Работа в небольшой библиотеке, расположенной в двух кварталах от ее дома, стала для нее спасением. Она пряталась за полками, за кипами книг, чувствуя себя невидимкой. Валери избегала ярких красок, громких звуков, людей, которые могли бы напомнить ей о прошлом. Она старалась не выделяться, слиться с толпой, быть просто тенью. Ее единственными компаньонами стали книги, которые она читала запоем, погружаясь в чужие истории, пытаясь убежать от своей собственной.
Валери отказалась от музыки и пения. Инструменты, когда-то бывшие ее лучшими друзьями, теперь пылились в самом дальнем углу другой комнаты, накрытые простыней и сверху заваленные другими вещами, напоминая о трагедии, которая навсегда изменила ее жизнь. Фортепиано, на котором она играла с матерью в бывшем доме, хранило воспоминания – болезненные и прекрасные одновременно. После автокатастрофы, унесшей жизни ее матери и сестры, музыка и пение стали для Валери синонимом боли. Ноты, когда-то приносившие радость, теперь звучали в ее голове как похоронный марш.
Каждое утро начиналось одинаково: Валери просыпалась от мерного тика часов, готовила себе кофе, съедала сухой тост и шла на работу. Дни тянулись монотонно, как нескончаемая мелодия, лишенная кульминации и разрешения. Вечера она проводила в одиночестве, читая книги, слушая тишину, которая, как ей казалось, становилась все громче.
Однако сегодня монотонная жизнь Валери дала трещину – возвращаясь немного пораньше с работы, Валери спустилась в метро. Вагон был полон уставших, спешащих, погруженных в свои мысли, людей. Она держала в руках книгу – «В лабиринтах лжи»,1 пытаясь отвлечься от навязчивых воспоминаний. Как только поезд тронулся, из динамиков раздалась объявление о следующей станции, и вдруг… мелодия.
Валери замерла. Музыка проникала сквозь гул поезда, врезаясь в ее сознание, как нож. Знакомые ноты, сыгранные на синтезаторе, заполнили пространство вокруг нее. Это была мелодия из ее детства, та самая, которую она репетировала с мамой до трагедии. До-диез, соль, фа. Она помнила каждую ноту, каждый аккорд. Пальцы сжались, дыхание прерывалось, а книга выскользнула из ее рук.
– Это просто уличный музыкант, – пробормотала Валери себе под нос. – Просто совпадение.
Но ноты вонзились в сознание, как иглы: до-диез, соль, фа. Глазами подростка она сидела в машине, слышала тот же мотив… и крик. Валери заблокировала рвущиеся воспоминания и схватила себя за плечи, будто пыталась собрать обратно, заклеить трещины. Виски стучали, а сердце билось в груди, как метроном, потерявший ритм. Все вдруг поплыло.
– Валери? – окликнул среди толпы внезапно тот, кто узнал девушку.
– Мне надо выйти. Мне… – Она, не договорив, выбежала на улицу, но мелодия продолжала преследовать ее – неотъемлемая часть, как шрам, который никогда не исчезнет.
Спустя пару шагов Валери стояла уже на платформе, тяжело дыша и пытаясь прийти в себя. И там, на афише возле метро, она впервые спустя несколько лет после трагедии увидела его имя – учителя по фортепиано и мужа сестры матери – Джек Лейман. Большими белыми буквами было написано, что завтра состоится долгожданная симфония Леймана. Чем дольше Валери смотрела на портрет учителя, который когда-то заменил ей отца и подарил любовь к музыке, тем сильнее тело бросало в дрожь, а в голове ненавистная мелодия становилась все громче и громче. Валери зажмурилась и собралась зажать уши, как вдруг рядом с ней остановилась девушка с каре, что пару минут назад узнала ее и окликнула в метро.
– Премьера симфонии не состоится. Об этом уже давно все знают, но объявления на афишах почему-то до сих пор не убирают.
Холодный голос девушки каким-то образом заставил мелодию резко оборваться. Валери открыла глаза и встретилась с ней взглядом, почувствовав, как между ними возрастала вновь ненависть и обида. Узнав бывшую лучшую подругу, с которой началась дружба с того самого дня как Валери поступила в одну из лучших школ искусств в стране, в ее памяти всплыли обрывки воспоминаний – репетиции, концерт, авария, перечеркнувшая все планы на будущее девушек и разделившая их жизни на до и после.
– Наш бывший учитель скончался. Инфаркт, – сказала подруга почти вскользь, словно речь шла о ком-то чужом. С неба вдруг начал срываться мелкий дождь. – Похороны состоятся сегодня.
В эту же секунду воспоминания Валери потухли. Слова застряли у нее в горле, как кость, а вина(за то что когда-то Валери отказалась от помощи Джека и вычеркнула его из своей жизни), словно бездомная кошка, подобралась незаметно к сердцу и начала яростно царапать когтями. После смерти матери и сестры Валери не только потеряла часть своих воспоминаний, но и отказалась от этого мира. Она ушла в свой собственный и не захотела узнавать, что же на самом деле произошло и кто подстроил аварию, почему Джек Лейман хотел, чтобы она его выслушала и не шла к отцу.
Прошла секунда, две, три… Молчание все тянулось, и в следующее мгновение, не выдержав, его нарушила Эмма, бывшая подруга Валери, с грустью выдохнув и убрав выпавшую короткую прядь за ухо.
– А ты не изменилась, выглядишь все еще сломанной, – произнесла она и оставила Валери наедине со своими мыслями под дождем.
Шаг, затем еще один… и еще. И вот Валери, сама того не осознавая, добралась до остановки. Дождь смывал все, кроме болезненных воспоминаний, которые девушка так отчаянно пыталась заглушить. Остановка оказалась почти пуста – только девочка лет двенадцати с пакетом из супермаркета и пожилой мужчина с зонтом. Дождь продолжал литься лениво, словно город сам впал в задумчивость, затянув небо сединой. Валери села под навес, сгорбившись, достала из кармана пальто пачку сигарет с зажигалкой. То, что несколько лет назад она презирала, сегодня вошло в привычку и стало будто спасательным кругом, за который Валери цеплялась, когда понимала, что сама не может справиться с эмоциями и рвущимися болезненными воспоминаниями. Вскоре дым от сигареты вырывался из ее пальцев, словно остатки чего-то теплого, почти живого.
Она дрожала не от холода, а скорее от мысли, что, подобно пуле, вошла в ее сознание. Слова о смерти маэстро повторялись в голове Валери снова и снова, как будто припев ненавистной песни, которую заставили учить. Инфаркт. Она даже не знала, что он болен. Валери не знала совершенно ничего о тех, кто когда-то был ей дорог и кого она считала своими. Дым царапал горло, но она затянулась еще раз. Горечь табака почти перебивала ту, что жгла внутри.
Он ведь звал ее. Джек приходил несколько раз к ней в психиатрическую больницу проведывать и в отличие от отца, который ни разу не навестил дочь, всегда интересовался о состоянии ее здоровья. Именно Джек Лейман сделал все возможное, чтобы в палату поставили фортепиано и Валери играла, однако вскоре она выбрала отказаться от музыки и воспоминаний, сводящих ее с ума несколько лет. Даже после выписки из больницы Джек звонил и оставлял голосовые сообщения. Один раз он стоял у двери ее работы, под дождем, как сейчас, с неловкой надеждой в глазах и нотной тетрадью в руках. А она… Она вместо того, чтобы выйти к нему и поговорить, сделала вид, будто не знала его и не видела.
– Я не могла, – выдохнула Валери в пространство. – Я просто не могла, маэстро…
Все это было тогда, через три месяца после аварии. Когда она лежала в палате и сжимала в ладонях измятую фотографию, где мать улыбалась, а сестра держала ее за руку. Тогда она возненавидела музыку. Винила в ней все – себя, дорогу, погоду, машину, даже дождь, который начался сразу после столкновения.
Маэстро был единственным, кто не боялся этой тишины в ней. Приходя каждый день в больницу, он всегда говорил: «Ты не сломана. Просто потерялась», «Позволь себе снова играть и петь». Но… Валери оттолкнула его. Оскорбила. Унизила, прошептав в тот день колючую, словно шипы розы, фразу, которая вошла под кожу и скоро добралась до самого сердца: «Я больше не могу петь и играть. Музыка мертва. Как и они. Как и вы все здесь».
Слезы не шли. Слишком много лет прошло с того дня, и внутри все пересохло, но пальцы дрожали, а сигарета обугливалась быстрее, чем нужно. Валери вдруг поняла, что ей больше некому сказать «прости». Маэстро не станет сидеть за роялем, не хлопнет ладонью по крышке, не поднимет настроение очередной шуткой, не наклонится, глядя сквозь очки, и не скажет мягко: «Начни с до. Всегда с до». Теперь – только дождь, сигарета и вина, которую не вытравишь дымом.
И все-таки, где-то внутри, за старым страхом и новой пустотой, родился первый тихий звук, как вдох перед тактом. И Валери, сама того не замечая, в такт дождю постучала пальцами по колену. До. Ре. Ми.
К остановке подъехал автобус, и Валери встала, выбросив сигарету в урну, а затем достала телефон из кармана пальто и впервые за несколько лет после трагедии набрала номер жены маэстро. Гудки шли недолго. Уже через три секунды вместо нежного женского голоса девушка услышала грубый мужской:
– Ты опоздала, дорогуша.
– Адриан? – сорвалось с губ Валери.
– Но не переживай, я уже забронировал нам с тобой место рядом с учителем на кладбище. До встречи в аду! – с ненавистью подчеркнул последние слова парень и бросил трубку.
Ветер сдернул несколько листьев с дерева, растущего возле остановки, и бросил их в лужи, в то время как девушка, нервно сглотнув, узнала, кому принадлежал голос.
ГЛАВА 2
ВОЗВРАЩЕНИЕ АДРИАНА
«Чакона» Бах и «Experience» Людовико Эйнауди.
«Джек Лейман дал мне скрипку, чтобы я играл.
Но я выучу другую мелодию – научусь стрелять… чтобы убивать».
– Адриан Рид.
Жизнь Адриана Рида напоминала чистый холст, изуродованный бесчисленными черными кляксами. Каждая из них являлась символом его неконтролируемой агрессии, что, подобно яду, проникала в его существо, отравляя все вокруг. Город, в котором он жил, был безликим мегаполисом, где небо часто застилали тучи, а в воздухе висела гнетущая атмосфера неопределенности. Но для Адриана этот город был лишь декорацией к его личной трагедии.
Валери стала главной героиней его кошмара. После ужасной автокатастрофы она не только потеряла память и близких, но и уничтожила все, что было дорого Адриану. Его музыкальную карьеру, контракт мечты, доверие к людям – все это обратилось в прах в одно роковое мгновение. Годы усилий, бессонные ночи, репетиции – все пошло насмарку. В душе Адриана поселилась пустота, граничащая с ненавистью к той, что стала причиной его падения. Валери подарила ему шанс, а затем безжалостно отняла все, что он ценил.
Музыка, когда-то источник радости и вдохновения, теперь напоминала о слабости и несбывшихся мечтах. Она была как острый нож, резавший по его истерзанному сердцу. Адриан мечтал стать музыкантом, доказать отцу, что он победил своих внутренних демонов, но судьба распорядилась иначе. В ту злополучную ночь он должен был получить очередную награду за победу в конкурсе и впервые выступить с Валери, а после получить контракт от влиятельного музыкального продюсера, приехавшего из-за границы, чтобы услышать его музыку, но авария оборвала все планы.
В той трагедии погибли не только мать и сестра Валери, но и несколько ключевых фигур из музыкальной индустрии. Странное стечение обстоятельств заставило Адриана задуматься спустя несколько недель. В его голове начал складываться пазл из воспоминаний. Ему казалось, что кто-то намеренно подстроил аварию, желая избавиться от ненужных свидетелей. Однако доказательств не было, а его отец, человек холодной расчетливости, не желал слушать подозрения.
– Не забивай себе голову этой ерундой. Это был просто несчастный случай, – отрезал отец, демонстрируя полное безразличие к трагедии.
В тот день, находясь в кабинете отца, Адриан вновь осознал, что в его мире никому нет дела до других. Если у людей есть власть, деньги и связи, все остальное воспринимается только как декорация, и их можно выбросить, когда это удобно. Доверие к полиции в этом городе давно исчезло, поэтому, услышав слова отца, Адриан заглушил свои внутренние сомнения и прекратил играть в детектива. Теперь воспоминания о Валери и всем, что их объединяло, стали далекими, как недосягаемые звезды – они померкли и отступили еще дальше в тот момент, когда он покинул кабинет, чьи серые стены хранили отголоски его детских слез, криков, родительских ссор и темных семейных тайн. С тех пор Адриан Рид перестал общаться с отцом, а музыка в их доме замолкла.
Теперь вместо мелодий скрипки и рояля его жизнь заполнили сигареты, мотоциклетные гонки и ночные клубы, где алкоголь лился рекой, а девушки сменяли друг друга, не оставляя в памяти ни лиц, ни имен. Зачем запоминать? Для Адриана они были лишь куклами, с которыми он развлекался и сразу забывал. Никто не оставался в его жизни дольше суток. Однажды одной, темноволосой красотке, удалось провести с ним целых три дня. У нее были короткие вьющиеся волосы, очаровательные ямочки на щеках при каждой ее улыбке и ангельский взгляд, смотрящий словно в душу. Эта незнакомка напоминала ему Валери, которая стала героиней его ночных кошмаров после аварии. Проведя с дамой три дня, Адриан понял, что, возможно, слишком напился в клубе и ошибся в ней. Она не имела с Валери ничего общего, кроме цвета волос и ямочек. Чтобы окончательно убедиться в этом, он на третий день спросил ее, пока они сидели в VIP-зоне клуба «Скорпион» и ждали друга Адриана с его девушкой:
– На каких нотах заканчивается пьеса, которую я люблю, а ты ненавидишь?
В ответ – молчание, непонимание и растерянность на ее лице. Не дождавшись ответа, Адриан грубо столкнул девушку с колен и холодно произнес: «Убирайся». Его взгляд говорил о том, что лучше уйти подальше от парня, пока чудовище внутри него не вырвалось на свободу.
С той минуты он больше не видел Валери в других. Она исчезла, как тень, когда он закурил, но спустя несколько долгих секунд потушил сигарету в стакане виски. Глядя на него, Адриан сжал стакан с такой силой, будто там была Валери. Осколки стекла разлетелись, некоторые впились в его кожу, но он не чувствовал боли. С тех пор, как Валери отказалась от музыки, он вовсе ничего не ощущал.
Время шло, а жизнь Адриана Рида оставалась неизменной. За несколько месяцев до смерти маэстро Джека Леймана холст парня обрел такую плотную тьму, что исчезла даже возможность для белой кляксы пробиться сквозь этот мрак. Отец Адриана устал защищать его от последствий мелких правонарушений и подкупать полицию, чтобы избежать проблем, поэтому в конечном итоге прекратил вмешиваться в жизнь сына. Адриан остался один с внутренними демонами, которые вырвались на свободу. Он полностью забыл о музыке, Валери и доме. Его новое убежище стало ночное заведение «Скорпион», принадлежащее его лучшему другу, который окончательно увел его на темную сторону. Именно Кристиан Андерсен научил Адриана управлять мотоциклом и привил ему страсть к гонкам, алкоголю и сигаретам. Он стер из памяти все, что было связано с музыкой и Валери. Тот, кого когда-то называли «принцем оркестра», умер, а на его месте возник новый человек – «призрачный гонщик».
Единственным осколком прошлого, который остался в Адриане, стала большая татуировка на правом предплечье в виде скрипичного ключа с несколькими маленькими нотами. Когда девушки, с которыми он проводил ночь, или Кристиан спрашивали его о значении рисунка и причине, по которой он прячет его под рукавом рубашки, Адриан всякий раз отвечал равнодушной фразой: «Был идиотом, поэтому и сделал татуировку». О настоящем значении татуировки знал лишь один человек – его мать. Женщина, что на публике играла роль счастливой, всегда улыбающейся директрисы лучшей школы искусств в стране и знаменитым автором песен под псевдонимом Aleksa, чьи слова проникали в душу и любили во многих других странах. Но стоило ей переступить порог дома, как все маски тут же трещали и спадали.
Роскошный двухэтажный особняк в престижном районе у самого океана восхищал многих своей необычной архитектурой. Однако никто не знал, что скрывалось за фасадом этого великолепия. Семья Адриана принадлежала не только к музыкальной элите, но и имела тесные связи с мафией. Его отец, Габриэль Рид, построил криминальную империю, используя свои связи и разветвленную сеть информации о каждом жителе города. Это был человек, которому лучше не переходить дорогу – иначе ты становился всего лишь пешкой в его игре. Он дирижировал не только оркестром в Большом театре, но и мафией. Его пальцы знали, как трогать клавиши… и как душить. Габриэль убивал и безупречно заметал следы, словно виртуоз, играющий не на инструментах, а на ненужных жизнях тех, кто осмелился ему перечить. Именно поэтому Александра Рид хоть и ненавидела мужа из-за его второй личности, но понимала, что она от него зависима. Если Александра сделает хоть малейшую ошибку сейчас или решит рассказать полиции все, что знает о муже, он отнимет у нее все – даже сына. Мальчика, который, хоть и не был ей родным, она любила как собственного. Ради него она готова была терпеть любое насилие и ненавистные правила Габриэля в их семье, бездействуя, лишь бы тот не втягивал Адриана в свои темные дела.
Адриан ненавидел отца за то, что тот передал ему свои худшие черты – вспыльчивость и жестокость. Но еще сильнее он ненавидел самого себя за бессилие, за то, что не может победить Габриэля и защитить мать от его жестоких рук. Каждый раз, когда отец по какой-то причине вновь поднимал руку на нее, Адриан вставал между ними, принимая удар на себя, но это только забавляло Габриэля. Глядя на сына с холодным безразличием, он каждый раз произносил с мерзкой усмешкой:
– Ты такой же монстр, как я. Даже хуже. В тебе – мои гены. Так что не пытайся быть рыцарем.
Для Адриана музыка стала единственным выходом, куда он мог выплескивать свои эмоции. Играя на скрипке, он делился своей болью, а за роялем боролся с внутренними демонами, которые стремились к насилию. Именно Александра Рид приложила усилия когда-то, чтобы Адриан смог поступить в школу искусств, а его учителем и наставником стал маэстро Джек Лейман. Женщина сделала все возможное, чтобы он меньше пересекался с отцом и видел его жестокость, а также вселила в него мотивацию учиться музыке, чтобы уметь контролировать себя и доказать Габриэлю, что тот ошибался насчет генов, что Адриан не монстр. Однако спустя несколько лет после автокатастрофы музыка из жизни парня исчезла, а слова матери перестали иметь значение. Адриан никого, кроме своих демонов, не слушал.
Когда поздним вечером Эмма, его подруга и бывшая одноклассница из школы искусств, позвонила ему с печальной новостью о смерти маэстро, парень не сразу понял, о чем идет речь. Он отмечал свою очередную победу в гонках в клубе «Скорпион» с друзьями и некоторое время не мог вспомнить, кто именно ему звонит и о ком говорит. Лишь после того как в памяти всплыло что-то знакомое, словно кто-то включил свет в его лабиринте воспоминаний, он вспомнил, как играл на скрипке, а Джек Лейман с теплой улыбкой подыгрывал ему за роялем. В этот момент Адриан уронил стакан виски и на несколько секунд остался в ступоре, глядя в пустоту. Смех друзей, крики, яркие неоновые огни и громкая музыка внезапно исчезли, остались только он и Джек Лейман, который так и не услышал завершение симфонии своего ученика. Адриан, когда учился в школе искусств, пообещал своему учителю защищать музыку и бороться со своей тьмой, но сам не сдержал этого обещания. Он предал не только своего лучшего учителя, но и себя. Не Валери затащила его в ад, а Адриан сам шагнул в него, отрекшись от музыки и семьи. С того вечера после звонка Эммы парень больше не мог думать о гонках и делать вид, что он не помнит о прошлом, что той жизни, где Адриан посвятил себя музыке, не существовало.
Той же ночью, когда город полностью погрузился во тьму и был затянут пеленой ливня, Адриан покинул молча без объяснений ночной клуб. Капли барабанили по крышам домов, заглушая все звуки, кроме гула мотора, разрезающего ночную тишину. Адриан, облаченный в кожаную куртку, мчался по мокрым улицам на своем мотоцикле. В его глазах плясала тень от фонарей, а в душе бушевал ураган из сожаления и вины. Несколько лет он был призраком, гонщиком, чья жизнь вращалась вокруг скорости, адреналина и безрассудства. Он бежал от прошлого, от обещания, данного когда-то давно.
Из воспоминаний не уходил Джек Лейман, его учитель музыки, человек, видевший в Адриане нечто большее, чем просто талант. Он умер, не дождавшись завершение симфонии, которую Адриан начинал писать для него, но бросил.
– Защищай музыку, Адриан. Она – свет, способный рассеять любую твою тьму, – произнес как-то Джек на одной из репетиций, когда его ученик начал злиться, что сбивался с ритма и путал ноты.
Адриан пообещал, но после несостоявшегося концерта из-за автокатастрофы, забравшей у Валери мать и сестру, все перевернулось. Музыка стала для него лишь напоминанием о боли, о разбитых мечтах. Мотоциклы, гонки, сигареты, алкоголь – вот что заменило ему скрипку, рояль и симфонии.
Он остановился у того самого величественного особняка, где прошло его детство. Дверь открылась, пропуская его в сумрачный коридор, где стояла большая хрустальная ваза с розами, а напротив нее на стене висел портрет семьи. Семьи, от которой парень убежал в мир гонок, алкоголя и драк.
Адриан поднялся на второй этаж, в свою комнату, в которую не заходил уже много лет. Пыль покрывала все: мебель, фотографии, награды, воспоминания. И среди этого хаоса, на старом комоде, покоилась она – скрипка, верный спутник его юности, забытая, заброшенная.
Парень взял инструмент в руки. Холодный, как его сердце. Пальцы, привыкшие к стали руля, дрожали, касаясь струн. Адриан поднес скрипку к плечу и закрыл глаза. Поначалу звуки выходили глухими, сбивчивыми, как шаги заблудившегося путника. Но постепенно мелодия обретала форму, наполнялась болью, раскаянием, тоской. В ней слышались отголоски симфонии, которую он так и не закончил.
Вина, словно ядовитый плющ, обвивала его душу, но сквозь нее пробивался росток слабой надежды.
Он играл. Играл, как никогда раньше. Не для публики, не для славы, а для себя, для Джека, для своей души. Звуки скрипки, как будто живые, заполняли комнату, вибрировали в стенах, проникали в самые потаенные уголки сердца. Музыка гипнотизировала, уносила в другой мир, где не существовало боли, а лишь свет и надежда.
Вдруг Адриан почувствовал взгляд. Он обернулся и увидел, что у двери, в проеме комнаты, стояла в темно-фиолетовом халате его мать. Ее глаза были полны слез. Она находилась там все это время и слушала, как сын, которого она почти потеряла, снова возвращается к ней. Александра Рид молчала, не смея прервать мелодию, надеясь, что музыка вернет Адриана домой. Прошла минута тишины и парень вдруг отложил скрипку, шагнул к матери и обнял ее. Крепко, как никогда раньше.
– Прости, мама, я должен был сыграть для него. Джек верил в меня, но я подвел его, – прошептал он, в то время как по щеке его матери покатилась слеза. Она тоже уже знала о смерти маэстро, но еще не смирилась с этой новостью, не до конца осознала, что его больше нет.
В тот момент, когда их объятия слились воедино, призрачный гонщик внутри него окончательно исчез. Вернулся Адриан, музыкант, способный создавать магию. Этой ночью, в разгар бушующей стихии, казалось, что вся тьма отступает перед светом, рождающимся из мелодии. Адриан вернулся, и вместе с ним возвращалась надежда. Город утопал в дожде, но в его сердце зажглась новая мелодия, а на темном холсте парня появилась первая белая клякса.
***
На следующий день Адриан выложил на своей странице в соцсети запись: «Я сыграю то, что обещал, даже если ты меня не услышишь», – и черно-белую фотографию к ней. На снимке он, сидящий спиной в кожаной куртке за роялем, находился в просторном, пустом, величественном зале с полуколоннами, украшенными искусственными розами.
Пост вызвал бурю обсуждений в мире шоу-бизнеса. После нескольких лет молчания Адриан Рид вновь стал самой обсуждаемой персоной. В новостях то и дело звучали фразы: «Принц оркестра», «Принц оркестра вернулся», «Где все это время был сын знаменитого музыканта и дирижера Габриэля Рида и директора школы искусств Aleksa?»
С момента автокатастрофы Адриан полностью исчез из музыкального мира и забросил соцсети, так что мало кто знал, где он на самом деле находился. Сейчас же, после ажиотажа вокруг его поста, появилось множество слухов о семье Рид. Больше всего Адриана забавляла версия с наркотиками. Что угодно, но только не это – он никогда не употреблял и не собирался связывать свою жизнь с наркотиками. Повторять судьбу отца Валери тем более. За пару часов после публикации поста на Адриана подписались несколько сотен тысяч новых пользователей, но ему это было безразлично. Парень равнодушно наблюдал, как вновь растет его популярность, в то время как его отец, наоборот, не скрывал радости, ведь именно благодаря сыну он снова и оказался в центре внимания, и поводов для различных мероприятий теперь хватало с избытком.
Пока Габриэль в приподнятом настроении сидел на кухне за столом, слушал новости на планшете и пил апельсиновый сок, Адриан с мрачной гримасой смотрел в окно на искусственный фонтан со скульптурой ангелочка во дворе. Его мысли витали где-то далеко, в другой вселенной. Он даже не слышал, как на лежащем на столе телефоне одно за другим вспыхивали уведомления и приходили новые сообщения.
Переведя взгляд на сына, Габриэль вдруг передал планшет жене, сидевшей рядом. В отличие от Александры, он воспринял возвращение сына домой как нечто вполне закономерное – для него было очевидно, что Адриан появится в день смерти Джека Леймана. Для Габриэля Рида это был самый логичный и предсказуемый исход.
Разумеется, он сделал вид, что обрадован возвращению сына – даже обнял его, – но Адриан прекрасно знал, что все это лишь показуха. Он видел отца насквозь и с трудом сдерживал желание нанести ему столько же ударов, сколько тот когда-то наносил его матери, когда Адриан был подростком.
Тишина между отцом и сыном ощущалась как невидимая стена. Габриэль, не замечая, что сын словно растворяется в своих мыслях, продолжал смотреть в планшет, переходя с одной новости на другую. Он был уверен, что Адриан, как всегда, замкнулся в себе, и по привычке решил, что это всего лишь подростковое раздражение.
«Все пройдет», – подумал Габриэль, будто утешая себя.
Адриан же чувствовал, как его терпение с каждым мгновением исчезает. Он устал уже от всей этой фальши, хоть и вернулся домой только вчера, от того, что его отец так и не понял, что между ними нет никакой связи. Он мог бы сказать что-то, мог бы начать спор, но зачем? Это не имело смысла. Габриэль никогда бы не понял. Он не был тем человеком, с которым можно было бы поговорить. Они оба это знали, но молчали.
Тот самый уголок души, который когда-то остался для семьи, теперь давно покрыт коркой из безразличия. Адриан скользнул взглядом по отцу. Габриэль с улыбкой произнес что-то про будущие мероприятия, какие-то встречи с влиятельными людьми, и Адриан почувствовал, как от этого еще сильнее давит на грудь. Он знал, что отец всегда будет на своей волне. И эта волна не имела ничего общего с тем, что происходило в его жизни.
«Могу ли я хотя бы на миг быть важным для тебя?» – эти слова прошли через голову Адриана, но он не произнес их вслух. Зачем?
Парень снова посмотрел на фонтан. Далеко в его душе отголоском отозвался голос учителя – Джек Лейман всегда говорил: «Не стоит тратить силы на тех, кто не понимает, ради чего ты это делаешь».
Адриан взял свой телефон, а затем медленно встал. Его движения были настолько плавными, что казались безжизненными. Он прошел мимо стола, где все еще оставался планшет, который недавно положила мать, и, прежде чем Габриэль успел что-то сказать, его голос разорвал напряжение:
– Я вернулся, чтобы не рейтинги поднять и вернуть внимания к тебе, папа, а закончить то, что обещал своему учителю.
Адриан Рид повернулся к выходу, и его шаги эхом отозвались в пустой кухне. Габриэль замер, застыв в середине очередной фразы, и только через мгновение понял, что сын ушел. Тихое «щелканье» дверной ручки, а потом – тишина.
Вся комната будто замерла, а в воздухе повисло ощущение необратимости. Габриэль все еще сидел за столом, не в силах понять, что только что произошло… и что теперь будет дальше. Но вот его жена, Александра Рид, зато отлично все понимала и знала о дальнейших действиях сына и его планах. Той ночью, когда она услышала его игру на скрипке, сразу, без слов, поняла, почему Адриан вернулся домой и что задумал. Именно Александра сделала сегодня утром ту самую фотографию в зале особняка по просьбе сына. Взяв кружку кофе, женщина чуть улыбнулась уголком губ, и бриллиант на ее кольце сверкнул – будто знак, что скоро настанет час расплаты. Час, когда она выйдет из тени и начнет действовать. Александра Рид еще не забыла тех, кто убил ее дочь пятнадцать лет назад, но знают ли они, кто настоящая мать той девочки?..
ГЛАВА 3
ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ МАЭСТРО
Hildur Guðnadóttir – «Bathroom Dance»(из «Джокера») и
Philip Glass – «Metamorphosis One».
«Я оставлю вам не музыку, а бомбу.
Только вы решите – фитиль поджечь или затушить». – Джек Лейман.
Месяц назад.
Кабинет нотариуса тонул в зловещем полумраке. Единственное окно, затянутое паутиной трещин, пропускало косые лучи света, которые цеплялись за пыльные портьеры цвета запекшейся крови. Световые пятна медленно ползли по столу, освещая папку с гербовой печатью – последний рубеж между жизнью и смертью.
– Вы уверены, что хотите оформить его именно так? – голос нотариуса дрожал, хотя он пытался это скрыть. Его палец с желтоватым ногтем замер на пункте 4.3, будто боясь перевернуть страницу.
Джек Лейман сидел в кресле, как король на троне из костей. Его длинные, изможденные пальцы – те самые, что выжимали из рояля диссонансы, способные разорвать душу на части, – сжимали ручку с такой силой, что костяшки побелели. Казалось, он пытался вдавить ее сквозь стол, в самое сердце земли.
– Да, – его голос прозвучал глухо, словно доносился из глубины заброшенного склепа. – Особые условия: пункт 4.3. Права на завершение «Реквием Леймана» передаются Валери Вайс и Адриану Риду при совместном выполнении следующих требований…
Он сделал паузу, его глаза метнулись к окну, где в отдалении маячила тень человека в черном. Джек знал, что за ним следят. Знал, что смерть уже точит когти. Но в его взгляде читалось не страх, а холодная решимость шахматиста, делающего последний, смертельный ход.
– Первое, – продолжил он, понизив голос до шепота, – все рукописи, черновики и аудиозаписи, относящиеся к указанному произведению, хранятся в сейфе №517 банка «Ла Фрейн»…
Его рука дрогнула, когда он доставал из внутреннего кармана пиджака маленький медный ключ. Ключ был старый, покрытый патиной времени, с выгравированным знаком – переплетенными нотами и кинжалом. Он положил его на стол с таким видом, будто это последняя фишка в смертельной игре.
– Этот ключ, – прошептал он, – будет передан им в день моих похорон. Вместе с этим.
Из другого кармана он извлек конверт. Белый, плотный и с надписью «Для двоих» – чернила слегка растеклись, будто его подписывали под ливнем или… слезами.
– Второе, – голос Джека стал жестким, как сталь, – сейф вскрывается только при предъявлении сертификата о смерти и удостоверений личности обоих наследников. Если один из них откажется… – он сделал театральную паузу, – то доступ аннулируется. Навсегда.
Нотариус нервно поднял бровь, а его пальцы задрожали:
– Вы предусмотрели… спорные ситуации. Но почему такие жесткие условия?
Джек улыбнулся, но его глаза оставались пустыми, как клавиши расстроенного пианино, по которым больше никогда не пробегут живые пальцы.
– Музыка требует жертв, – прошептал он, – или становится жертвой. В этом городе… – его взгляд снова метнулся к окну, где тень уже исчезла, – все давно стало инструментом в чужих руках.
Он достал последний конверт, запечатанный черным сургучом с оттиском – стилизованным черепом с нотным станом вместо зубов.
– Передайте это моей жене, Аманде Лейман, лично. После… моего ухода, – он сделал ударение на последнем слове, – она должна вручить это письмо только Валери Вайс и Адриану Риду. Только им. Лично. – Его голос стал резким, как удар смычка. – Если кто-то еще прикоснется к этому письму… – Джек не договорил, но в воздухе повис невысказанный смысл: смерть.
Нотариус кивнул, его горло сжалось. Он вдруг осознал, что перед ним не просто завещание. Это была партитура грядущего апокалипсиса, ноты, написанные кровью. А Джек Лейман… он уже видел свою смерть в нотах будущего и смирился с ней, как истинный маэстро, знающий, что финальный аккорд неизбежен.
За окном прогремел гром, хотя небо было ясным. Или это был выстрел? Джек вздрогнул, а его пальцы непроизвольно сложились в аккорде, который он так и не успеет сыграть. Но в его серых глазах горела уверенность – Валери и Адриан найдут правду. Они должны найти, потому что в этих нотах была зашифрована не просто музыка. Это была исповедь умирающего города, последний крик души перед тем, как тьма поглотит все.
***
Месяц спустя.
Аманда Лейман была тем единственным светом, что согревал жизнь Джека. Но когда его не стало – погасла и она. В опустевшей душе поселилась бездонная пустота, которую не заполняли даже ноты его музыки, написанной специально для нее.
Ее жизнь остановилась в тот роковой миг. Муж ушел, бросив ее одну посреди безумного мира, где тьма пожирала последние проблески разума, где деньги значили больше, чем сама мораль. В мире, в котором справедливость давно умерла.
Их когда-то уютный зал, где рождались дуэты и смешивался смех с переливами рояля, теперь казался потемневшим и холодным, будто лишенным жизни. Ноты звучали так тихо, что их едва можно было расслышать.
Аманда, в которой когда-то горел огонь творчества, которая не знала предела безумным идеям и никогда не теряла вдохновения, теперь напоминала ожившего мертвеца: бледная, с темными кругами под глазами, с пустым взглядом, устремленным на портрет. Он висел посреди комнаты, напротив окна, за которым расстилался океан, а тяжелые тучи давили на серебряный полумесяц. Его лучи тщетно пытались пробиться сквозь мрак, чтобы хоть на миг озарить зал, подарить ему каплю тепла и развеять тьму.
Инфаркт.
Это слово уже несколько дней преследовало Аманду. Ее сознание отказывалось принимать этот диагноз. Она не верила врачам, ведь в мире, где она жила, деньги обычно решали все, и подкупить можно было кого угодно.
У Джека Леймана не было проблем со здоровьем. Аманда знала это точно. Муж никогда ничего от нее не скрывал, ведь между ними не существовало тайн.
Аманда, сама того не замечая, нажала слабо на белые и черные клавиши рояля, и спустя пару секунд вдруг, как ядовитая змея, в ее сознание вползла мысль: «Джека убрали намеренно».
Сжав в кулаке партитуру, которая только что стояла на пюпитре, она допила вино и швырнула бокал в портрет. Там, за стеклом, они улыбались: она была в свадебном платье, он – в черном фраке, сидя за роялем.
– Если это сделал ты, Габриэль, то следующие похороны будут твоими, – процедила женщина. Ее синие глаза, цвета бушующего за окном океана, вспыхнули холодным огнем ненависти.
Этим поздним вечером, когда стрелки часов приблизились к девяти, Аманда наконец поняла, что имел в виду ее муж, говоря, что чем красивее произведение композитора, тем страшнее его секрет. В последний раз бросив взгляд на помятую партитуру, женщина достала телефон из кармана черных брюк и набрала номер их с мужем личного ассистента.
– Сделай вскрытие Джека и проверь все его переписки в телефоне, а также записи с камер наблюдения в комнате, где его нашли мертвым. Постарайся уложиться как можно быстрее и чтобы никто ничего не узнал, – приказала Аманда.
Внутренний голос шептал ей перепроверить все лично и убедиться во всем еще раз до похорон, которые должны были состояться через четыре дня.
***
Утром два дня спустя, пока Аманда сидела на балконе, листая ленту соцсетей и попивая кофе, ей попался пост Габриэля. На фото он стоял в обнимку с женой на фоне океана и заката. Скривившись, женщина пролистала дальше, даже не задумываясь, ставить ли лайк.
С самого начала их знакомства Аманда не понимала, как ее муж мог дружить с человеком, от которого буквально веяло двуличием. Все в Габриэле – взгляд, слова, поступки – казалось показухой и ложью.
Аманда всегда хорошо чувствовала людей, особенно музыкантов. Их музыка порой раскрывала их истинную суть лучше, чем любые слова. Вспомнив, как три года назад в интервью Габриэль клялся, что ценит честность, женщина усмехнулась. «С кем угодно, но только не с ней он дружит», – подумала она.
И как бы Аманда ни ненавидела его, бывали случаи, когда помочь мог только Габриэль Рид – деньгами или связями. Когда-то ресторан, доставшийся ей в наследство от отца, оказался на грани банкротства. Аманду обвиняли в том, что она незаконно оформила права на бизнес и якобы из-за ее жадности отец погиб. Но благодаря вмешательству Габриэля ситуацию удалось уладить. Правда, теперь она осталась у него в долгу.
Поставив кружку на маленький стеклянный столик, Аманда откинулась на спинку кресла и машинально взялась за цепочку с золотым сердечком, где хранилась фотография ее младшей третьей сестры в обнимку с ней. Сестры, которая несколько лет назад должна была вручать награды победителям конкурса школы искусств в Большом театре, но вместо этого погибла в автокатастрофе. Та трагедия оставила след в сердцах многих, ведь мир потерял легендарную оперную певицу – девушку, чей голос, казалось, был создан самим Богом, чтобы нести свет и надежду в этот мир. Селена Вайс стала не просто примером человека, пробившегося на вершину без связей и протекции, но и настоящим символом музыки. Она пела и смешивала классическую музыку с современной, доказывая всему миру, что искусство может быть прекрасным в любом виде и стиле. Селена рождала любовь даже у современного поколения к классическим произведениям. Когда ее не стало, казалось, сама музыка стала звучать тише, постепенно угасая. А после смерти маэстро Джека Леймана в музыкальном мире и вовсе наступила тишина. Аманда не могла больше так жить. Она не допускала даже мысли, чтобы кто-то снова отнял у нее дорогих людей. Этим утром женщина поклялась себе, что она найдет того, кто подстроил автокатастрофу, в которой погибла ее одна из младших сестер со своей старшей дочерью, и кто убил Джека, и добьется справедливости.
Осенний ветер, внезапно налетевший со стороны океана и играющий в ее темно-каштановых волосах, будто придал ей уверенности, убеждая, что она на верном пути. Когда Аманда встала с кресла, на ее телефон пришло новое сообщение от Александры Рид: «Адриан вернулся, как ты уже знаешь. С Валери мне так и не удалось связаться, но я попросила помочь Эмму Райн». Прочитав его, женщина тут же вошла в спальню и поспешила в кабинет мужа.
Это был тот самый кабинет, где на дубовом столе перед смертью Джек Лейман написал письмо для Адриана Рида и Валери Вайс – своих лучших учеников, ставших ему родными детьми. Им предстояло после его смерти расшифровать недописанную симфонию, завершить ее и спасти будущее музыкального мира.
– Что ж, время пришло. Надеюсь, ты не ошибся в своих учениках, дорогой, – произнесла Аманда, входя в кабинет, погруженный в хаос из бесконечных партитур и книг. Она взяла со стола тот самый конверт, полученный недавно от нотариуса, и взглянула на фотографию в рамке. На снимке трое улыбались на фоне парадного входа в школу искусств: десятилетняя Валери, тринадцатилетний Адриан и Джек.
ГЛАВА 4
ФА-ДИЕЗ ДЛЯ ПРИЗРАКОВ
Д.Шостакович – Симфония № 5, IV часть, Hildur Guðnadóttir – «Bathroom Dance» (из «Джокера») и Hans Zimmer – «Time» (из «Начало»).
На похоронах играют две мелодии – ту, что слышат все,
и ту, что знают только мертвые.
Этот день настал… День, когда Аманда узнала правду о настоящей причине смерти ее мужа. День, когда Адриану и Валери предстояло встретиться после долгих лет молчания, чтобы получить то самое письмо – последнее послание маэстро, которое, как паутина, снова сплетет их судьбы. Но на этот раз не в гармонии музыки, а в диссонансе общего прошлого, от которого они когда-то бежали врозь.
Днем за день до похорон Адриан встретился с Амандой в ее ресторане – «Элегия», – который, словно корабль-призрак, парил на сотом этаже стеклянного небоскреба, отрезанный от мира облаками и тишиной.
Зал дышал холодным величием: безупречные белые скатерти, хрустальные бокалы, отбрасывающие блики, как слезы, и алебастровый рояль, на котором никто не играл с того вечера, когда ее муж в последний раз провел пальцами по клавишам. А рядом – огромный аквариум, где медленные, как тени, рыбы скользили за стеклом, будто наблюдая за скорбью, которой не было места в этом безупречном интерьере.
Но сегодня на каждом столе стояли азалии. Багровые, почти черные в полумраке, они лежали на белоснежном полотне, как капли застывшей крови. Их лепестки шептали о боли, которую Аманда не произносила вслух – о муже, который был ее миром, ее воздухом, ее тихим утром среди этих высот. Теперь его не было, и даже роскошь вокруг стала лишь дорогой оправой для пустоты.
Аманда сидела у окна, глядя вниз, туда, где город жил, не зная, что ее вселенная уже рухнула. Ее пальцы вдруг сжали край скатерти – ровно так же, как в тот день, когда она в последний раз держала его руку. Руку Джека. Выбросив из памяти теплую улыбку мужа, Аманда перевела взгляд на Адриана. Он понимал ее боль – и потому молчал, терпеливо ожидая, когда она вернется из пучин воспоминаний, чтобы наконец объяснить, зачем позвала его сюда.
– Ты стал таким взрослым, – начала Аманда, глядя на Адриана с натянутой улыбкой, однако она не могла скрыть главного – мир, в котором Джек был ее воздухом и музыкой, рухнул в одночасье.
Адриан молча накрыл ее руку своей. В этом жесте была вся их общая боль – он потерял учителя, она – любовь всей жизни.
– Он верил, что вы с Валери вернетесь к музыке, – продолжила Аманда.
При упоминании Валери пальцы Адриана непроизвольно сжались. В памяти всплыл тот вечер: ее обещание приехать, его десятки не отвеченных звонков, а потом – больничная палата, где она смотрела сквозь него, будто перед ней стоял пустой стул.
– Джек умер не от инфаркта, – внезапно прозвучало, а затем следующие слова Аманды ударили, как аккорд диссонанса. – Его отравили.
Аманда взяла сумочку, и вскоре папка с документами легла на стол с тихим шуршанием, словно перелистывались страницы их общей трагедии. Чем больше Адриан читал, тем явственнее чувствовал, как яд правды разъедает душу. Его отец… Человек, давший ему жизнь, отнял жизнь у того, кто сделал эту жизнь осмысленной. Прошла минута, две… три… И вдруг звонок телефона разрезал тишину, как нож. На экране – имя, которое Адриан вычеркнул из своей жизни. Валери. Вдова маэстро едва заметно усмехнулась – для нее этот звонок был ожидаем, тогда как у Адриана на скулах напряглись желваки и он сжал кулак.
– Пообещай, что сделаешь все, чтобы Валери довела симфонию до конца, – прошептала Аманда, и в ее глазах вспыхнул тот самый огонь, который когда-то зажигал в них Джек перед концертами. – Пожалуйста, не подведи больше Джека и вместе с Валери закончи симфонию.
Не зная, что ответить и о какой симфонии шла речь, Адриан покорно кивнул. Ради учителя он был готов на все – даже выстрелить в голову кому угодно. Поняв по взгляду Аманды, чего она ждет и почему не берет трубку, парень сам взял телефон, превозмогая себя.
– Ты опоздала, дорогуша, – первое, что он сказал, снова вспомнив тот день, когда Валери не ответила и не сдержала своего обещания. Она опоздала… исчезла из его жизни. – Но не переживай, я уже забронировал нам места рядом с учителем на кладбище. До встречи в аду! – с ненавистью подчеркнул он и резко бросил трубку.
Потому что ад – это не огонь, а правда, которую они теперь обязаны сыграть до последней ноты.
– Она придет… и ты должен будешь сдавать выбор, – произнесла уверенно Аманда и затем положила на стол тот самый конверт и ключ, который оставил перед смертью ее муж своим ученикам.
***
Небо над кладбищем было свинцовым, словно сама природа скорбела вместе с собравшимися. Редкий дождь, начавшийся еще утром, к моменту погребения усилился, превратившись в монотонный плач – капли стучали по зонтам, черным, как траурные одежды всех присутствующих.
Гроб, покрытый темно-бордовым покрывалом с вышитым золотым скрипичным ключом, медленно опускали в могилу. В воздухе витал запах влажной земли и увядающих цветов – десятки венков с белыми лилиями и алыми розами уже лежали у края.
И тогда появилась она. Валери. Опоздавшая, почти призрачная в своем черном пальто, слишком широком для ее хрупких плеч, с лицом, скрытым под вуалью, тонкой, как паутина. Ткань колыхалась при каждом движении, но не скрывала острых скул, проступающих сквозь полупрозрачную дымку – будто тени отбрасывали на нее саму себя.
Она шла медленно, как метроном на последних тактах, будто каждый шаг давался ей с усилием. Ее каблуки – высокие, но потертые – глухо стучали по асфальту, словно метроном, отсчитывающий последние минуты до конца света. Но звук тонул в шуме толпы, как ее голос – в реве машин в тот вечер.
Люди расступались. Но не из уважения… А потому что от нее пахло горем – резким, как спирт перед операцией, и сладковатым, как разлагающиеся цветы у могилы.
Некоторые бросали на нее взгляды, полные осуждения и недоумения, но ни один не видел главного: шрама на шее. Того самого. Тонкая линия, похожая на оборванную струну, белела чуть выше ворота платья. Если бы кто-то пригляделся, они бы заметили, как ее пальцы – длинные, с облупившимся лаком – непроизвольно тянулись к нему, но останавливались в сантиметре каждый раз, словно боясь прикоснуться.
Когда гроб коснулся дна, Валери сделала шаг вперед. Ее пальцы сжали красную розу – ту самую, что когда-то дарил ей маэстро после ее первого сольного выступления.
– Прости…
Шепот, растворившийся в стуке дождя. Слеза скатилась по ее щеке, а затем небо ответило ей глухим раскатом грома, как будто сама вселенная содрогалась от этой сцены.
Адриан, стоявший по другую сторону могилы, сжал кулаки. Голос Валери, даже такой сломанный, воскресил в нем не только воспоминания – ту аварию, их последний разговор, – но и старую ненависть. Они когда-то боролись за внимание маэстро, а потом стали заложниками вражды своих семей. И теперь Джек был мертв, а они – стояли здесь, разделенные его могилой. Вдруг Адриан вспомнил вчерашнюю встречу с Амандой до похорон, в его голове пронеслись последние слова вдовы маэстро: «Она придет… и ты должен будешь сделать выбор».
Валери уже повернулась, чтобы уйти – последней пришла, последней уходила.
И тогда он рванулся за ней.
– Валери!
Его голос перекрыл шум дождя. Девушка обернулась – и в тот же миг небо разверзлось ослепительной молнией, осветив ее бледное, измученное лицо.
Адриан схватил ее за запястье. Его пальцы впились в ее кожу, но боль была странно приятной – как будто она сама разрешила ему это.
– Из этого ада ты не уйдешь, пока не сыграешь симфонию до конца, – его слова прозвучали как приговор.
Гром прогремел снова, словно подчеркивая сказанное.
Он достал из кармана ключ и конверт с пожелтевшими краями – то самое письмо, которое Аманда вручила ему перед похоронами, зная, что сама уже не успеет… Зная, что следующей в землю ляжет она.
– Ты должна прочитать это, – Адриан сунул конверт и ключ ей в руку. – Он оставил это для нас. Для тебя.
Валери взглянула на конверт и ключ, потом на Адриана. В ее глазах читалось столько боли, что он на мгновение дрогнул, но тут же вспомнил ее предательство, ее молчание, ее побег.
– Игра еще не окончена, – прошептал он. – И мы оба знаем, чем она закончится.
Дождь хлестал по ним, смешиваясь со слезами на ее лице.
Аманда наблюдала за этой сценой с расстояния. Ее губы дрогнули в едва заметной улыбке – горькой, но удовлетворенной. Она знала правду о смерти мужа. Знала, что его отравили. И хотя это не возвращало Джека, в этом знании было странное облегчение – как будто годы лжи наконец закончились.
Но затем ее взгляд стал ледяным. Медленно, словно скользя по мокрым зонтам и черным шляпам, он остановился на Габриэле Риде, отце Адриана. Тот стоял в стороне, его лицо было бесстрастным, но черный бриллиант на пальце неожиданно сверкнул – будто знак, подтверждающий, что Габриэль и есть тот, кто и отправит скоро Аманду к мужу на тот свет.
Женщина не сводила с него глаз. Она знала, что все так и будет, а он знал, что та все равно доберется до правды.
И если симфония только начиналась, то финальный аккорд должен был прозвучать кровью.
***
Дождь усилился и не собирался останавливаться. Сегодня он словно лил не просто так – он был тяжелым, назойливым, будто само небо оплакивало утрату. Капли стекали по черным зонтам, сливаясь в серебристые ручьи, падали на землю, где теперь покоился Джек Лейман. Воздух был насыщен запахом мокрой земли, прелых листьев и чего-то еще – тревожного, невысказанного.
Аманда Лейман шла первой. Ее траурный вуаль колыхался от порывов ветра, словно призрак, не желавший отпускать. Она не плакала. Ее слезы, казалось, давно высохли. Но в глазах стояла пустота, глубокая, как сама могила мужа за ее спиной.
Габриэль Рид шагал рядом, его осанка оставалась безупречной даже сейчас. Но если присмотреться – пальцы, сжимающие ручку зонта, побелели от напряжения. Александра, его жена, держалась за его руку, но ее взгляд был отсутствующим, будто она уже не здесь, а где-то далеко, в воспоминаниях, где еще оставался свет.
Валери Вайс шла чуть позади, словно тень. Ее зонт, который недавно дала ей Аманда, слегка дрожал. Она не смотрела вверх, не видела серого неба, а только лишь мокрый асфальт под ногами. Каждый шаг давался с усилием, будто земля тянула ее вниз.
Адриан замыкал шествие. Его лицо было маской холодного презрения. Он ненавидел это место. Ненавидел этот день. Ненавидел…
Их окружили внезапно вспышки. Десятки, сотни вспышек, ослепляющих, как удары ножа. Голоса нарастали, словно гул толпы перед казнью.
– Госпожа Лейман! Правда ли, что ваш муж знал слишком много?
– Господин Рид! Ваши связи с мафией не имеют отношения к его смерти?
– Адриан! Вы действительно променяли скрипку на дозу? И что означает ваш последний пост, опубликованный в соцсетях?
– Вы правда возвращаетесь к музыке?
Адриан резко повернулся, его губы искривились в беззвучном шепоте:
– Снова эта саранча налетела…
Аманда и Александра услышали. Первая сжала кулаки, а вторая лишь чуть опустила веки, будто устала от всего этого цирка. Но потом…
– Валери Вайс! Ваш отец устроил теракт в день аварии! Вы знали?!
Мир Валери в эту секунду… в этот миг… рухнул. Голос репортера прозвучал как выстрел. Ее тело сковал ледяной спазм, а в следующее мгновение зонт выпал из ослабевших пальцев, упал в лужу с глухим «плюхом».
Дождь хлестал по лицу, но она его не чувствовала. В ушах стоял звон, в то время как в глазах мелькали не вспышки камер, а… Память.
Машина. Она была подростком, сидела сзади. Старшая сестра смеялась, поворачивалась к ней, что-то говорила, но слов не было слышно. Только музыка из магнитолы, что-то легкое, беззаботное. Мать за рулем улыбалась, смотрела в зеркало заднего вида. Глаза – такие же, как у сестры. Зеленые. Яркие.
Потом – крик… Резкий, животный. Не сестры. Не матери. Ее собственный. Валери. Удар. Мир перевернулся. Стекло разбилось, осколки впились в кожу, но боли не чувствовалось. Только холод. Кровь на лице, шее и руках. Запах бензина. Горячего, едкого. И… Тьма. Та самая тьма, которая забрала их всех и оставила только ее. Валери.
Девушка упала. Нет, не упала – ее будто выдернули из реальности. Колени подкосились, руки затряслись. Она не могла дышать. Не могла думать, а только лишь видеть: тот вечер. Тот проклятый вечер.
Габриэль резко шагнул вперед, его тень накрыла ее, как щит, а голос, низкий, как гром, разрезал воздух:
– Хватит.
Но камеры все равно продолжали щелкать, вопросы сыпались. А Валери… Она все еще была там. В машине. В аду. В тьме.
А дождь продолжал лить. В голове Валери звучали и звучали ноты той проклятой мелодии, которая заиграла за несколько секунд до аварии. До момента, когда мир Валери погрузился во тьму.
Фа-диез, соль, ля, ля.
И лишь вмешательство Адриана вернуло Валери из ада воспоминаний. Когда он коснулся ее руки, уводя от вспышек и репортеров, девушку словно вытолкнуло на берег реальности из потока кошмаров, но лишь на пару мгновений.
Фа-диез, соль, ля, ля.
Ноты продолжали звучать в голове Валери и погружать в ад воспоминаний.
Тем временем камеры все еще щелкали, а вопросы сыпались, как град.
– Валери! Правда ли, что ваш отец знал о теракте?
– Правда ли, что ваш отец отправил вас после автокатастрофы в психиатрическую больницу и ни разу не навестил?
Голоса сливались в оглушительный гул. Валери не чувствовала дождя на коже – только ледяные пальцы прошлого, сжимающие горло.
Фа-диез. Соль. Ля. Ля.
«Опять эта мелодия. Опять тот поворот. Мама поворачивается, улыбается, а я уже знаю, что сейчас будет. Знаю, но не могу остановить…», – в мыслях проносилось у Валери.
– Хватит! – резко бросил повторно Габриэль, шагнув вновь чуть вперед. Его голос, привыкший командовать оркестром, прорезал шум как нож. – Вы перешли все границы.
Адриан снова, но теперь уже резко дернул Валери за руку, прижал к себе, закрывая от вспышек.
– Ты в порядке? – прошептал он, но ее взгляд был пуст.
«Нет. Я не здесь. Я там. В машине. Сестра смеется, мама… Мама!».
– Отвалите от нее! – Адриан рявкнул в сторону репортеров, оскалившись. – Или вам нужен скандал прямо на кладбище?
Александра Рид быстро подошла, нахмурившись. Ее пальцы сжали плечо Валери – жесткий, почти болезненный контакт, будто пытаясь «включить» ее.
– Дыши, Лери. Просто дыши, – прошептала она, но ее голос звучал как сквозь толщу воды.
Аманда наблюдала со стороны. Ее траурная вуаль скрывала лицо, но в глазах мелькнуло что-то… Понимание? Боль? Или презрение?
– Оставьте девушку в покое, – холодно сказала она. – Разве сегодня не достаточно смертей?
Репортеры на секунду затихли. И в эту паузу Валери наконец вернулась, почувствовав холод ключа, который внезапно сжала крепче с конвертом.
«Я… здесь? Дождь. Холод. Рука Адриана. Они все смотрят. Боже, они все видели…»
Она резко выдохнула, осознав реальность:
– Я… ничего не знала про отца, – прохрипела она, голос дрожал, но звучал четко. – И если вы еще раз ткнете камерой в мое лицо – я вырву ее и засуну вам в ж…
Габриэль Рид резко кашлянул, перебивая.
– Нам пора идти, – сказал он, бросая взгляд на охрану. Те уже пробивались сквозь толпу.
Адриан не отпускал ее запястье, ведя к машине.
– Ты орала бы на них дальше – я бы снял на телефон, – буркнул он, но в его тоне была странная… гордость?
«Он… защищает меня?»
Валери сжала зубы. В голове еще звенело, но теперь там был и новый звук – ярость.
«Хорошо. Если они хотят сенсаций – они их получат. Но на моих условиях.»
Девушка сжала кулак, когда села в машину Адриана.
А дождь все лил и в такт ему стучали ее зубы, но не от холода. От ярости.
ГЛАВА 5
СИМФОНИЯ ЛЖИ
«Реквием по мечте» (Lux Aeterna) – Клинт Мэнселл, «Nocturne No. 20 до-диез минор» – Шопен и «Swan Song» – Lorn.
В особняке Лейманов даже смерть играет на рояле
– но никто не слышит фальшивых нот.
Черные ворота с позолоченными скрипичными ключами скрипели, будто ангелы-хранители, уставшие от земных грехов. Особняк Лейманов – трехэтажный великан в стиле неоготики – нависал над обрывом, словно надгробный камень, готовый в любой момент рухнуть в пучину. Внизу волны яростно бились о скалы, их шипение сливалось в четкое: «Уходите». Дождь наконец прекратился – словно ангелы выплакали всю боль утраты. Но ветер продолжал выть в щелях старых стен, предвещая новую бурю – такую же неотвратимую, как и эта встреча.
Когда Валери первой выбралась из черного автомобиля, ветер тут же начал рвать ее траурную вуаль, словно хотел сорвать последнюю маску приличия, обнажив сырую правду под ней. Адриан же вышел следующим из машины, механически поправляя галстук. Он выглядел безупречно-безразличным, будто особняк здесь служил лишь декорацией к очередному светскому рауту, а не местом траурной церемонии – события, вызывавшего в нем отвращение предстоящей театральностью горя.
Его темные волосы, уложенные с холодной точностью, контрастировали с мраморной бледностью кожи. Зеленые глаза – выцветшие, как шелк старых портьер – скользнули по фасаду с оценкой аукциониста, разглядывающего лот.
– Ну разве не уютно? – Он указал взглядом в сторону горгулий на карнизах. – Особенно трогает заботливость хозяев. Не просто украшения, а система безопасности. Надеюсь, сегодня они не на дежурстве?
Валери молчала. Ее взгляд застыл на часах башни, где стрелки подошли к 5:17. Время смерти маэстро. Время, когда остановился ее мир. Ледяной холод пробрался под кожу – точно так же, как в тот вечер. В руках она сжимала ключ и конверт, шершавый от ее нервных пальцев. Последнее письмо. Последние слова маэстро.
Между ними – пропасть в пять лет. Пять лет молчаливой войны. Пять лет, которые должны были стереть все, но лишь вбили боль глубже.
– Ты все еще ненавидишь меня, – не спросила, а констатировала Валери. Ее голос звучал ровно, как лезвие.
– О, я? – Адриан искусственно ахнул, поправив перчатки и сделав шаг к ступеням. – Я просто обожаю людей, которые растворяются в никуда на несколько лет, а потом появляются на похоронах хоть и с опозданием, но с видом "простите, я не умерла, это недоразумение".
Но в его глазах на миг что-то дрогнуло. Нет, не раскаяние. Слишком честно для него. Разве что усталость от этой игры.
Валери впилась ногтями в конверт. Ненависть? Да. Но под ней еще что-то опаснее. Тоска по тому Адриану, который когда-то смеялся, когда она фальшивила на его скрипке в скромной музыкальной комнате с потрескавшимся лаковым полом. Теперь ее каблуки ступали по паркету из черного эбенового дерева, где инкрустированные серебром скрипичные ключи при ближайшем рассмотрении складывались в стилизованные пистолеты.
Зал особняка Лейманов встретил их роскошью, в которой чувствовалась угроза: хрустальные люстры дрожали, как нервные свидетели, бросая блики на стены, обитые шелком с вытканными золотом нотами. В центре стоял рояль с зеркальной полировкой, – на крышке которого лежала посмертная маска – не серебряная, а из какого-то странного металла, меняющего цвет в зависимости от угла зрения, – а рядом возвышалась скульптура «Танцующей Смерти» – ее позолоченные кости искривились в неестественном поклоне, а струны виолончели были натянуты так туго, что казалось, вот-вот лопнут.
Гости в траурных нарядах перешептывались, их кольца с черными камнями сверкали зловещими искрами. Воздух был густ от смеси дорогих духов.
– Спрячь конверт и ключ, – прошептал Адриан. Его пальцы в перчатках из тончайшей кожи на мгновение сжали ее запястье.
Валери сунула завещание в сумку, чувствуя, как Габриэль следит за каждым ее движением через толпу гостей, медленно попивая виски из бокала с гравировкой в виде нот. Хоть она еще не вскрывала конверт, знала одно точно – маэстро оставил ей какую-то правду. Ту самую, за которой охотился Габриэль и, возможно, вся мафиозная верхушка, смертельно боявшаяся ее разоблачения. Но была ли готова к этой правде сама девушка?
Ее взгляд неожиданно зацепился за портрет Джека Леймана – огромный, в золоченой раме с виньетками из нотных листов, будто даже смерть не могла прервать его музыку. Черная траурная лента, обвившая холст, была из чистого шелка-сырца, а ее концы скрепляла брошь с черным бриллиантом – слишком массивная, слишком холодная, словно специально подобранная, чтобы подчеркнуть: здесь скорбят по-богатому. Рядом стоял рояль цвета ночного шторма – его полированная поверхность отражала гостей, как тени в загробном мире. Крышка была закрыта, но все равно казалось, будто маэстро вот-вот сядет играть, а на пюпитре лежала последняя партитура, словно музейный экспонат, а не ноты живого человека.
Внутри у Валери все сжалось в тугой узел от осознания, что вся роскошь здесь не для почтения, а для демонстрации статуса. В следующее мгновение в ее голове прозвучала нота фа-диез – та самая, которую она увидела первой на пожелтевшей партитуре, лежавшей на пюпитре. На полях чернилами был выведен странный знак: две переплетенные латинские «V», похожие на крылья.
«Пометка маэстро? Эти переплетенные «V» – будто крылья ангела или след от кинжала? Джек никогда не делал вроде случайных пометок…», – мелькнуло в голове, но крик официанта заставил ее отвлечься.
В этот момент мимо прошел еще один официант в черном. Не раздумывая, Валери выхватила с подноса бокал вина и, несмотря на дрожащие руки, залпом опрокинула его, зажмурившись. Вино обожгло горло, но вместо облегчения принесло привкус железа, словно она снова прикусила губу в ту ночь, пытаясь заглушить крик. Полумрак зала поплыл перед глазами, и Валери инстинктивно впилась ногтями в бокал, боясь упасть. «Только не здесь, не перед ними…» – но мир уже качался, как палуба корабля в шторм. Адриан едва успел подхватить ее под локоть.
– Эй, тебе плохо? – Его голос донесся сквозь плотный туман, затянувший ее мысли.
– О, как трогательно, – ее губы искривились в подобии улыбки. – Неужто сын империи Ридов обеспокоился чьим-то состоянием, кроме своего?
– Только твоим. – Он намеренно сделал паузу. – Мертвые не допивают вино. А ты – уже второй бокал.
– Со мной все в порядке. – Она резко отстранилась. – Лучше следи за своим языком. Или ты забыл, что он уже раз тебя погубил?
Окинув взглядом зал, Валери с горечью осознала: за годы ее отсутствия в мире шоу-бизнеса ровным счетом ничего не изменилось. Воздух здесь был густ от фальши, тяжел от роскоши и ядовит от притворного горя. Для большинства собравшихся эти поминки стали не данью памяти гению, перевернувшему искусство, а лишь поводом покрасоваться, посеять новые сплетни и, прикрываясь траурными вуалями, готовить сенсации для прессы. Среди этой толпы Валери наконец заметила Аманду – и сердце ее болезненно сжалось. Похоже, из всех присутствующих только они вдвоем действительно понимали, что значит потерять человека, бывшего для них целым миром. Того, кто освещал путь во мраке, шаг за шагом ведя за собой.
Сглотнув ком в горле, Валери вновь взяла бокал вина, но едва пригубила – напиток внезапно показался ей липким, как кровь. Горло сжалось, а в висках застучало. «Это просто вино, просто вино…» – но пальцы предательски дрожали, расплескивая рубиновые капли на траурные перчатки.
Где-то в отдалении Адриан, окруженный гостями, поднимал бокал с театральной легкостью: «Благодарю. Да, Джек действительно подарил мне любовь к музыке…» Его голос донесся будто сквозь воду, смешавшись с нарастающим гулом в ушах.
Пол поплыл под ногами. «Не упади. Не дай им увидеть слабость», – мысленно приказала себе Валери, впиваясь ногтями в ладонь. Ее взгляд отчаянно зацепился за портрет маэстро – этот якорь хоть как-то удерживал ее в реальности, где Габриэль, стоявший с женой напротив ансамбля, вел оживленную беседу с известным актером и его спутницей. Женщина под траурной вуалью улыбалась, но ее змеиный взгляд метал яд во все стороны. Как они могли… Как они смели…
Неожиданно Габриэль поднял бокал. Зал замер в ожидании начала этого фарса под названием «поминальный тост». В последний момент Адриан отошел от гостей и оказался рядом с Валери. Его пальцы сжали стакан виски до побеления костяшек, челюсть напряглась. И странно – дрожь в руках Валери вдруг сменилась ледяной яростью, будто его присутствие вернуло ей почву под ногами.
В внезапно возникшей паузе перед тостом, когда зал замер в напряженном ожидании, ансамбль тихо проиграл те самые новые роковые ноты – фа-диез, до, ля, си. Валери тут же заблокировала нахлынувшие воспоминания – теплая улыбка мамы, смех сестры, музыка из магнитола.
– Поднимем бокалы за Джека Леймана – человека, который верил, что музыка бессмертна. Жаль, он не успел закончить свое главное творение… Но, возможно, это и к лучшему. Ведь настоящее искусство рождается только в жертве. И кто знает – может, его последняя симфония стала тем самым шедевром, который он так искал?
После блистательной речи Габриэля в зале повисла звенящая тишина. Адриан замер, Валери сжала бокал до побеления пальцев – ярость рвала ее изнутри. Аманда же, так и не притронувшись к своему бокалу шампанского (лишь изредка водившая пальцем по его краю), поставила его на стол с едва слышным стуком. И тогда по залу прокатилась буря аплодисментов, вызвавшая на губах Аманды горькую усмешку. Ее черное бархатное платье, сливавшееся с тенями зала, лишь подчеркивало бледность лица, словно сама смерть уже обнимала ее за плечи, пока Габриэль Рид дирижировал этим мрачным спектаклем.
– Вот же мразь, – прошипела Валери так тихо, что только Адриан уловил ее слова.
– Мразь – это еще лесть, – уголок его губ дернулся в усмешке. Он демонстративно сделал несколько крупных глотков виски, прямо глядя в глаза отцу, когда их взгляды случайно встретились.
Улыбка Габриэля мгновенно исчезла, когда он разглядел, что пьет сын. Габриэль ведь узнал бутыль сразу – тот самый 18-летний Гленфиддик, что стоял в баре в ночь, когда перестало биться сердце маэстро. Сын не просто пил. Он кричал без слов: «Я знаю твои руки в крови, отец». Габриэль, привыкший дирижировать людьми, как оркестром, впервые почувствовал, как дирижерская палочка выскальзывает из пальцев. Кто-то пробрался в его логово. Кто-то знал.
– За Джека, который учил, что музыка – это правда, – начала новый тост Александра, привлекая внимание мужа, когда заметила дуэль взглядов сына и Габриэля. – Жаль, он больше не услышит, как лгут те, кто кланяется в любви.
– А еще он учил, что тишина – часть симфонии, – добавил Габриэль, встретившись взглядом с женой.
Александра мило улыбнулась в ответ, ее пальцы нежно переплелись с его. Для публики они были идеальным дуэтом – две ноты в гармоничном аккорде. Журналисты сравнивали их с британскими монархами, а мафиозные кланы шептались о «королях без короны».
Но лишь горничные видели, как после всех приемов Александра часами оттирала в ванной следы его прикосновений. В их стеклянном замке трон действительно был только один… и она знала: стоит Габриэлю закончить этот последний спектакль, как корона упадет к ее ногам. Оставалось лишь не сорваться раньше времени.
Адриан наблюдал за родителями несколько мгновений, затем тяжело выдохнул и сделал новый глоток виски. Он слишком хорошо знал – их любовь была лишь театром, дешевым спектаклем для посторонних глаз.
Валери заметила, с какой яростью он сжимал бокал, глядя на Габриэля и Александру. Молча похлопав его по плечу, она прошептала:
– Твои родители действительно заслужили «Оскар». Жаль, номинация «Лучшая фальшивая семья» пока не существует.
Не в силах больше наблюдать этот фарс, она направилась к Аманде. Сделав несколько шагов, Валери неожиданно наступила на пробку от шампанского – она выскользнула из рук официанта, открывавшего новую бутылку неподалеку. Хруст пробки под ногой – и мир перевернулся. Не шампанское, а бензин. Не смех гостей, а крик матери и сестры. Рука Валери дернулась к горлу, где под воротником платья прятался шрам, но она успела остановить себя. Только бокал в ее ладони вдруг стал липким от воображаемой крови. На миг Валери закрыла глаза, сглотнув ком в горле, затем выпрямилась и продолжила путь – будто ничего не произошло.
«Не поминки, а цирк какой-то», – пронеслось в мыслях девушки.
Чем ближе Валери подходила к столику Аманды, тем сильнее вина разъедала ее душу. Джек Лейман и его жена столько сделали для нее, а Валери осознала это слишком поздно – когда уже ничего нельзя изменить… Не вернуть те моменты, когда их семьи с искренними улыбками сидели за одним столом, обсуждая сольные выступления Валери или ее сестры в школе искусств.
Даже сквозь траурную вуаль Валери разглядела в глазах Аманды ту боль, что не заглушали ни звуки ансамбля, ни красноречивые речи Габриэля и прочих гостей. Не в силах сдержаться, она молча обняла вдову. В этот момент эти объятия значили больше всех поминальных слов вместе взятых.
– Простите, – прошептала Валери, закрыв глаза. По ее щеке скатилась слеза, когда Аманда ответила на объятия. – Это я… я во всем виновата, тетя.
Она больше не могла носить маску – та разбилась вдребезги, обнажив всю ее боль. В этот момент скрипки ансамбля зазвучали громче, а ветер за окном завыл, словно предупреждая о неизбежном финальном аккорде – том, что предшествует выстрелу. Валери вдруг вспомнила: тот странный символ на партитуре – перевернутый ключ – был и на последнем письме маэстро, которое она так и не прочитала еще. Но осознать это она смогла лишь секундой позже, когда грянул выстрел.
– Ты ни в чем не виновата, дитя мое, – нежно прошептала Аманда, и ее интонация неожиданно напомнила Валери ту самую фразу, которую она слышала в детстве от няни – женщины, заменившей мать после катастрофы до того как отец отправил дочь в психиатрическую больницу. Та же мягкая хрипотца, тот же ритм… «Спи, моя девочка». Но почему сейчас? Почему именно сейчас?
Запах духов Аманды – жасмин с примесью миндаля – ударил в нос. Валери моргнула: перед глазами на миг проплыло лицо няни, склонившееся над ее кроватью в ту ночь, когда она впервые после автокатастрофы улыбнулась и заговорила. Но воспоминание рассыпалось, как только пальцы вдовы коснулись ее щеки.
– Обещай мне… – продолжала Аманда, но ее голос теперь звучал настойчиво, – Прочти сегодня письмо Джека. Закончи его симфонию вместе с Адрианом.
Валери почувствовала, как по спине пробежали мурашки – в глазах вдовы читалась не только мольба. Там горело предупреждение. Но прежде чем она успела что-то понять, выражение лица Аманды исказилось в ужасе, будто за спиной Валери стояла сама смерть.
Раздался хрустальный звон – кто-то уронил бокал.
В эту долю секунды тишины Валери осознала: Аманда не смотрит НА нее – она смотрит ЧЕРЕЗ нее, прямо на того, кто уже поднял пистолет.
Оглушительный выстрел разорвал тишину.
Стекло окна взорвалось дождем осколков. Валери инстинктивно зажмурилась, почувствовав, как острые брызги впиваются в кожу. Когда она открыла глаза, Аманда уже лежала на полу, а алое пятно на ее груди расплывалось по черному бархатному траурному платью, как нота на нотном стане. Последняя слеза вдовы скатилась по щеке, разбившись о пол хрустальным «до-диез».
Валери стояла парализованная. В ушах звенело. Кто-то кричал. Кто-то бежал. Но она видела только разбитый бокал шампанского, в котором пузырьки еще танцевали свою предсмертную сарабанду2.
Аманда знала, что за ней придут. Но успела передать главное. Теперь настала их очередь – Валери и Адриана. Их Симфония безумия и мести только начиналась…
ГЛАВА 6
ОСКОЛКИ СИМФОНИИ
«Lacrimosa» – Моцарт, «Doomed» – Moses Sumney, «Bachelorette» – Björk, «The End» – The Doors, «Кровь» – АИГЕЛ.
«Симфония раскололась на осколки –
каждый играет свою партию в одиночестве.
Но помни: стекло режет не только кожу.
Острее всего – когда оно ранит память» – из неоконченной «Симфонии №12» Дж.Леймана.
Тени в зале пульсировали в такт судорожным вздохам Аманды. Валери почувствовала, как шрам на шее – тот самый, от осколка, вонзившегося в горло девять лет назад – загорелся, словно стекло снова впивалось в кожу. Перед глазами поплыли образы: спина матери за рулем, косичка сестры на переднем сиденье, и она сама на заднем сиденье, уткнувшись в телефон, с глупой улыбкой листала ленту.
Аварийные лампы мигали в такт фарам той роковой машины. Запах крови смешивался с едким бензиновым смрадом, которого здесь быть не могло.
Новый выстрел оглушил зал. Хаос криков внезапно разорвался очередным звоном бокала – хрустальным и чистым, как последний вздох Аманды.
– Валери! – прошептала она.
Нет.
Это был голос сестры.
Чистый.
Обрывающийся.
Мертвый.
Удар.
Мать резко бьет по тормозам, руль уходит влево.
Крик.
Удар.
Стекло вонзается в голову сестры впереди.
Тишина.
Валери зажмурилась, но перед веками стояла картина: треугольный осколок, торчащий из затылка сестры. Секунда – и Валери уже видит свое отражение в осколке бокового зеркала – с синеющей раной на шее, из которой, как плющ, ползет алая жила.
– Ты… должна… прочитать… – хрипела Аманда, но Валери слышала голос матери, видела, как ее окровавленные пальцы соскальзывают с кожаного руля.
Пол ушел из-под ног. Она проваливалась сквозь слои времени – туда, где асфальт был мокрым от дождя, а не от крови. Адриан схватил ее за плечи, но его касание обожгло. Его крик тонул в реве несуществующего мотора, в скрежете металла, который давно стал грудой мертвого лома.
Потолок зала накренился под углом перевернутого автомобиля. Свет люстр преломился в ее слезах, превратившись в тот самый вечерний дождь на лобовом стекле. Тени шевелились, повторяя движения деревьев за окном той ночью.
Она сглотнула ком горькой слюны. Контроль. Нужен контроль. Но дрожь уже перешла в судороги – мелкие, частые, выбивающие дыхание. Последнее, что осознала Валери перед тем, как тьма поглотила ее сознание – в галлюцинациях они были еще живы: мать сжимала руль, сестра что-то говорила, болтая косичкой, а пальцы Валери не тянулись к шее, не нащупывали ненавистный шрам… В галлюцинациях не было шрама на ее шее. Не было этого проклятого осколка, который вот прямо сейчас снова впивался в горло, будто напоминал: «Ты выбралась тогда. Не факт, что повезет сейчас».
– Сука… – Адриан поймал падающую Валери, его пальцы впились в ее плечи. – Если умрешь сегодня тоже – вытащу из ада лично. Не закончишь симфонию – не верну обратно. Поняла, черт возьми?!
Но она его не слышала… Ее сознание уже растворилось в темноте, тело обмякло, став безвольной ношей в его руках.
В зале продолжал царить хаос. Кто-то в панике метался между столами, кто-то с дрожащими пальцами набирал номер экстренных служб. Голоса сливались в неразборчивый гул, а сквозь этот адский шум Габриэль Рид двигался к месту, где лежало тело Аманды, с ледяным спокойствием, будто время вокруг него замедлилось.
Он остановился, разжал ладонь и с легкой гримасой вытащил крошечный осколок стекла, впившийся в кожу, а после медленно провел пальцем по щеке, остановившись на липкой капле. Алая, еще теплая. Габриэль посмотрел на подоконник, где пуля пробила стекло, оставив паутину трещин, а затем – на Аманду. Да, это была ее кровь. Выброшенная ударом, долетевшая до него, словно последнее прощальное касание.
Габриэль медленно присел на корточки, поправил манжеты, достал из кармана пиджака белоснежный шелковый платок и, с почти нежным вниманием, провел им по ее губам, стирая алые подтеки.
– Кто же это мог с тобой сделать? – его голос звучал мягко, почти сожалеюще, но в глазах – ни капли горя. Только холодная наблюдательность, будто он разгадывал сложный пасьянс.
Адриан, все еще сжимая в руках безжизненное тело Валери, стоял в паре шагов от него. Его пальцы впились в ее кожу, а взгляд, полный ненависти, вонзился в отца.
– По-моему, здесь очевидно, кто это сделал.
Габриэль медленно поднял глаза на сына. На секунду в воздухе повисло напряжение, словно перед ударом грома. Потом его губы дрогнули в легкой, почти безумной усмешке.
– Ты что, видел у меня в руках пистолет? – Он встал и поправил складки на пиджаке. – Поверь, сынок, если бы я хотел убить Аманду… – Глаза его вспыхнули на мгновение, как лезвие на свету. – Я бы выбрал момент изящнее. Разве стал бы портить поминки? Слишком вульгарно… даже для меня.
Адриан резко дернулся вперед, но тут же ощутил мертвую тяжесть Валери в своих руках. Пришлось стиснуть зубы, чтобы не выпустить ее.
– Заткнись, тварь! – его голос сорвался на шепот, но от этого слова прозвучали еще страшнее. – Ты насрал на всю ее жизнь, а теперь играешь в благородного?
Вопрос Адриана повис в воздухе без ответа. Габриэль сделал вид, будто не расслышал его – то ли из-за нарастающего шума сирен за окном, то ли потому, что слова сына не стоили его внимания. Он бросил окровавленный платок прямо на место, где только что стоял, оставив кровавое пятно на полу, и вдруг усмехнулся, когда скользнул взглядом по обмякшему телу Аманды. Черное бархатное платье сливалось с лужицей крови, лишь в одном месте отражая свет – там, где пуля пробила ткань над сердцем. Крошечное отверстие, обрамленное бахромой распущенных нитей, будто черная роза с алым центром.
– Настоящий грех – не убийство, а дурной вкус. Умирать в таком – это уже издевательство над зрителями.
После этого комментария, сказанного будто больше самому себе, Габриэль шагнул в сторону, даже не удостоив Адриана взглядом. Его молчание было вызовом – словно он играл в шахматы, где все окружающие были для него слепыми пешками, а правила диктовал только он один.
А Валери так и осталась без сознания – хрупкой и беззащитной, застывшей между прошлым и настоящим, словно время для нее остановилось.
– Адриан! – сквозь хаос прорвался властный, но дрогнувший голос.
Александра Рид шла сквозь толпу, не обращая внимания на алую полосу, растекшуюся по рукаву – ровно так же, как пятнадцать лет назад в аэропорту Бейрута, когда она, с переломанными ногтями, разгребала обломки, чтобы достать тело дочери.
Позже она узнает, чьи руки нажали на кнопку. Позже найдет их всех – одного за другим. Но когда спустя годы перед ней оказались их дети – Адриан с его сломанной гордыней, Валери с ее шрамом на шее – она вдруг поняла: ненависть выжгла в ней все, кроме этого. Кроме странного, нелепого желания… спасти их. Может быть, чтобы в день расплаты они сами выбрали, на чьей стороне стоять.
Ее каблуки мерно стучали по паркету, а взгляд, острый как лезвие, выхватывал детали: бледное лицо Адриана, безжизненно повисшую в его руках Валери. Такой все знали ее – холодной королевой. Никто не догадывался, что подо льдом таяло что-то иное.
– Ты в порядке? – ее пальцы сжали подбородок Адриана, заставив встретиться взглядами. Осмотр занял секунду – ни ран, только ярость в глазах. Затем ее внимание переключилось на Валери. – Что с ней? – голос сорвался, став вдруг хриплым. Рука сама потянулась проверить пульс на шее девушки, но остановилась в сантиметре – будто боялась подтвердить худшее.
В этом жесте было больше материнской тревоги, чем Габриэль проявлял за всю их «семейную» жизнь.
– Возможно, шок, – сквозь зубы процедил Адриан, чувствуя, как холодный пот стекает по его спине.
Он бережно подхватил Валери на руки, прижимая ее безвольное тело к груди. Александра шла рядом, одной рукой расчищая путь сквозь толпу. Когда они вырвались на улицу, перед ними развернулась настоящая медиа-сцена: три машины скорой с мигающими маячками, полицейские, огораживающие место происшествия лентой, и стая журналистов, жадно щелкающих камерами.
Вспышки фотокамер ослепляли, гул голосов сливался с воем сирен в оглушительную какофонию. Какой-то репортер, не обращая внимания на окровавленную одежду Адриана, сунул микрофон ему прямо под нос:
– Правда ли, что убийца все еще в особняке Лейманов?
Адриан резко дернул плечом, отталкивая навязчивого корреспондента. Он едва сдержался, чтобы не швырнуть того на асфальт.
Передав Валери медикам, он обернулся – и тут же оказался в кольце репортеров. Вопросы сыпались со всех сторон:
– Что вам известно о Аманде Лейман?
– Это месть за смерть маэстро?
– Говорят, вы были свидетелем убийства?
– Как вы считаете, это все было подстроено кем-то из членов семьи Вайс?
В метре от него Габриэль, невозмутимый и отполированный до блеска, давал интервью какому-то телеканалу, временами даже позволяя себе снисходительную улыбку.
Адриан сжал кулаки. Все, чего он хотел сейчас – это чтобы земля разверзлась и поглотила этот цирк. Чтобы проснуться в своей постели и понять, что сегодняшний день – всего лишь кошмар. Чтобы завтра Аманда, живая и невредимая, со своей фирменной язвительной ухмылкой сказала ему: «Ну что, повелся, дурачок?»
Но реальность была беспощадна: холодный ветер, давящая тяжесть в груди и осознание – ничего уже не будет по-прежнему. Джек Лейман и его жена были мертвы. Все, что они оставили Адриану – неоконченную симфонию и наказ завершить ее вместе с той самой девушкой, что несколько лет назад разрушила его жизнь, лишив будущего великого музыканта. Неужели сейчас судьба давала ему шанс вернуть украденное будущее?
– Вы правда хотите вернуться к музыке? – навязчивый голос репортера вырвал Адриана из раздумий.
В этот миг в его сознании, словно вспышка молнии, возник план. Дьявольский, беспощадный план.
– Да, – ледяным тоном ответил он, медленно переводя взгляд с отца на объектив камеры. Губы искривились в безрадостной ухмылке, когда он произнес: – Джек Лейман дал мне скрипку, чтобы я играл. Но я выучу другую мелодию – научусь стрелять… чтобы убивать.
Последние слова повисли в воздухе, наполненные стальным холодом. Репортеры замерли, камеры продолжали снимать, но Адриан уже отвернулся, оставив после себя гробовое молчание и десятки недоуменных взглядов. В его глазах горел огонь, который не сулил ничего хорошего тем, кто перешел ему дорогу. Фраза сына долетела до Габриэля, но тот продолжал, будто не слыша, давать интервью, с легкой улыбкой поправляя запонку. Лишь Александра, сидевшая в скорой и сжимающая холодные пальцы Валери, резко подняла голову. Ее глаза, обычно холодные, вспыхнули яростным блеском.
«Наконец-то», – пронеслось в ее сознании. Губы сами собой растянулись в зловещей полуулыбке, от которой по спине пробегали мурашки. Бриллиант на ее кольце сверкнул, будто подмигивая – момент истины настал.
Она медленно провела языком по зубам, ощущая вкус давно вынашиваемой мести. Симфония возмездия, которую она писала все эти годы, наконец начинала звучать. И Адриан, сам того не зная, только что сыграл первые ноты.
Ее пальцы непроизвольно сжали руку Валери чуть сильнее, оставляя на бледной коже легкие следы. В этом жесте было все: и обещание расплаты, и странная нежность, и та самая ярость, что годами тлела за ее безупречным фасадом.
Когда скорая с Валери и Александрой скрылась за поворотом, Адриан резко дернул дверцу своей машины, всем видом показывая, что оставляет этот безумный цирк позади. Он не заметил, как из-за угольно-черного Aston Martin DBS, припаркованного у фонтана недалеко от особняка, за ним наблюдали холодные синие глаза Эммы Райн.
Она стояла, прислонившись к капоту, и курила тонкую сигарету, выпуская дым колечками. Тот самый трюк, которому научилась еще в школе искусств, чтобы привлечь его внимание. Тогда он так и не заметил ни ее, ни этих колец дыма, растворяющихся в воздухе. Не заметил и сейчас.
– Черт возьми… – прошептала она, швырнув сигарету под каблук.
Искусственно вскрикнув, Эмма сделала шаг и «случайно» подвернула ногу, упав на колени. Шелковое платье задралось, обнажив стройные бедра, но Адриан даже не замедлил шаг, а лишь обернулся, когда ее голос догнал его:
– Адриан!
Ветер рванул между ними, растрепав его черные волосы и сорвав с ее губ притворный стон.
– Ты все так же затаскиваешь парней в постель этим дешевым трюком? – спросил он, не скрывая усмешки.
Эмма прикусила губу, но тут же надула их, изображая обиду:
– А ты все так же игнорируешь девушек, которые просят о помощи?
– Из всех здесь ты меньше всего похожа на жертву, – бросил он, поворачиваясь к машине.
Но Эмма уже вскочила, вцепившись ему в руку с хваткой хищницы.
– Отвези меня домой, – прошептала она, внезапно сдав голос, будто вот-вот расплачется. – После всего… мне страшно одной.
И Адриан сдался. Он поверил, а она тут же спрятала улыбку, пряча лицо в складках его пиджака, когда он открыл ей дверь.
***
Темные зеркала небоскребов отражали их машину, словно безмолвные судьи. Где-то внизу, в каньонах улиц, гудели сирены, смешиваясь с хриплым блюзом из динамиков. Салон наполнился напряжением, когда свет фар высветил сжатые челюсти Адриана.
Эмма скользнула пальцами по его бедру в момент резкого поворота, и прядь ее короткого каре цвета белого золота упала на глаза, скрывая хищный блеск. Адриан машинально отметил, как контрастирует эта дерзкая стрижка с той скромницей, которой она притворялась на поминках.
– У тебя всегда было плохое чувство направления, – прошептала она, чувствуя, как горячая кожа под тонкой тканью брюк напряглась.
– Ты просила отвезти тебя домой, – резко бросил Адриан, – а не в стрип-клуб после поминок. Или у тебя традиция – сначала хороним, потом раздеваемся?
Ее пальцы замерли в сантиметре от паха.
– Ой, – надула губы Эмма, – а кто это завелся? Может, просто боишься, что на этот раз я не дам сбежать, как тогда неделю назад?
Машина дернулась на выбоине, и Адриан резко притормозил, вжимая Эмму в кресло.
– Выходи, – прошипел он, указывая на темный переулок. – Твой шок кончился через два квартала. Или тебе правда нужно, чтобы я поверил, что ты дрожишь не от возбуждения, а от «шока»?
Вспышка сирены осветила салон кроваво-красным. Эмма поймала его взгляд, медленно проводя языком по губе:
–– Какой наблюдательный… Но если бы ты правда хотел меня вышвырнуть… – ее ноготь впился в ткань брюк, – уже сделал бы.
Рука Адриана сжала руль до хруста.
– Не заставляй меня жалеть, что не оставил тебя у того фонтана, – его голос стал опасным, как рычание двигателя.
Эмма вдруг рассмеялась низко, почти по-кошачьи:
– Ты теперь заботишься о правилах. Скучно. – Пальцы поползли выше, к пряжке ремня. – А я ведь могу сделать так… чтобы ты их все нарушил вновь.
Где-то на двадцатом этаже вспыхнул одинокий свет – единственное живое окно в слепом зеркале небоскреба. Будто город подмигнул, принимая ставку в их опасной игре.
Темные зеркала небоскребов замерли в ожидании. Где-то внизу, в каньонах улиц, завывали сирены, но здесь, в салоне, царила только тяжелая тишина, прерываемая хриплым дыханием.
Эмма поймала его темный, опасный, полный ненависти взгляд и чего-то еще, что она так любила вытаскивать из него.
– Ты все еще думаешь, что контролируешь ситуацию? – прошептала она, проводя языком по его сжатым губам.
Адриан не ответил. Он схватил ее за шею и впился в губы так, будто хотел не поцеловать, а задушить. Это был не поцелуй, а скорее битва. Когда их губы слились в яростном поцелуе, он почувствовал, как мелкая родинка над ее губой – та самая, что сводила с ума всех парней из их потока в школе искусств – прижалась к его коже, словно печать собственности. Адриан ненавидел себя за то, что до сих пор помнил это: как шестнадцатилетняя Эмма демонстративно облизывала эту чертову точку, рисуя углем наброски, которые преподаватели называли «гениально непристойными». Зубы, язык, ярость – их дыхание смешалось, губы распухли от боли и желания. Его зубы впились в ее нижнюю губу – не ласка, а наказание, но ее стоны звучали как торжество – ровно так же, как она смеялась, когда в школе застала его разглядывающим ее эскизы. Эмма вцепилась в его волосы, пытаясь удержать момент, но Адриан уже отрывался от нее, оставляя на ее губах вкус крови и безумия.
– Время вышло, – прошипел он, хрипло, как будто и правда задыхался. – Дальше иди пешком, куда хочешь.
Дверь распахнулась, холодный ночной воздух ворвался в салон.
– Адриан! – ее крик разорвал ночь, но он уже давил на газ.
Машина рванула с места, оставив Эмму одну на пустынной улице, с распухшими губами и яростью, кипящей в крови. Ледяной ветер поднял короткие пряди ее каре, обнажив шею с пульсирующей веной. Даже сейчас, с размазанной помадой и распухшими губами, она выглядела как грешный ангел – этот проклятый блонд делал невинность Эммы столь убедительной.
«Какой же ты предсказуемый… – пронеслось у нее в голове, пока пальцы автоматически поправляли сбившееся платье. – Бросаешь меня на тротуаре, как пустую бутылку, и думаешь, что этим все кончилось? Ох, милый… Ты даже не представляешь, как ошибся».
– Ах ты гребанный ублюдок! – Эмма замерла, сжав кулаки так, что ногти впились в ладони. – Но знаешь что?! Твой отец хоть довозил женщин до постели!
Где-то впереди, в темноте, красные стоп-сигналы его машины мелькнули, будто дразня. Эмма провела пальцем по губам, ощущая сладковатый привкус крови.
– Ну ничего, мы еще встретимся с тобой, Адриан Рид, – прошипела она, поправляя теперь уже кожаную куртку. – От меня ты в следующий раз не убежишь, – шепотом добавила, нащупывая в кармане куртки телефон. В памяти уже всплывал номер того, кто мог помочь ей устроить Адриану «теплый» прием. – Я сделаю так, что ты будешь умолять меня остановиться.
Город вокруг замер, будто затаив дыхание. Где-то вдали завыла сирена – словно предупреждение, что игра только начинается.
Эмма провела языком по родинке над губой – этой дьявольской меткой, сводившей с ума всех в школе искусств. Присев на корточки, она заглянула в лужу, растекшуюся по асфальту. В мутном отражении криво улыбалось ее лицо: распухшие от поцелуя губы с размазанной помадой, растрепанное блондинистое каре – казалось, девушку действительно таскали за волосы (что, впрочем, было недалеко от правды).
Отражение задрожало, когда капля сорвалась с карниза, превратив ее образ в абстракцию. Но даже расплывчатые контуры не могли скрыть ледяной расчетливости во взгляде Эммы Райн.
ГЛАВА 7
ПОСЛЕДНИЙ АККОРД
Apocalyptica – «I Don’t Care», Halsey – «Control», Ólafur Arnalds – «So Far», Max Richter – «On the Nature of Daylight»
«STOP – это не знак. Это насмешка.»
(Граффити на асфальте в месте аварии)
Адриан до боли сжал челюсти, в очередной раз проклиная собственную слабость. Он знал, что Эмма – ядовитая змея, видел это в ее переливчатом смехе, в том, как ее пальцы впивались в его кожу, будто метили территорию. Но все равно сдался, поддавшись на дешевый спектакль с подвернутой лодыжкой и дрожащим голосом.
Грохот симфонического метала заполнил салон, вытесняя даже стук собственного сердца. Он выкрутил громкость до предела – пусть рев гитар разорвет эту тишину, в которой так отчетливо звучал ее шепот: «Ты все так же игнорируешь девушек, которые просят о помощи?»
Адриан резко дернул головой, словно пытаясь стряхнуть с себя прикосновения Эммы, но ее запах все еще висел в салоне – смесь «Блэк Опиум» с нотами кофе и ванили, и чего-то глубже, животного, что заставляло его ноздри непроизвольно расширяться. Этот аромат въелся в обивку сидений, пропитал его одежду, словно ядовитый цветок, продолжающий благоухать даже после того, как его сорвали.
Он с яростью нажал кнопку вентиляции, но вместо свежести в салон ворвался лишь смог ночного города, смешавшись с ее духами в удушающий коктейль. Пальцы Адриана нервно забарабанили по рулю, когда в памяти всплыло, как эти же ноты ванили обволакивали его, когда она наклонялась, чтобы «случайно» поправить ему галстук за кулисами сцены Большого театра. Адреналин ударил в виски горькой волной, заставив сглотнуть ком жгучей слюны, будто организм отравлялся не духами, а самой памятью о ней.
Из кармана пиджака дернутым движением парень вытащил шелковый платок – белый, с монограммой «AR», подарок матери на последний день рождения. Ткань скользнула по губам, оставляя алые размазанные полосы, будто следы когтей.
«Сука. Все просчитала. Даже тот самый цвет помады, что был у нее в шестнадцать», – пронеслось у него в голове.
Он скомкал платок и швырнул его в раскрытое окно, словно пытался выкинуть саму Эмму, ее нарочито-беспомощный взгляд и фальшивые обещания. Но ветер лишь подхватил ткань, швырнув ее на асфальт. Платок развернулся в падении, на мгновение зацепившись за водосточную решетку – белое пятно на грязной улице, последний след ее прикосновений. Но аромат ванили и кофе, словно призрак, продолжал витать в машине, въевшись в кожу сидений, в его волосы, в каждый сантиметр пространства, напоминая, что некоторые яды не выветриваются так просто.
Педаль газа ушла в пол. Один стакан «Гленфиддика» не делал его пьяным, но давал ту самую ложную смелость, когда кажется, что все препятствия растворятся, стоит лишь прибавить скорость. Адриан четко видел дорогу, но намеренно игнорировал знак «STOP», будто проверял, сможет ли мир хоть что-то ему запретить теперь, когда все правила уже были нарушены. Сердце колотилось так, будто хотело вырваться через горло – не от страха, а от восторга нарушенного запрета.
Город превратился в размытое пятно, а запах ее духов в салоне стал еще острее. Адриан ловил себя на том, что слишком сильно давит на педаль – словно не машина, а собственное тело требовало адреналина. Виски 18-летней выдержки оставил во рту привкус дубовой бочки и… металла. Крови? Нет, просто он слишком сильно стиснул зубы. Вопль шин на повороте слился с воем сирены где-то вдали – на этот раз не за ним, но он все равно инстинктивно вжал голову в плечи.
Темные переулки, где когда-то они с Эммой прятались от дождя, мелькали за окном как обрывки пленки.
«Нет. Больше никогда».
Его пальцы сжали руль так, что суставы побелели, повторяя цвет того самого платка, что теперь валялся в придорожной грязи. Легкое головокружение от виски давно прошло – его заменила хрустальная ясность ярости. Адриан Рид внезапно понял, что ведет машину абсолютно трезво: алкоголь выгорел, оставив только жжение в груди и одно желание – никогда больше не останавливаться.
Внезапно воспоминание пронеслось, как вихрь: он снова увидел себя «Призрачным гонщиком», рассекающим ночные трассы на раскаленном мотоцикле. Губы Адриана искривились в дьявольской улыбке, а в глазах вспыхнул знакомый огонь – тот самый хищный блеск, что зажигался в нем перед каждой гонкой, когда асфальт становился музыкальным станком, а рев двигателя – симфонией победы.
Парень был создан из адреналина и диссонансов3 – его кровь давно превратилась в бензин, а сердце билось в странном ритме, где рев моторов сливался с визгом шин в единую симфонию скорости. Спидометр пел сопрано на предельных оборотах, а пальцы Адриана, привыкшие выжимать из рояля ледяные пассажи и вытягивать из скрипки стонущие ноты, теперь сжимали руль с той же безупречной точностью. Дорога стала его новым музыкальным инструментом, а скорость – партитурой, где каждый поворот звучал как виртуозный аккорд.
Резкий поворот – шины взвыли, выплеснув в ночь едкий запах горячей резины. Красный глаз светофора мелькнул и погас, будто его и не было. Встречные машины проносились мимо, их клаксоны выли, как раненые звери, но Адриан уже не слышал ничего, кроме рева мотора, слившегося с грохочущим симфоническим металлом из динамиков.
И вдруг – шепот. Тонкий, дрожащий, как обрыв струны в последний момент перед концертом. Голос маэстро в голове Адриана:
«Закончи мою симфонию».
Холод пробежал по спине. Ладони, сжимающие руль, вдруг стали липкими от пота.
– Черт…
Он рванул руль влево, но было поздно.
Удар.
Грудная клетка сжалась как аккордеон, выбивая воздух с кровавым привкусом меди. Глухой, тяжелый, как падение рояля с десятого этажа. Тело дернулось вперед, а ремень врезался в грудь, перехватив дыхание. Лоб чуть не разбился о руль – в носу запахло гарью, маслом и едким дымом от перегретых тормозов. Машина, скрежеща крылом о бордюр, врезалась в остановку.
Тишина. Только прерывистое тиканье остывающего двигателя. Только хриплое, неровное дыхание.
И потом – скулеж. Высокий, дрожащий, как фальшивая нота в тишине концертного зала.
Три секунды. Три удара сердца, вырванных из грудной клетки. Три такта мертвой тишины, прежде чем Адриан разорвал кокон оцепенения – его пальцы впились в дверную ручку, словно в горло невидимого противника.
Вывалился – не вышел, не выбрался, а именно вывалился, как труп из разбитого гроба, – на асфальт, усеянный осколками стекла, блестящими, как слезы ангела-отступника. Колени встретили землю с мокрым хрустом – то ли гравий впился в плоть, то ли кости наконец признали свое поражение. Перед ним, в дрожащем круге света от разбитого фонаря, лежал щенок в неестественном изгибе, его рыжий мех слипся в багровые сосульки, а из полуоткрытой пасти стекала пенистая малиновая жижа, пузырясь при каждом хриплом выдохе – точь-в-точь как шампанское в бокале на последнем рождественском приеме у маэстро.
Звуки обрушились на него лавиной:
– Ты че, ослеп?! – хриплый крик из темноты.
– Кто-то вызовите полицию и скорую! – сорванный женский голос.
– Господи, да это же щенок…
Но Адриан слышал только одно – маэстро, смеющийся в глубинах памяти, тот самый смех, что когда-то звучал как контрабас в джазовом ансамбле.
«Слушай, Адриан, вот видишь – этот пес знает музыку лучше нас. Тявкнет – значит, здесь нужно пиано 4 . Зарычит – форте 5 . Попробуй, сыграй ему…».
Щенок захрипел.
Адриан попытался что-то сказать, но язык прилип к небу. Во рту было сухо и горько, как после трехчасового сольного концерта. Сердце колотилось, сбивая ритм – не в такт музыке, не в унисон мотора, а хаотично, как клавиши рояля, сорвавшиеся в свободное падение.
Он протянул руку. Пальцы дрожали. Те самые пальцы, что выжимали из рояля ледяные пассажи и каскады нот, теперь не могли коснуться даже этого теплого, дрожащего комка жизни.
Но когда он осторожно провел ладонью по вздыбленной шерсти, под пальцами забилось крошечное сердце – часто-часто, как шестнадцатые ноты6 в стремительном пассаже7. Теплая кровь щенка стекала на его пальцы, которые когда-то давили клавиши рояля до хруста. Теперь они дрожали, как струны на расстроенной скрипке.
Щенок мог выжить. И Адриан сделает для этого все.
Парень медленно, с бесконечной осторожностью подхватил щенка, прижимая к груди. Теплая дрожь маленького тела, прерывистые удары сердца под ребрами – вдруг это стало единственным, что имело значение.
– Держись, малыш, – прошептал он, и впервые за много лет его пальцы – эти изящные инструменты пыток и виртуозных пассажей – не дрожали, обретя новую партитуру в ритме маленького сердца.
***
Темные стены палаты сомкнулись вокруг Валери, словно ледяные пальцы мертвеца, медленно сжимающие горло. Смерть явилась без приглашения – нагло, цинично, оставив после себя лишь горький привкус недосказанности.
Аманда ушла. Та самая, что держала ее на плаву, чью преданность она принимала как данность, пока не стало слишком поздно. Теперь в голове звенела звенящая пустота, прерываемая лишь назойливым шепотом совести:
«Ты должна была… Ты обязана была…».
Но смерть не торговалась. Она просто забирала свое.
А стены продолжали сжиматься.
Валери свернулась калачиком на больничной койке, впиваясь ногтями в собственные колени сквозь тонкую ткань траурного платья. Так же она сидела тогда – когда вселенная раскололась на «до» и «после».
Обрывки памяти вспыхивали, как неоновые вывески в тумане: хруст лобового стекла, удушающий запах горящего бензина, пронзительный материнский крик, оборвавшийся на полуслове и… тишина.
Глухая, абсолютная, мертвая тишина.
Потом – эта же больница. Перебинтованная шея. Боль, разлитая по всему телу, словно ртуть. И тот самый врач с глазами как у дохлой рыбы, но с едва уловимой дрожью в уголках губ.
– Ваша сестра и мать…
Его голос дал трещину, но не от сочувствия – просто профессиональное выгорание, тысячный такой разговор за карьеру.
– …не удалось спасти.
Фраза ударила в висок, оставив после себя лишь глухой звон.
И вот она снова оказалась здесь. Снова в этой позе. Снова в одиночестве. Только теперь не было даже шока, а лишь леденящее душу понимание: смерть – единственная, кто никогда не передает. Она всегда возвращается.
За дверью, прижимая к груди перебинтованную руку, стояла Александра Рид. Швы горели огнем, но эта боль была ничтожна по сравнению с тем, что творилось за стеклом.
Через узкую прямоугольную вставку в двери она смотрела на сжатую, как пружина, Валери, готовую сорваться в неконтролируемое падение.
Она знала эту боль. Знала слишком хорошо.
Тихо выдохнув, Александра стиснула зубы и перевела взгляд на врача. Тот листал историю болезни, бессмысленно щелкая авторучкой – монотонно, как тюремные часы, отсчитывающие последние минуты.
– Долго ли она так продержится? – голос Александры прозвучал хрипло, как будто горло было пересыпано пеплом.
Врач медленно поднял глаза. Его взгляд был мутным, будто он смотрел не перед собой, а куда-то сквозь время.
– Валери пережила больше, чем положено в ее годы. – Пауза повисла густо, как йод в спиртовом растворе. – Я знал ее мать. Селену Вайс. Мы… учились вместе в школе.
Его пальцы непроизвольно смяли уголок страницы.
– Когда Бог создавал голоса, для нее Он взял частицу собственного. Но искусство… – Он резко замолчал, словно наткнулся на невидимый барьер. – Селена просила передать вам: если музыка ее убила, то дочь должна ее воскресить.
Щелчок ручки прозвучал, как выстрел. И в этот момент… Пронзительный звонок разорвал тишину, заставив эхо носиться по стенам, как затравленный зверь. Александра на автомате поднесла трубку к уху, даже не взглянув на дисплей.
– Александра… – голос на том конце провода звучал устало, почти по-отечески. – Твой мальчик опять сыграл не ту ноту.
Она не ответила. Просто сжала трубку так, что костяшки пальцев побелели.
– Разнес остановку на Темной Берситке. Чуть не прихлопнул какого-то пса… – последовала напряженная пауза. – К счастью, наши люди успели убрать полицию из протокола. Но, понимаешь… – Он сделал еще одну паузу, намеренно затяжную. – Боссу это не понравилось. Он считает, что Адриан слишком часто выходит за рамки, а особенно теперь после заявления о том, что собирается вернуться к музыке.
Губы Александры задрожали. Она знала, что значит «не понравилось». Последний раз, когда «босс был недоволен», ее возлюбленного нашли в концертном зале с перерезанными струнами рояля, запутавшимися вокруг шеи, как удавка. В тот день она должна была получить кольцо с бриллиантом, а вместо этого получила пулю в сердце. Кто-то решил, что счастье Александры – это слишком дорогая роскошь для этого мира.
– Что ему нужно? – прошептала она, чувствуя, как мир вокруг снова начинает погасать.
– Он хочет встречи. Завтра. В любимом месте. – Очередная давящая пауза. – И, Александра… Пусть Адриан возьмет скрипку. Босс любит, когда он играет именно на ней.
– Это не просто встреча, да? – ее голос стал хриплым, как после долгого молчания.
На том конце провода раздался мягкий смешок.
– Ты же знаешь, Александра, в нашей симфонии нет случайных нот.
Гудки. Этих слов хватило, чтобы сердце пропустило удар, а в висках застучала знакомая, адская дробь. Перед глазами поплыли кровавые осколки памяти: пятнадцать лет назад. Аэропорт. Ее пальцы, царапающие горячий бетон. Теплое еще тело дочери. Стеклянные глаза, смотрящие в никуда.
Теперь история повторялась. Снова. Словно проклятие. Словно карма, которой не избежать.
Стиснув зубы, Александра резко опустила телефон в сумку и тут же распахнула дверь палаты. Ее каблуки отстучали по кафелю четкий ритм, словно отсчитывая последние секунды перед бурей. Она опустилась перед Валери в грациозном приседании, пальцы с идеально подстриженными ногтями впились в хрупкие плечи девушки – не объятие, а властный захват.
– Играй. Пой. Что бы ни случилось, – ее голос звучал как шелковая петля, мягкая и смертельно опасная. – Даже если погаснет свет… или к твоему виску прижмется ствол. Музыка – твой единственный щит и меч. Запомни это.
Валери вздрогнула. Ее пустой взгляд, блуждающий по стенам, теперь утонул в глазах Александры – серо-зеленых, как лесная чаща перед грозой, где уже витал запах грозового озона. В них читалось то, что знатоки называли «взглядом павшей богини» – материнская нежность, замешанная на стальной решимости.
– Я… не могу, – прошептала Валери, сжимая веки, но Александра уже ловила ее слезу кончиком пальца с безупречным маникюром.
– Лжешь, – ее губы искривились в улыбке, где не было ни капли тепла. – Ты сможешь. Потому что я не позволю тебе сдаться на этот раз.
Она поднялась с легкостью хищницы, шуршание ее платья звучало как предостерегающий шепот. В каждом движении читалась холодная грация женщины, знающей, что битва уже началась.
Оставшись снова одной в палате, Валери резко вытерла слезы и бросила взгляд на тумбочку, где лежала ее сумочка. Пальцы непроизвольно сжались в кулак, когда она достала тот самый конверт, оставленный маэстро перед смертью. Девушка судорожно сглотнула ком в горле и с дрожью в руках вскрыла письмо.
За окном взвыл ветер, яростный, словно пытающийся сорвать крышу с больницы, но Валери уже не замечала ничего вокруг. Ее взгляд приковало к строчкам, написанным рукой Джека Леймана:
«В этой симфонии зашифрованы мои и все твои воспоминания, Валери, и правда, которую так тщательно скрывала твоя мать. Сыграй ее. Допиши вместе с Адрианом до конца. Неважно, что будет…»
Буквы поплыли перед глазами. Она судорожно прижала ладонь ко рту, но слезы уже катились по щекам горячими потоками, оставляя соленые дорожки на бледной коже. Конверт смялся в ее дрожащих пальцах.
ГЛАВА 8
ТЕНИ ПРОШЛОГО
«Vide Cor Meum» (из фильма «Ганнибал»), «Lacrimosa» – Моцарт и «The Host of Seraphim» – Dead Can Dance.
Музыка – это проклятие, которое передается по наследству, как генетический код.
Играешь ли ты ее, или она играет тобой?
Эмма Райн с детства была живой куклой – слишком идеальной, слишком хрупкой.
Белоснежные локоны, фарфоровая кожа, огромные глаза цвета весеннего неба – все завидовали ее ангельской внешности. Но сама Эмма ненавидела это зеркальное отражение матери. Каждый взгляд в зеркало напоминал: она всего лишь бледная тень Софи Райн, проигравшей в международном конкурсе оперных див, вложившей в дочь все свои несбывшиеся амбиции.
Мать лепила из нее совершенный музыкальный инструмент с тех пор, как Эмма впервые сыграла аккорды на рояле. «Ты должна затмить даже Селену Вайс», – шептала Софи, впиваясь ногтями в плечи дочери, оставляя на нежной коже полумесяцы красных царапин. Теперь Эмма бессознательно повторяла этот жест. При каждом волнении ее пальцы сами находили участок кожи под ключицей, чтобы оставить кровавые дорожки.
Селену Вайс, ту самую легендарную соперницу матери, Эмма видела повсюду и даже с закрытыми глазами. В ее воображении Вайс была огромной, как орган в кафедральном соборе, с позолоченными голосовыми связками вместо волос и голосом, способным разбивать хрустальные люстры. В зеркале школы искусств, в блеске рояля мелькало ее лицо – миндалевидные глаза сужались, а губы растягивались в ухмылку ровно тогда, когда у Эммы дрожали пальцы на трудном пассаже. Она слышала ее в скрипе половиц, напоминавшем язвительный смех, чувствовала в каждом взгляде преподавателей. И теперь этому монстру – не человеку, а самой музыке, воплотившейся в плоть, – предстояло противостоять хрупкой девочке с фальшивым ангельским взглядом и руками, которые мать научила не играть, а сражаться. Перед каждым выходом на сцену Эмма тайком глотала таблетки – маленькие, белые, с горьковатым послевкусием. Сначала одна, потом две, а к шестнадцати годам – уже горсть, которую приходилось запивать ледяной водой, чтобы не подавиться. Она больше не представляла жизни без них: эти химические костыли стали важнее рояля, важнее материнских приказов, важнее самой музыки.
Эмма давно разучилась отличать собственные желания от навязанных. Где заканчивалась она, хрупкая девочка с разбитыми мечтами, и начинался созданный матерью идеальный образ? Даже влюбленность в Адриана, вспыхнувшая в девять лет, когда она впервые переступила порог школы искусств, превратилась в спектакль – перед ним она играла дерзкую и бесстрашную. Лишь старший брат видел ее настоящей: в его присутствии маски падали, обнажая ту самую потерянную девочку, чьи мечты родители методично раздавили, запихнув в образовавшуюся пустоту свои несбывшиеся амбиции.
Музыкальная династия Райн не терпела предательств. Софи, чья оперная карьера рухнула в тот роковой вечер, когда Селена Вайс вырвала у нее победу на международном конкурсе, видела в дочери орудие мести. Каждый день она лепила из Эммы идеальную исполнительницу – живую машину для победы, которая должна была не просто затмить Вайс, но и занять пост директора школы искусств после ухода Александры Рид, которая заняла пост после смерти Селены. Софи была уверена, что что-то там было нечисто.
Джонатан Райн, генеральный директор Daimler AG, создатель самых совершенных автомобилей мира, предпочитал не вмешиваться в этот болезненный процесс воспитания. Его мир состоял из математически точных инженерных расчетов и безупречной немецкой логики – полной противоположности истеричному миру оперных интриг, где царила его жена. По вечерам он мог восхищаться Моцартом за бокалом рислинга, но утром снова уезжал в свой рациональный мир машин, оставляя Эмму на растерзание материнским амбициям. В семье Райн музыка давно перестала быть искусством – она стала фамильным проклятием, передающимся по наследству, как генетический дефект.
– Если бы не эта выскочка Селена, я бы победила в том конкурсе, и сейчас мы жили бы счастливо, – прошипела Софи пару дней назад за ужином, с такой силой вонзая нож в стейк, что тарелка звонко зазвенела. В ее воображении лезвие рассекало не мясо, а горло Селены – именно так она представляла свою месть вот уже несколько лет с момента как Вайс выиграла в конкурсе.
Джонатан молча закатил глаза и сделал глоток виски, а Алекс, старший брат Эммы, сидевший напротив матери, устало отодвинул тарелку.
– Мы были бы счастливее, если бы ты наконец приняла тот проигрыш, – сказал он, вставая. Его стул с грохотом отъехал назад. – Но ты предпочитаешь жить в прошлом, затащив туда и Эмму.
Софи остолбенела. Только когда дети вышли, она перевела взгляд на мужа, сжимая вилку до побеления костяшек.
– Как он смеет!..
– А как ты смеешь доводить дочь до кровавых пальцев? – Джонатан поставил бокал с такой силой, что хрусталь зазвенел. В его обычно спокойных глазах читалось нечто новое – холодное разочарование. – Ты превращаешь музыку в пытку. Это уже не искусство, Софи. Это патология.
И он резко поднялся, оставив жену в гнетущем одиночестве. Лицо Софи исказила судорога – верхняя губа дернулась, обнажив на мгновение сжатые зубы. Не раздумывая, она схватила бокал и опрокинула вино в горло одним движением, будто пыталась смыть горький привкус его слов. На таких нотах и заканчивались последние несколько месяцев ужины в семье Райн.
Однако сегодня, после происшествия на поминках, Эмме было не до ужинов и репетиций. Униженная холодным отказом Адриана, она не собиралась оставлять это просто так. Эмма сидела на капоте машины брата, поджав ноги, будто старалась казаться меньше. Алекс стоял рядом, опершись на дверь своего Mercedes, и смотрел на сестру с привычной смесью усталости и скепсиса.
– Адриан пытался тебя изнасиловать? – спросил он, не меняя позы.
– Да, но я успела вырваться, – Эмма провела пальцем под глазами, размазывая тушь. – Боже, я такая дура… Думала, он просто пожалел меня и подвезет домой.
Алекс скрестил руки.
– И зачем ты вообще села к нему в машину?
– Потому что я хотела сбежать! – Она резко подняла голову, и капот слегка дрогнул под ней. – Родители были заняты интервью, журналисты лезли с вопросами… А он подошел и сказал: «Тебя тоже тошнит от этого цирка? Поехали».
Алекс молча достал сигарету, давая ей понять, что не верит ни слову. Резкий порыв ветра ворвался между ними, растрепав его каштановые волосы и подняв с асфальта вихрь сухих листьев. Алекс медленно выпустил струйку дыма, наблюдая, как она растворяется в холодном воздухе, затем шагнул вперед, загораживая Эмму от нового порыва ветра. Его усмешка была острее осеннего ветра.
– Поминки. Убийство. Изнасилование, – перечислил он, делая между словами театральные паузы. Пальцы с сигаретой замерли в воздухе, когда он наклонился, чтобы заглянуть в ее голубые, слишком невинные глаза. – Давай начистоту: Адриан тебя послал, и теперь ты хочешь устроить шоу?
Эмма резко сглотнула, чувствуя, как предательский румянец заливает щеки. Ее взгляд упал на асфальт – именно здесь час назад стояла ее раздавленная гордость, когда машина Адриана исчезла за поворотом. Пальцы вцепились в собственные локти так сильно, что под кожаной тканью куртки проступили белые пятна.
Алекс ощущал, как внутри него борются два зверя: один требовал защитить младшую сестру, другой – врезать ей за эту дешевую игру. Сдавленный вздох – и теплая ладонь легла на ее плечо, одновременно утешая и пригвождая к месту. Свободной рукой он достал телефон.
– Ладно, чертенок, я помогу. Но запомни, – его голос стал низким и опасным, – Адриан не просто музыкант. Он наследник империи, где музыка – это только фасад. Ты играешь с огнем.
Глаза Эммы вспыхнули триумфом, а губы растянулись в улыбке, от которой стало холоднее, чем от ветра. Она напоминала кошку, только что загнавшую канарейку в угол.
– Габриэль будет в восторге, – прошептала она, наблюдая, как Алекс набирает номер. – Этот гиен никогда не отказывается от скандального мяса.
Двое коротких гудков – и в трубке послышался медовый голос.
– Джули, дорогая. Готова к сенсации, которая взорвет твой рейтинг? – Алекс прикурил новую сигарету, а Эмма уже видела себя на экранах всех телевизоров: неприступная королева, перед которой Адриан будет ползать на коленях. Ее пальцы непроизвольно сжались в кулаки – как будто уже держали его бьющееся сердце.
***
День Габриэля Рида выдался на редкость удачным. Сегодняшнее кровавое шоу превзошло все ожидания. Развалившись в кожаном кресле своего кабинета, он лениво потягивал 30-летний виски, пальцы свободной руки ритмично отбивали такт на подлокотнике. За панорамным окном бушевал океан, вспышки молний на секунду освещали его холодное лицо – точь-в-точь как в ту ночь двенадцатилетия, когда пуля прошила сердце его матери.
Тот же Моцарт. Тот же выстрел. Та же изящная смерть.
Звуки «Реквиема» лились из скрытых колонок, обволакивая кабинет похоронным шелком. Габриэль прикрыл глаза, наслаждаясь симфонией воспоминаний: вот Аманда Лейман падает недалеко от рояля, вот его мать обмякла в кресле с бокалом шампанского… А на пюпитре – те самые зловещие "V", будто крылья ангела смерти.
– Снова играешь в судью, Валентин? – его пальцы резко сжались, ногти впились в ладонь, оставляя полумесяцы ран. Хрустальный бокал дрогнул от напряжения. – Или решил, что сможешь подставить меня… как свою дочь? – Тишина в кабинете повисла на несколько секунд, густая и давящая, словно перед грозой. – Интересно, Валери знает, что это ты устроил ту аварию? – голос Габриэля прозвучал почти небрежно, но в каждом слове чувствовалась стальная хватка. – И что потом стер ей память, подкупив того психиатра?
В глазах вспыхнуло то самое опасное бешенство, из-за которого в Большом театре несколько лет назад после его визита пришлось менять весь паркет. Габриэль медленно провел языком по зубам, ощущая вкус крови – он снова прикусил щеку, как в двенадцать лет, когда стоял над еще теплым телом матери.
Но теперь он был не беспомощным мальчишкой. Теперь он сам дирижировал смертями.
– Ах да, конечно, она ничего не знает, – театрально вздохнул Габриэль, вращаясь в кресле с грацией хищника. – Но не волнуйся… кое-кто уже позаботился вернуть твоей дочурке память.
Он сжал бокал так, что хрусталь едва не треснул, сделал медленный глоток виски – и в этот момент дверь кабинета распахнулась, и в проеме возникла Александра – прямая, как клинок, с перебинтованной рукой, будто боевым шрамом. Габриэль мгновенно натянул улыбку, но когда его взгляд скользнул по бинтам, в глазах вспыхнула мастерски сыгранная тревога.
– Сандра! – Он поднялся, широко раскрыв объятия, но она отступила на шаг: холодный, точный, как удар шпагой.
Его руки замерли в воздухе. Он знал, что она видела все. Видела, как во время взрыва он не закрыл ее собой, а лишь резко рванулся в сторону, оставив ее под дождем осколков.
– Со мной все в порядке, – ее голос прозвучал, как лезвие по льду. – А вот с твоим сыном – нет.
Габриэль напрягся, вспомнив, как Адриан демонстративно осушил стакан «Гленфиддика» прямо перед ним на поминках. Его пальцы непроизвольно сжались.
– Где ты был, пока я находилась с Валери в больнице? – Александра медленно обвела кабинет взглядом, будто ища следы крови. – Ты в курсе, что Адриан разнес остановку? Сбил собаку? А если бы это был ребенок?
Уголок его губ дрогнул.
– Он бы выжил. А все остальное… – Габриэль развел руками, и в этом жесте была вся его суть: шикарный костюм, дорогие часы и пустота вместо сердца. – Не имеет значения.
Александра сжала пальцы на левой руке в кулак так, что побелели костяшки. В этот момент она поняла: ее муж – не человек. Он то самое зеркало, в котором отражались только собственные интересы. И если надо, он разобьет его, чтобы осколками перерезать всем глотки. За окном прогремел гром, словно сама судьба насмехалась над ее наивностью. Когда-то Александра верила, что у этого человека есть сердце. После недолгой внутренней борьбы она сдалась – без мужа ей не справиться. Не уйти чистой из этой грязной истории с чужим ребенком, который стал ей ближе крови.
– Мне звонил… друг Валентина, – голос дал мелкую трещину на последнем слове, но она сжала вновь кулаки, заставляя себя продолжать. – Завтра нас с сыном ждут там… в руинах того театра.
Тишина в кабинете стала густой, как дым после взрыва. Габриэль изучал жену взглядом, в котором смешались подозрение и холодный расчет. Его ум, отточенный годами интриг, уже соединял факты в единую картину: Валентин Вайс, официально погибший пять лет назад в том самом теракте… Какая изящная месть.
– О-о, – растянул он букву, медленно обводя языком зубы. – И меня, значит, в гости не звали?
Александра лишь молча опустила подбородок, тень от люстры легла на ее лицо, превращая кивок в театральный жест покорности.
– Что ж, – губы Габриэля искривились в усмешке, – тогда я стану сюрпризом для нашего «воскресшего» друга.
Он замер на мгновение, и вдруг, впервые за годы их брака, его глаза стали почти искренними.
– Спасибо, что рассказала мне об этом, – его пальцы скользнули по щеке Александры, подхватив выбившуюся прядь. Легкое прикосновение, словно он боялся раздавить хрупкую ложь между ними.
Его дыхание пахло мятой и дорогим коньяком – точь-в-точь как в день их помолвки. Только теперь за сладостью угадывался металлический привкус, будто он только что лизнул лезвие ножа.
– Я позабочусь, чтобы больше никто… – Его губы едва коснулись ее лба – легкое прикосновение, от которого по спине пробежался ледяной пот. –…не оставил на тебе ни царапины.
Александра не дрогнула, но ее ногти впились в ладони так, что проступила кровь. Этот жест был до боли знаком: ровно так он «целовал» ее в день свадьбы, когда за их спинами уже шептались о смерти Марка – ее возлюбленного, от которого она носила под сердцем ребенка… ребенка, которого раздавит взрывная волна в аэропорту Бейрута – вместе с обломками, чемоданами и ее последней надеждой. Александра резко вдохнула, словно пытаясь вытереть ластиком памяти кровавые кадры прошлого. В этот момент за тяжелой дубовой дверью кабинета раздался оглушительный грохот – Адриан ворвался в дом, снося на своем пути старинную консоль.
Габриэль не шелохнулся. Лишь указательный палец слегка постукивал по хрустальному бокалу, когда до него донесся сладковатый запах дорогого коньяка, смешанный с вонью перегара.
– Господи… – прошептала Александра, прикрывая рот ладонью.
Ее сын походил на выходца с войны – растрепанные волосы, в которых застряли осколки стекла, разбитая губа, напоминающая перезревшую вишню, рубашка и пиджак в пятнах крови и грязи. Служанка засуетилась, но Александра резким жестом отстранила ее, шагнув вперед. Та ненадолго застыла, украдкой глянув на Габриэля – достаточно ли он пьян, чтобы сегодня кого-то ударить.
В дверном проеме кабинета Габриэль усмехнулся, делая театрально медленный глоток. Его глаза блестели, как у кота, наблюдающего за мышиной возней.
– Не трогай меня! – Адриан дернулся, когда пальцы матери коснулись его запястья.
И тут из-под изорванного пиджака раздался жалобный писк. Парень с трудом расстегнул пуговицу, выпуская на свет крошечного щенка с перебинтованной лапкой.
– Позаботься… о Джеке… – его голос оборвался, как лопнувшая струна, и тело рухнуло на мраморный пол.
Щенок взвыл, тыкаясь мордой в неподвижную руку. Габриэль скривился, будто увидел не пса, а кусок грязи на своем идеальном черном мраморном полу.
– Опять твои сентиментальные игры, – прошипел он, разглядывая окровавленную повязку на лапе животного. – Надеюсь, хотя бы машину не сильно разбил, спасая этот дворовый мусор.
Пес рявкнул в ответ, огрызаясь на Габриэля с внезапной для такого комочка яростью. Казалось, даже он понимал, с кем имеет дело.
***
Этой ночью, когда Валери наконец переборола себя и прочла письмо маэстро, когда ее измученное тело, не в силах сопротивляться, кое-как добралось до дома, кошмары уже поджидали девушку. Они обвили Вайс хваткой ледяных пальцев с той самой секунды, как она, безвольная, рухнула на диван, даже не сбросив туфли, не смахнув с плеч тяжелое пальто. Лишь сумка и ключи, брошенные на тумбу, глухо звякнули в тишине – последний звук реальности перед тем, как тьма поглотила ее.
Стоило глазам сомкнуться, как первый кошмар уже втянул ее в свою бездну.
Темный зал. Гулкая пустота, пропитанная запахом старинного дерева и воска, смешанным с едва уловимым ароматом лаванды и металла, как будто кто-то недавно мыл здесь полы с кровью. Валери сидела за роялем, облаченная в то самое бархатное платье – черное, как сама ночь, струящееся и зловещее, сшитое из самой тьмы. Глубокий бархат, мягкий и тяжелый, поглощал свет, а кружевные вставки, подобные паутине, обнажали ее бледную кожу сквозь призрачную дымку. Корсет, туго стягивающий талию, был расшит серебряными нитями – холодными, как лунный свет на лезвии ножа. Он сдавливал не только тело, но и душу Валери. Широкие ниспадающие рукава напоминали крылья летучей мыши, готовые унести Валери в ночь, а глубокий вырез змеился по груди, оставляя ощущение уязвимости. Но главное – спина. Открытая, почти до самого низа, она была обрамлена ажурными шнуровками, стягивающими ткань, как стежки на незажившей ране.
Это было то самое платье ее матери, в котором та в последний раз выходила на сцену. Ткань липла к коже, словно второе тело, чужое и навязчивое, а при каждом движении подол шуршал, как шепот покойника, и темно-красная подкладка мелькала в складках, словно капли крови на черной воде.
Вокруг – непроглядный мрак, лишь золотой канделябр, холодный и искусственный, отбрасывал мерцающий свет на клавиши. Его огни дрожали, отражаясь в полированном черном лаке, будто души, запертые в металле. На пюпитре лежала партитура – ноты, которые с каждым ее аккордом оживали, расплывались кровавыми чернилами, стекали по бумаге и капали на пальцы. Липкие, теплые.
Валери Вайс играла, а рояль стонал под ее руками, и с каждым звуком кровь текла гуще, заливая клавиши, запястья, кружева рукавов…
А в глубине зала, за пределами света, кто-то наблюдал все это время за девушкой. И ждал.
Шнуровки на спине платья вдруг натянулись туже, будто невидимые пальцы дернули за них. Валери почувствовала, как холодное дыхание коснулось обнаженной кожи между лопаток и вдруг прекратила играть, замерев.
– Играй, – раздалось у нее за спиной.
Пальцы Валери дрогнули, застыв над клавишами, когда этот голос – бархатный, властный, холодный, как сталь в лунном свете – прорезал тишину. Комок подкатил к горлу, горький от осознания: она узнала его. В тот же миг холодное дуло пистолета впилось в затылок, а свободная рука парня обвила ее талию, прижимая так, что шнуровки впились в кожу.
– Убьешь меня раньше…, – голос Валери дрогнул, когда ей начало казаться, что его губы коснулись ее шеи, – …чем я расшифрую правду?
Тень скользнула по лицу Валери, когда за спиной раздался мягкий, почти ласковый смешок. Адриан медленно выступил из тьмы, сделав еще один шаг к Валери, и слабый свет канделябра поймал изгиб его губ – тот самый, знакомый до боли полумесяц усмешки. Его пистолет скользнул вниз по позвоночнику, оставляя ледяной след, а пальцы другой руки сжали запястье девушки, заставляя взять аккорд. Кровь с ее пальцев смешалась с черным лаком клавиш.
– Разве ты не знаешь, моя дорогая, – его голос струился, как яд, а губы обжигали кожу ее плеча теперь по-настоящему, – что иногда правда куда страшнее смерти? Но разве не этого ты хочешь – чтобы я заставил тебя ее принять?
Где-то в глубине зала раздался чистый, как колокольчик, смех. Из тьмы вышла Эмма – белоснежные локоны, платье цвета первого снега. Она грациозно села на край рояля, свесив ножки в жемчужных туфельках, и провела пальцем по окровавленным клавишам.
– Какая же ты жалкая, – голосок Эммы прозвенел, как разбитый хрусталь, пока ее розовый язычок слизывал кровь с кончика пальца. – Он ведь мог выбрать меня. Но ему нравится, как ты дрожишь… Как ломаешься. Разве это не прекрасно – быть чьим-то самым болезненным аккордом?
В этот момент шнуровки на спине Валери натянулись еще туже, впиваясь в кожу музыкальными знаками, словно кто-то записывал ноты прямо на ее плоти. Адриан засмеялся – низко, глубоко, – и его зубы впились в место, где шея переходила в плечо, оставляя метку, которая могла быть и укусом, и поцелуем.
– Сыграй это, – прошептал он, переводя пистолет к ее виску. – Сыграй, и я покажу тебе, на что действительно способна твоя правда.
В сознании Валери всплыл хриплый голос Аманды, ее губы беззвучно сложились в слова «закончи симфонию вместе с Адрианом». Картинка дрогнула – и вот она уже в машине, где умирающие губы матери шептали: «Играй и пой, что бы ни случилось». Яркая вспышка – и перед ней Александра, чьи губы произносили почти те же слова: «Играй. Пой. Что бы ни случилось».
Все образы рассыпались, как осколки разбитого зеркала. Валери вжала ладони в уши, зажмурилась, бешено мотая головой.
– Нет! – ее крик разорвал тишину, когда она вскочила, опрокидывая стул. – Я не буду это играть! Никогда больше не вернусь к пению!
Дрожащими от ярости пальцами она схватила партитуру и принялась рвать ее, с наслаждением наблюдая, как бумажные клочья падали к ее ногам. Адриан рассмеялся низким, мерзопакостным смехом хищника, наблюдающего, как его жертва сама шла в ловушку. Этот смех, заполнявший весь зал, давил на Валери, проникал под кожу, ломая последние остатки сопротивления.
– Какая же ты слабая, Валери, – произнес он почти с сожалением, медленно взводя курок. Металлический щелчок прозвучал оглушительно в тишине. – Я разочарован в тебе.
Щелчок.
Не грохот выстрела, а издевательски тихий щелчок холостого патрона. Валери резко распахнула глаза, судорожно глотая воздух, вырываясь из ледяных объятий кошмара. Холодный пот стекал по вискам, смешиваясь со слезами, а сердце колотилось так, будто пыталось вырваться из груди. Взгляд Валери автоматически скользнул к часам над телевизором. Стеклянная поверхность тускло поблескивала в темноте, стрелки почти слились воедино – без пятнадцати три. Пролежав так минуту, она тяжело поднялась с дивана и, волоча ноги, побрела на кухню.
Темный коридор поглотил ее, пока дрожащая рука не нащупала выключатель. Резкий свет неоновой подсветки резанул по глазам. На автомате она достала кувшин, и ледяное стекло покрылось испариной от контакта с теплыми пальцами. Вода хлынула в стакан слишком громко, звуча оглушительно в ночной тишине.
Валери залпом осушила стакан, прищурившись от холодной волны, прокатившейся по пищеводу. Когда она поставила стеклянный стакан на стол, на дне осталась трещина, тонкая, почти невидимая, но от этого не менее реальная. Как и все трещины в ее жизни. Последняя капля воды исчезла, оставив после себя лишь влажный след, который медленно испарялся в ночной тишине.
Девушка прикрыла глаза, ощущая, как ледяное спокойствие разливается по телу, заполняя каждую трещинку в ее израненной душе. Где-то в груди сердце, наконец, сбавило бешеный ритм, возвращаясь к привычному, размеренному стуку – монотонному, как метроном, отсчитывающий секунды до следующего кошмара.
ГЛАВА 9
ТЕНЬ В БИБЛИОТЕКЕ
«Feral Love» – Chelsea Wolfe, «Teardrop» – Massive Attack, «How to Disappear Completely» – Radiohead.
«Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться,
чтобы самому при этом не стать чудовищем.» – Ф.Ницше.
Тьма отпустила Адриана в тот же миг, когда теплый шершавый язык щенка скользнул по его щеке. Казалось, пес знал – именно он был тем самым защитником, что прогнал прочь зловещий мрак, нависший над хозяином. Парень приоткрыл один глаз, и в полутьме комнаты мелькнул влажный блеск собачьего носа. Он сонно провел рукой по мягкой шерсти, а пес, будто чувствуя его слабую улыбку, с новой силой принялся вылизывать ему подбородок. Адриан что-то неразборчиво прошептал себе под нос, а затем резко встал, оторвавшись от подушки.
В сознании всплывали обрывки событий – острые, как осколки стекла, вонзившиеся под кожу и не дающие забыть: поминки, убийство Аманды, поцелуй с Эммой, авария, щенок, операция, алкоголь, бессилие. Все сплелось в один клубок боли, который душил изнутри.
Адриан провел дрожащими пальцами по волосам, затем опустил руки и уставился на ладони. Кровь. Засохшая, темная, въевшаяся в трещины на костяшках. Вчера, пока ветеринар оперировал щенка, он стоял под ледяным дождем и бил кулаками в кирпичную стену, снова и снова, словно пытался раздавить собственное отражение. Наказание за глупость. За слабость. За то, что не смог уберечь никого.
Потом была выкурена пачка сигарет и добита бутылка виски. Горло горело, голова гудела, но пустота внутри только росла. В каком-то полубреду он набрал номер Кристиана – единственного, кто еще терпел его падения. Друг сразу понял по голосу и примчался, отобрал бутылку, забрал собаку и втолкнул его в машину, будто спасая от самого себя.
– Возьми себя в руки, не будь тряпкой, – резко сказал Кристиан, сжимая его плечо так крепко, что аж заныли мышцы.
Но Адриан уже не чувствовал боли. Ему казалось, что мир рассыпался на осколки, и теперь даже если собрать все куски – они уже никогда не сложатся в целое. Так, по крайней мере, казалось Адриану вчера. Сегодня же он проклинал каждый свой вздох, каждую слабость, позволившую эмоциям затоптать разум в грязь.
Если бы он не повелся на ложь Эммы, то не было бы аварии. Не услышал бы в галлюцинациях хриплый шепот учителя. Не лежал бы сейчас пес с перебинтованной лапой, виновато прижимаясь к его колено.
Адриан сжал зубы и провел рукой по рыжей шерсти за ухом – осторожно, словно боялся снова сделать больно.
– Прости… – вырвалось шепотом, будто признание, которое даже воздух не должен был услышать.
Пес замер на мгновение, словно прочитал его мысли, а затем теплым шершавым языком медленно лизнул ладонь – осторожно, успокаивающе, будто пытаясь сказать: «Я здесь. Все теперь будет хорошо». Щенок остался хозяйничать на смятой постели, пока Адриан, с трудом оторвав себя от матраса, понес свое тело к двери. Та самая дверь в спальне – рядом с длинной полкой-витриной, где под слоем пыли и застывшего времени тускло поблескивали награды и дипломы. Безжизненные. Как и комната, забытая за годы скитаний после той аварии. После того, как мать и Валери превратились в пепел, а он – в ходячую пустоту.
Дверь в ванную скрипнула, и зеркало тут же поймало его своим мертвым стеклянным взглядом. Сорвав с себя рубашку, Адриан швырнул ее на черную гранитную раковину. И тогда оно явилось.
Отражение, от которого он бежал годами.
Гонки. Алкоголь. Сигареты. Девушки, обжигавшие пальцами его мышцы, даже не подозревая, что под кожей – не тело, а карта наказаний. Каждый шрам – нота в симфонии отцовской «любви». Особенно тот, длинный, тонкий, будто след от струны – память о «тайной комнате». Габриэль методично выводил их на его спине, когда Адриан осмеливался дышать не в такт его правилам. Но теперь… Татуировка на плече горела. Не стыдом. Не болью. Яростью. Музыка больше не будет искусством для избранных. Она станет ножом, заточенным под ребра отца. Адриан порвет струны его лжи, заставит Габриэля увидеть себя – не маэстро, не гения – а убийцу в зеркале.
И на этот раз зеркало не солжет.
Адриан резким движением стянул с себя последние лоскуты одежды – грязные, пропахшие по́том и перегаром, будто вторая кожа, которую он носил слишком долго. Он швырнул их в угол, где они бесформенной массой осели на кафель.
Шагнув под ледяные струи душа, парень впервые за последние недели две ощутил нечто, отдаленно напоминающее облегчение. Вода, обжигающе холодная, стекала по напряженным мышцам, смывая с тела следы вчерашнего ада – круги под глазами, запах табака, бурые разводы засохшей крови.
Она растекалась по черному кафелю причудливыми узорами, напоминая те самые трещины, что давно пролегли в его душе. Адриан запрокинул голову, подставив лицо напору воды, словно надеясь, что поток сможет вымыть хоть часть той гнили, что разъедала его изнутри. Но он прекрасно знал – не сможет.
Вода очищала только кожу. Она была бессильна против той тьмы, что годами копилась в нем, против отцовских уроков, выжженных не только в памяти, но и на спине.
Пальцы вцепились в мокрые пряди волос, словно пытаясь вырвать с корнем сами мысли. Капли стекали по лицу, оставляя на губах металлический привкус – наверное, кровь с разбитых костяшек. Тело Адриана впитывало только кровь, ведь слезам он не давал шанса. Ледяные струи хлестали по лицу, груди, спине, и когда вода достигла татуировки на предплечье, Адриан ощутил, как будто его спалили дотла. Не для возрождения. Не для жизни. Феникс, вырвавшийся из огня лишь затем, чтобы жечь других. И с этой секунды в нем что-то переломилось, будто сломанные кости наконец срослись крепче прежнего. Теперь он диктовал правила. Теперь каждый его шаг, каждый удар, каждый взгляд будет отлит в стали. Ради одного. Чтобы где-то там, в небытии, Джек Лейман сквозь пелену смерти смог хмыкнуть: «Ну наконец-то, чертов упрямец».
