Евагрий Понтийский Гностик: перевод и комментарий
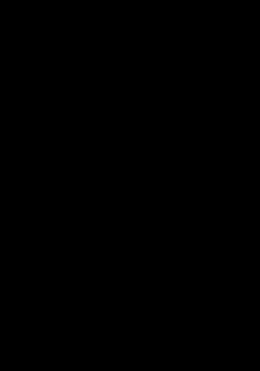
Предисловие
Предлагаемое вниманию читателя издание «Гностика» аввы Евагрия Понтийского (345–399) – одного из самых глубоких и влиятельных, но вместе с тем и самых трагически непонятых мыслителей в истории христианской аскезы, – ставит перед собой задачу заново открыть этот краткий, но чрезвычайно насыщенный трактат для современного человека, ищущего серьезного и трезвенного подхода к духовной жизни. Являясь второй частью великой аскетической трилогии, которая начинается с «Практика» (Praktikos) и завершается «Гностическими главами» (Kephalaia Gnostica), «Гностик» посвящен темам высшего духовного ведения и правилам его обретения. К сожалению, этот важнейший текст, состоявший из пятидесяти глав, не дошел до нас в своей первозданной целостности. Оригинальный греческий текст сохранился лишь фрагментарно, в виде цитат и выдержек в более поздних святоотеческих компиляциях, и, по оценкам исследователей, нам доступно не более 60% первоначального произведения. Основная часть текста реконструируется благодаря древним сирийским и армянским переводам, которые, при всей своей ценности, ставят перед исследователем и переводчиком множество сложных текстологических и герменевтических задач. Несмотря на эту фрагментарность, сохранившиеся главы позволяют с достаточной ясностью восстановить замысел Евагрия: дать целостный образ идеального духовного наставника, кристаллизовать многовековой опыт александрийской богословской школы и египетского монашества в форме практического руководства для тех, кто, очистив собственную душу, берет на себя ответственность вести других к Богу.
В наше время, когда духовная жизнь нередко редуцируется до набора психологических приёмов или поверхностных эмоциональных состояний, строгий, интеллектуально честный и психологически точный подход Евагрия вновь обретает особую значимость. Он не предлагает лёгких утешений; напротив, перед читателем развертывается картина сложнейшего внутреннего мира. Его «гностик» – не просто подвижник, но, взыскующий ведения созерцатель, которому вменяется не только личная святость, но и мудрость, рассудительность, и – что особенно важно – пастырская любовь.
Настоящий перевод и комментарий ставили своей целью максимально точно и полно донести до читателя мысль этого выдающегося отца пустыни. В своей работе мы опирались на фундаментальное критическое издание текста, подготовленное Антуаном и Клер Гийомон в серии «Sources Chrétiennes» (№ 356), сверяясь с греческим и сирийским текстами, доступными на авторитетном ресурсе EvagriusPonticus.net. Бесценным ориентиром и источником вдохновения служил классический труд отечественной патрологии – «Творения аввы Евагрия» в переводе и с комментариями профессора А.И. Сидорова (1994), а также фундаментальная статья А.Г. Дунаева и А.Р. Фокина о Евагрии в «Православной Энциклопедии». Мы надеемся, что предпринятый труд послужит дальнейшему осмыслению наследия «философа пустыни» и поможет читателю найти в его наставлениях живое и действенное руководство.
I. Евагрий Понтийский: философ в пустыне, учитель Церкви
Жизнь Евагрия Понтийского – это драма подвижника, в которой личная судьба становится зеркалом великих богословских бурь IV века и веков последующих. Чтобы приблизиться к пониманию его учения, следует, быть может, сначала пройти – хотя бы мысленно – его путь: от блестящего ритора на кафедрах столичных городов к тишине египетской пустыни, от потока слов – к священному безмолвию.
В кругу великих каппадокийцев
Евагрий родился около 345 года в городе Ивора в Понтийской области, в семье хорепископа, т.е., сельского епископа. Его интеллектуальное и духовное становление происходило во времена расцвета святоотеческой мысли. Он был учеником и близким другом святителей Василия Великого и Григория Богослова, которые и ввели его в мир глубокой христианской философии, основанной на синтезе библейского откровения и эллинской мудрости, в первую очередь платонизма и стоицизма. Именно Василий Великий рукоположил его во чтеца, а Григорий Богослов, став архиепископом Константинопольским, взял его с собой в столицу, рукоположил во диакона и вскоре сделал своим архидиаконом.
В Константинополе Евагрий в полной мере проявил свой блестящий талант полемиста и оратора. Он активно участвовал во II Вселенском Соборе (381 г.), защищая никейское православие от ариан и других еретиков. Его ждала блестящая церковная карьера. Но именно здесь, на вершине успеха, его настиг глубокий духовный кризис. Как повествует его ученик Палладий Еленопольский в «Лавсаике», Евагрий влюбился в жену одного знатного сановника, и эта страстная привязанность поставила его на грань падения. Внутренняя борьба была столь мучительна, что во сне ему явился ангел, который заставил его дать клятву покинуть столицу ради спасения души.
Формирование аскетического учения
Исполняя свой обет, Евагрий отправляется в Иерусалим, где находит приют у святой Мелании Старшей и Руфина Аквилейского, возглавлявших там монашескую общину. Проведя некоторое время в их монастыре, он принимает окончательное решение и в 383 году уходит в египетскую пустыню – сначала в Нитрию, а затем в суровые и уединенные Келлии («Кельи»). Здесь, в сердце египетского монашества, он проведет последние 14 лет своей жизни, став одним из самых авторитетных духовных наставников и создав свое аскетико-мистическое учение.
В пустыне Евагрий стал учеником великих отцов-анахоретов, в частности преподобных Макария Великого и Макария Александрийского. Но его подход к духовной жизни отличался от подхода большинства простых подвижников. Будучи блестяще образованным философом, он не просто практиковал аскезу, но и стремился ее систематизировать, создать целостное «учение о душе», которое бы описывало законы духовной брани, этапы восхождения к Богу и тончайшие движения человеческого ума.
Именно в этот период он примкнул к кружку так называемых «оригенистов» или «длинных братьев» – монахов-интеллектуалов, которые глубоко изучали наследие великого александрийского учителя III века Оригена. Этот круг, в который входили такие подвижники, как Аммоний, Диоскор, Евсевий и Евфимий, отличался от большинства монахов-«антропоморфитов» (приписывавших Богу человеческий образ) своим утонченным, аллегорическим толкованием Писания и глубоким интересом к умозрительному богословию. Именно для этого круга и были написаны главные труды Евагрия, включая «Гностика».
Наследие и осуждение
Евагрий мирно скончался в своей келье в 399 году, незадолго до начала первой волны антиоригенистских гонений. Буря разразилась после его смерти. Учение кружка «длинных братьев», и в первую очередь самого Евагрия, было обвинено в ереси. Основные пункты обвинения касались тех аспектов его мысли, которые он унаследовал от наиболее смелых гипотез Оригена: учение о предсуществовании душ, их предмирном падении, о всеобщем восстановлении (апокатастасисе) и о некой форме субординационизма в Троице. Кульминацией этих споров стало посмертное осуждение Евагрия вместе с Оригеном и Дидимом Слепцом на V Вселенском Соборе в 553 году.
Это осуждение имело трагические последствия. Имя Евагрия было вычеркнуто из большинства списков православных святых, а его труды либо уничтожались, либо распространялись под чужими именами (чаще всего – под именем преподобного Нила Синайского).
Но парадокс истории заключается в том, что, несмотря на анафему, учение Евагрия оказало колоссальное и непреходящее влияние на всю последующую христианскую духовность, как на Востоке, так и на Западе. Его практическая, аскетическая часть, очищенная от спорных догматических гипотез, стала фундаментом, на котором строили свои учения величайшие отцы Церкви.
На Западе его учение было воспринято и адаптировано преподобным Иоанном Кассианом Римлянином, через которого оно легло в основу всей бенедиктинской и, шире, западной монашеской традиции.
На Востоке его мысль была творчески переработана и воцерковлена преподобным Максимом Исповедником, который «христологизировал» учение Евагрия о логосах, и стала неотъемлемой частью сирийской (через Исаака Сирина), палестинской (через Варсонофия Великого и Иоанна Лествичника) и византийской исихастской традиций.
Евагрий стал, по сути, «анонимным отцом» «Добротолюбия». Его классификация восьми главных страстей, учение о трезвении и борьбе с помыслами, описание стадий духовного пути – все это вошло в плоть и кровь православной аскезы, даже когда имя самого автора предавалось забвению.
II. Духовное учение Евагрия
Чтобы понять «Гностика», необходимо иметь представление о целостном духовном учении Евагрия, которое представляет собой богословско-философское объяснение пророды человеческой души и ее пути к Богу. В основе этого учения лежит знаменитая триада.
1. Триада духовного восхождения: Практика → Естественное созерцание → Богословие
Весь путь к спасению и обожению Евагрий делит на три последовательных этапа, каждый из которых имеет свою цель и свои методы.
Практика (πρακτική). Это первый, фундаментальный и самый долгий этап. Его цель – очищение (κάθαρσις) души от страстей и достижение состояния бесстрастия (ἀπάθεια). Это деятельная жизнь, состоящая из телесных подвигов (пост, бдение, труд) и, что самое главное, из внутренней, невидимой брани с восемью главными страстными помыслами (λογισμοί): чревоугодием, блудом, сребролюбием, печалью, гневом, унынием (акедией), тщеславием и гордыней. Человек, подвизающийся на этом этапе, называется «подвижником» (πρακτικός).
Естественное созерцание (φυσικὴ θεωρία). Это второй этап, доступный только тому, кто достиг бесстрастия. Его цель – просветление (φωτισμός) ума. Очищенный ум начинает созерцать логосы (λόγοи), или божественные смыслы, вложенные Творцом во все творение – как в видимый мир, так и в Священное Писание. Мир перестает быть хаотичным набором вещей и становится прозрачным, являя через себя премудрость и промысл своего Создателя.
Богословие (θεολογία). Это высшая, конечная ступень, вершина духовного пути. Ее цель – единение (ἕνωσις) с Богом. На этом этапе ум, отвлекшись от всего тварного, даже от созерцания логосов, вступает в прямое, безóбразное и неизреченное созерцание Самой Святой Троицы. Это состояние «чистой молитвы», которое Евагрий описывает как «состояние ума, которое возникает от первого света Святой Троицы».
Человек, достигший второй и третьей ступени, и именуется у Евагрия «гностиком» (γνωστικός) – тем, кто обладает истинным, опытным ведением.
2. Ключевые понятия: Ум, Бесстрастие, Логосы
Ум (νοῦς). В антропологии Евагрия ум – это высшая, созерцательная способность души, ее «око», созданное по образу Божию и предназначенное для прямого богообщения. В результате грехопадения ум «упал» из своего естественного состояния, помрачился и оказался в плену у страстной части души. Вся аскеза направлена на его исцеление и возвращение в первозданное состояние.
Бесстрастие (ἀπάθεια). Это не стоическая бесчувственность, а состояние духовного здоровья, когда страстная часть души (гнев и вожделение) умиротворена и подчинена уму. Это не конец пути, а лишь необходимое условие для начала истинного созерцания.
Логосы (λόγοи). Это божественные замыслы, принципы, смыслы, вложенные Богом-Словом во все творение. Познание этих логосов – это познание мира таким, каким его видит Бог. Это и есть содержание «естественного созерцания».
III. «Гностик»: облик духовного наставника
Трактат «Гностик» занимает центральное место в триаде главных аскетических сочинений Евагрия. Если «Практик» – это учебник для новоначального, описывающий, как достичь бесстрастия, а «Гностические главы» (Kephalaia Gnostica) – это сборник созерцательных афоризмов для уже совершенных, то «Гностик» является связующим звеном. Это произведение не только рисует облик идеального подвижника, достигшего ведения, но также является и практическим руководством для гностика, объясняющее, как ему следует жить, учить и вести других по пути спасения.
1. Структура и жанр
«Гностик» состоит из пятидесяти глав-афоризмов, которые можно условно разделить на несколько тематических блоков, хотя они и переплетаются друг с другом. Жанр произведения – гномический. Это не систематический трактат с последовательным изложением, а собрание сжатых, отточенных максим, каждая из которых требует глубокого осмысления и медитативного прочтения. Такой стиль был характерен как для античной философской литературы, так и для устной традиции наставлений египетских старцев.
2. Гностик как учитель и врачеватель душ
Центральная тема «Гностика» – это служение ближним. Евагрий настаивает на том, что истинное ведение не может быть достигнуто человеком эгоистичным и замкнутым в себе. Оно по своей природе стремится изливаться вовне. Гностик – это не просто созерцатель, но и учитель, пастырь и врачеватель душ. В этом качестве он должен обладать целым рядом добродетелей и навыков, которые Евагрий подробно описывает.
Двойное служение: Соль и Свет (3). Гностик должен быть мудрым педагогом. Для «нечистых», то есть для тех, кто еще борется со страстями, его слово – это «соль», которая жжет, обличает и очищает духовные раны. Для «чистых», достигших бесстрастия, его слово – это «свет», который просвещает и ведет по путям созерцания.
Рассуждение (Διάκρισις) как высшая добродетель (15, 25, 35, 36). Высшее искусство наставника – это рассуждение. Он должен уметь «познавать логосы и законы времен, образов жизни и занятий», чтобы давать каждому индивидуальный, а не шаблонный совет. Он должен знать, когда говорить, а когда – молчать, притворяясь незнающим (23); когда говорить об основах, а когда – о высоком; когда строго укорять (26), а когда утешать.
Смирение и трезвение (29, 37). Гностик должен постоянно помнить о своей немощи и опасностях, подстерегающих его на духовной высоте. Ему нельзя поддаваться на лесть учеников и «подниматься выше» в умозрениях, к которым он еще не готов. Он должен помнить, что даже бесстрастие – это хрупкий дар, который можно «оскорбить» и «унизить» телесной расслабленностью.
Целостность и гармония добродетелей (6, 44). Гностик должен развивать все добродетели равномерно, ибо ум «предается через ослабевающую добродетель». Даже для самого созерцания, как учил Григорий Богослов, необходимы свои особые добродетели: апофатическое благоразумие, догматическое мужество, умственное целомудрие и педагогическая справедливость.
3. Гностик как экзегет и богослов
Значительная часть трактата посвящена искусству толкования Священного Писания. Для Евагрия гностик – это, прежде всего, мистагог, вводящий в тайны Слова Божия.
Иерархия знания (4, 45). Он должен четко различать знание «от людей», приобретаемое через учение, и ведение «от благодати Божией», которое даруется только очищенному сердцу и плодом которого является созерцание «собственного сияния ума».
Многослойность смыслов (18, 20). Гностик должен владеть методом аллегорического толкования, соотнося каждый текст Писания с тремя уровнями духовной жизни: практикой, естественным созерцанием или богословием. При этом он должен понимать, что внешняя тема текста не всегда совпадает с его глубинным смыслом.
Герменевтическое смирение (21, 34, 41). Он должен знать и границы толкования. Нельзя искать духовный смысл в словах нечестивцев, если только Сам Бог не действовал через них по Своему Домостроительству. Нельзя впадать в гипераллегоризм, придавая мистический смысл каждой мелочи и становясь посмешищем для слушателей. И самое главное – гностик должен знать, где заканчивается язык. Перед тайной Святой Троицы, Которая неопределима и несоставна, «неизреченному должно поклоняться в молчании».
4. Образ Христа как конечная цель
Венчает трактат величественный образ гностика-иконописца (50). Его конечная цель – «взирая на Первообраз (Христа), писать образы». Это двойная задача:
1. «Написать» образ Христа в собственной душе через подражание Ему в добродетелях.
2. Помочь «изобразиться» Христу в душах учеников (ср. Гал. 4:19) через мудрое и любовное наставничество.
Служение гностика, таким образом, – это не что иное, как соработничество Богу в деле спасения «отпавшей души», в ее возвращении к первозданной красоте и единству со своим Первообразом.
Актуальность «Гностика»
В чем же непреходящая ценность этого древнего текста для нас сегодня?
«Гностик» Евагрия – это мощное противоядие против двух крайностей современной духовной жизни.
С одной стороны, он противостоит антиинтеллектуализму, который сводит веру к слепому исполнению обрядов и эмоциональным порывам. Евагрий настаивает на необходимости глубокого знания, трезвого самоанализа, понимания законов духовной жизни. Для него вера – это путь разума, просвещенного благодатью.
С другой стороны, он сокрушает интеллектуальную гордыню, которая превращает богословие в абстрактную науку, оторванную от жизни и личного подвига. Евагрий неустанно повторяет: истинное ведение невозможно без нравственной чистоты. Богословом, по его знаменитому определению, является тот, кто чисто молится, и тот, кто чисто молится, – тот и есть богослов.
Трактат Евагрия – это призыв к целостному христианству, где вера и жизнь, ум и сердце, созерцание и деятельная любовь неразрывно соединены. Он рисует образ духовного человека, который является одновременно глубоким мистиком, тонким психологом, мудрым педагогом, искусным экзегетом и, самое главное, смиренным служителем, вся жизнь которого посвящена одной цели – помочь себе и другим «приобрести» отпавшую душу для вечного Царства Божия. И этот призыв, прозвучавший из глубин египетской пустыни шестнадцать веков назад, сегодня звучит с новой, неотразимой силой.
Гностик
1. Подвижники (πρακτικοί) уразумеют логосы (λόγους) делания, гностики (γνωστικοί) же узрят (ὄψονται) умозрительное (γνωστικά).
Филологический и богословский анализ
Этот афоризм Евагрия построен на строгом параллелизме и противопоставлении, которые являются ключом к его духовной системе. Анализ проведем по ключевым парам.
1. Субъекты: Πρακτικοὶ (praktikoi) vs. Γνωστικοὶ (gnōstikoi)
Πρακτικοὶ (мн.ч. от πρακτικός) – это не просто «практичные люди». У Евагрия это технический термин, обозначающий тех, кто находится на первом этапе духовного пути – πρακτική (praktikē), или «деятельная жизнь». Этот этап включает в себя аскетические подвиги, борьбу со страстями и стяжание добродетелей. Поэтому наиболее точные переводы – «подвижники», «деятели», «практики». Сирийский переводчик использует (sā'orē su'rānā) – «делатели делания», что является точной калькой.
Γνωστικοὶ (мн.ч. от γνωστικός) – также технический термин. Это не гностики-еретики, а те, кто, очистив душу через praktikē, перешел ко второй, высшей стадии – γνῶσις (gnōsis), то есть к «ведению» или «созерцанию». Это прямое, безóбразное созерцание Бога и умопостигаемых реальностей. Лучшие переводы – «гностики» (с обязательным пояснением, что это термин Евагрия), «созерцатели», «умозрители». Сирийский переводчик использует (yāḏo'tānē) – «знающие», «обладающие ведением».
Вывод: Евагрий четко разделяет два этапа/типа духовного совершенства и людей, им соответствующих.
2. Глаголы: νοήσουσι (noēsousi) vs. ὄψονται (opsontai)
Это самое важное противопоставление в тексте, отражающее два разных способа познания.
νοήσουσι (будущее время от νοέω) – «уразумеют», «постигнут умом». Глагол связан с деятельностью νοῦς (нус), ума-интеллекта. Это дискурсивное, рациональное постижение духовных законов и принципов, управляющих борьбой со страстями. Это знание о чем-то.
ὄψονται (будущее время от ὁράω) – «увидят», «узрят». Этот глагол обозначает прямое, непосредственное, интуитивное зрение или видение. Это не чувственное зрение, а духовное созерцание, которое выше логического постижения. Это знание-встреча, прямое восприятие реальности.
Вывод: Евагрий противопоставляет интеллектуальное понимание (свойственное подвижникам) и духовное видение (дар созерцателей). Путь к видению лежит через понимание.
3. Предметы знания: λόγους πρακτικούς (logous praktikous) vs. γνωστικά (gnōstika)
λόγους πρακτικούς – «логосы делания». Логосы у Евагрия – это божественные смыслы, принципы, вложенные Богом-Логосом во все творение, в том числе и в духовную жизнь. Логосы делания – это духовные законы, касающиеся страстей, добродетелей, аскезы. Подвижник понимает их, чтобы правильно вести духовную брань.
γνωστικά (ср.р. мн.ч., субстантивированное прилагательное) – буквально «гностическое», «то, что относится к ведению». Это объекты высшего созерцания: Святая Троица, природа ангельских чинов, суды и промыслы Божьи. Это не принципы для деятельности, а сами духовные реальности, которые созерцаются. Сирийский переводчик здесь делает интересный выбор, переводя это как (še'ālē… d-yīḏa'tā) – «вопросы/предметы исследования… ведения», что подчеркивает умозрительный, созерцательный характер этих предметов.
Анализ сирийского перевода
Сирийский текст (Syr. 2 по изданию В. Франкенберга) имеет одну синтаксическую странность в первой части: «Гностики и делатели делания поймут слова делания». Он объединяет оба субъекта (гностиков и практиков), что нарушает строгий параллелизм греческого оригинала. Вероятно, это либо ошибка переписчика, либо вольность переводчика, который хотел сказать, что гностики, пройдя стадию делания, также понимают ее логосы. Вторая часть фразы в сирийском полностью соответствует греческой структуре: «Но вопросы ведения увидят гностики».
Богословско-философский комментарий
Этот краткий и насыщенный афоризм, открывающий трактат «Гностик», представляет собой не просто тезис, а сжатую икону всей духовной антропологии Евагрия Понтийского. В этой лаконичной формуле, построенной на строгом синтаксическом и смысловом параллелизме, раскрывается целая программа духовной жизни, включающая в себя структуру восхождения к Богу, онтологию человеческого ума (νοῦς) и иерархию духовного познания. Чтобы раскрыть глубину этого изречения, разберем его ключевые понятия в контексте мысли Евагрия и шире – в традиции восточно-христианского платонизма.
1. Два этапа, два состояния: Πρᾶξις и Γνῶσις
В основе духовной системы Евагрия лежит четкое разделение всего пути к обожению на две фундаментальные, последовательные ступени:
1. Πρᾶξις (Praxis) – Деятельная жизнь. Это первый, необходимый этап, состоящий в аскетическом подвиге. Его цель – очищение (κάθαρσις) души от страстей (πάθη) через исполнение заповедей и стяжание добродетелей (ἀρετή). Человек, находящийся на этой ступени, именуется подвижником (πρακτικός).
2. Γνῶσις (Gnosis) – Ведение, или Созерцание. Это высшая ступень, доступная только после очищения от страстей. Её цель – просветление (φωτισμός) ума и прямое, безóбразное созерцание умопостигаемых реальностей, которое в своем высшем пределе переходит в Θεωρία (Theoria) – чистое умозрение Бога. Человек, достигший этой ступени, называется гностиком (γνωστικός).
Важно подчеркнуть, что евагриевский «гностик» не имеет ничего общего с представителями гностических ересей; это технический термин, обозначающий достигшего духовной зрелости созерцателя, чей ум стал чистым зеркалом для Божественного света.
2. Познание Подвижника: «Уразумеют логосы делания»
Первая часть афоризма описывает познавательную способность подвижника.
Глагол νοήσουσι (уразумеют) происходит от νοέω – «мыслить, постигать умом». Он обозначает рациональную, дискурсивную деятельность ума-интеллекта. Это не прямое видение, а аналитическое понимание.
Объект этого понимания – λόγοι πρακτικοί (логосы делания). Термин «логос» (λόγος), заимствованный из античной философии (прежде всего стоицизма) и переосмысленный в христианстве Оригеном и каппадокийцами, у Евагрия означает божественный смысл, разумный принцип, вложенный Богом-Логосом в каждую вещь и каждое явление.
«Логосы делания» – это духовные законы, управляющие этической и аскетической реальностью. Подвижник, борясь со страстями, начинает понимать их природу, причины их возникновения, а также структуру добродетелей и методы духовной брани. Он познает не саму божественную реальность, а ее отражение в законах духовного мира, подобно тому как ученый познает физический мир через его законы.
3. Видение Гностика: «Узрят умозрительное»
Вторая часть фразы вводит нас в совершенно иной режим познания.
Глагол ὄψονται (узрят) происходит от ὁράω – «видеть, созерцать». Он противопоставлен «уразумению» и обозначает прямое, непосредственное, интуитивное видение. Это уже не размышление о чем-то, а встреча с чем-то. Это высшая способность очищенного ума (νοῦς), который становится способным к θεωρία – чистому созерцанию.
Объект этого видения – τὰ γνωστικά (умозрительное), то есть «то, что относится к ведению». Это уже не законы борьбы, а сами духовные реальности: сокровенные смыслы Священного Писания, природа ангельских миров, логосы творения в их первозданной чистоте и, насколько это возможно для тварного ума, тайны Святой Троицы и Божественного Промысла.
Таким образом, если подвижник познает «карту» духовного пути, то гностик видит сам «ландшафт». Познание переходит из этического и психологического измерения в онтологическое и метафизическое.
4. Историко-философский контекст и наследие
Формула Евагрия не возникла в вакууме. Она гениально синтезирует многовековую традицию.
Платоновскую идею восхождения души от мира теней (мнений) к миру истинно-сущих идей.
Учение Оригена о духовных смыслах (логосах), сокрытых в творении и Писании, доступных очищенному уму.
Концепцию св. Григория Нисского о бесконечном восхождении (ἐπέκτασις) от славы в славу, где каждая ступень познания открывает путь к новой.
Преподобный Максим Исповедник окончательно интегрировал и «христологизировал» схему Евагрия, сделав учение о логосах и триаду «праксис – теория – богословие» краеугольным камнем всей византийской мистики.
Афоризм Евагрия – это не статичное разделение христиан на два класса, а описание динамики единого духовного пути. Праксис очищает ум, делая его способным к видению. Гносис просвещает его, открывая ему духовные реальности. Каждый подвижник должен стремиться стать гностиком, ибо деятельная жизнь без цели созерцания бесплодна, а созерцание без предварительного очищения невозможно и опасно.
Таким образом, эта формула – не просто богословский тезис, а своего рода путеводитель на всем христианском мистическом пути: от аскезы тела – к прозрению ума, от размышлений о законах добродетели – к безмолвному созерцанию нетварного Света.
2. Подвижник (πρακτικός) есть тот, кто стяжал бесстрастной лишь страстную часть души.
Вариант с пояснениями (ближе к переводу А.И. Сидорова):
Деятельный подвижник есть тот, кто достиг бесстрастия только в страстной части своей души, [исцелив её].
Филологический и богословский анализ
Этот второй афоризм продолжает и углубляет первый, переходя от описания деятельности подвижника к определению его внутреннего состояния. Евагрий дает здесь чеканную, почти медицинскую дефиницию, основанную на его антропологии, унаследованной от Платона и переосмысленной в христианском аскетическом ключе.
1. Субъект: Πρακτικὸς (Praktikos) – Подвижник
Здесь Евагрий отвечает на вопрос: «Кто такой подвижник?». Если в первом афоризме он описывался через то, что он делает (постигает логосы делания), то здесь он определяется через то, чего он достиг. Это состояние, а не просто процесс.
2. Ключевая концепция: Τὸ παθητικὸν μέρος τῆς ψυχῆς (To pathētikon meros tēs psychēs) – Страстная часть души
Это центральное понятие для всей психологии Евагрия. Чтобы его понять, необходимо обратиться к платоновской трехчастной модели души, которую Евагрий полностью воспринял:
τὸ λογιστικόν (to logistikon) – разумная, мыслящая часть (у Евагрия это синоним νοῦς, ума).
τὸ θυμικόν (to thymikon) – яростная, или раздражительная, часть. Источник гнева, ненависти, мужества.
τὸ ἐπιθυμητικόν (to epithymētikon) – вожделевательная, или желательная, часть. Источник плотских желаний, жадности, чревоугодия.
Евагрий объединяет две последние, неразумные части (яростную и вожделевательную) под общим названием «страстная часть души» (τὸ παθητικὸν μέρος). Именно эта часть является «местом рождения» страстей (πάθη). Соответственно, вся практика (πρᾶξις), то есть деятельная аскетическая жизнь, направлена на исцеление и умиротворение именно этой, иррациональной, животной части души.
3. Достижение и его ограничение: Ἀπαθὲς κεκτημένος… μόνον (Apathes kektēmenos… monon) – Стяжавший бесстрастной… лишь…
Ἀπάθεια (Apatheia) – Бесстрастие. Это ключевая цель всего деятельного этапа. Важно понимать, что апатия у Евагрия – это не бесчувственность или эмоциональная холодность. Это состояние духовного здоровья, когда душа больше не находится под тиранией иррациональных страстных движений. Это покой, внутренняя тишина и стабильность, без которых невозможно чистое созерцание. Глагол κεκτημένος (совершенный вид от κτάομαι, «приобретать, стяжать») указывает на прочно достигнутое и удерживаемое состояние. Это не временное затишье, а стабильное качество исцеленной души.
Μόνον (Monon) – Лишь, только. Это самое важное слово в определении. Оно вносит критическое ограничение. Подвижник исцелил, сделал бесстрастной только страстную часть души. Что это значит? Это значит, что его разумная часть (νοῦς) еще не достигла своего собственного совершенства. Она освободилась от бунта «нижних» частей души, но сама еще не просвещена ведением (гносисом). Более того, у самой разумной части есть свои, более тонкие страсти (тщеславие, гордыня, уныние/акедия), борьба с которыми относится уже к гностическому этапу.
Вывод: Афоризм утверждает, что апатия (бесстрастие) – это конец практики и начало гносиса. Подвижник – это тот, кто достиг этой пограничной цели, но еще не перешел к высшему этапу – созерцанию, которое является совершенством уже разумной части души.
Анализ сирийского перевода
Сирийский перевод здесь исключительно точен и является почти калькой с греческого: «Делатель делания есть тот, кто часть страстности своей души стяжал без страсти». Сирийское (ḥaššūšūṯā) и (ḥaššā) идеально соответствуют греческим παθητικόν и πάθος. Переводчик полностью уловил и передал структуру и смысл оригинала.
Это определение Евагрия – не просто схоластическая дефиниция, а руководство на пути подвижничества. Оно показывает подвижнику его точную цель (апатия) и одновременно указывает на то, что это не конец пути, а лишь подготовка к нему. Исцелив «сердце» (страстную часть), нужно переходить к просвещению «ума» (разумной части), что и является уделом гностика.
Богословско-философский комментарий
Вслед за определением деятельности подвижника, Евагрий Понтийский в этом афоризме дает чеканную дефиницию его внутреннего состояния. Это не просто описание, а фундаментальный тезис, раскрывающий антропологическую основу всей аскетической практики. Здесь Евагрий определяет не только цель деятельной жизни, но и ее границы, тем самым указывая на следующий, высший этап духовного восхождения.
1. Анатомия души и поле битвы
Ключом к пониманию этого определения служит трехчастная антропология Евагрия, унаследованная им от Платона и адаптированная для целей христианской аскезы. Душа, согласно этой модели, состоит из трех частей: разумной (τὸ λογιστικόν), яростной (τὸ θυμικόν) и вожделевающей (τὸ ἐπιθυμητικόν). Евагрий объединяет две последние, иррациональные части под общим названием «страстная часть души» (τὸ παθητικὸν μέρος). Именно она является источником и «местом жительства» страстей (πάθη), которые возмущают внутренний мир человека и препятствуют общению ума с Богом.
Следовательно, вся деятельная жизнь, или практика (πρᾶξις), представляет собой целенаправленную духовную терапию, направленную на исцеление именно этой, пассивной и аффективной, сферы души. Цель этой терапии – апатия (ἀπάθεια).
2. Апатия: не бесчувственность, а духовное здоровье
В контексте Евагрия и всей последующей традиции «Добротолюбия» апатия – это не стоическое бесчувствие или эмоциональное омертвение. Напротив, это восстановление естественного состояния души, ее возвращение к первозданной гармонии. Это состояние, когда силы ярости и вожделения перестают быть тиранами и становятся послушными инструментами разума. Гнев преображается в духовную ревность и мужество в борьбе с грехом, а желание – в неутомимую жажду Бога (эрос к Божественному). Как отмечает святитель Григорий Нисский, страсти не зло сами по себе, но лишь искаженное использование данных Богом сил. Подвижник, таким образом, не убивает свою душу, а преображает ее, подобно возничему из платоновского «Федра», который подчиняет себе двух непокорных коней.
Стяжание апатии – это не самоцель, а необходимое условие. Это обретение внутренней тишины, без которой невозможно услышать голос Бога. Это очищение зеркала ума от грязи страстей, чтобы оно могло чисто отражать Божественный свет.
3. Границы «практики»: слово «лишь»
Ключевым словом в определении Евагрия является наречие μόνον (лишь, только). Подвижник стяжал бесстрастной только страстную часть души. Это ограничение имеет колоссальное значение. Оно означает, что достижение апатии – это конец одного этапа, но еще не вершина духовной жизни.
Исцелив страстную часть души, подвижник освободил свой ум (νοῦς) от ее бунта. Но сам ум еще не достиг своего собственного совершенства. Он может быть подвержен более тонким недугам – тщеславию, гордыне, печали, унынию (акедии). Его подлинная цель – не просто покой, а ведение (γνῶσις) и созерцание (θεωρία). Таким образом, подвижник, достигший апатии, стоит на пороге гносиса. Он – очищенный сосуд, готовый к тому, чтобы быть наполненным божественным ведением.
Как точно отмечает Климент Александрийский, предвосхищая эту мысль, главная задача простого верующего – борьба со страстями, которая лишь готовит его к высшему ведению и созерцанию.
Определение Евагрия – это не просто теоретический постулат, а жизненно важный ориентир на духовном пути. Оно показывает, что аскетический подвиг имеет ясную, достижимую цель – восстановление целостности души через исцеление ее страстной части. В то же время оно предостерегает от остановки на этом этапе, указывая, что истинная цель человека – не просто внутренний мир, но живое, непосредственное богообщение.
Это определение – фундаментальный принцип всей восточно-христианской аскезы, многократно повторенный и развитый в трудах преподобных Иоанна Лествичника, Максима Исповедника и Исаака Сирина. Подвижник – это тот, кто завершил первый, подготовительный этап, очистив землю своего сердца, чтобы на ней могли произрасти плоды божественного гносиса.
3. Гностик же для нечистых имеет значение (λόγον) соли, а для чистых – [значение] света.
Вариант с пояснениями (раскрывающий смысл):
Созерцатель же для нечистых [душою] исполняет служение соли, [обличая и очищая], а для чистых – служение света, [просвещая и ведя их].
Филологический и богословский анализ
Этот афоризм переключает фокус с внутреннего состояния гностика на его внешнюю функцию, его служение другим. Он построен на блестящем экзегетическом осмыслении слов Христа из Нагорной проповеди (Мф. 5:13-14).
1. Субъект: Γνωστικὸς (Gnōstikos) – Гностик, или Созерцатель
Если подвижник (praktikos) определялся через достижение внутреннего состояния (апатии), то гностик определяется через свое воздействие на других. Его ведение (гносис) не является эгоистичным сокровищем, запертым внутри; оно по своей природе изливается вовне. Гностик становится духовным учителем и наставником.
2. Двойная функция и двойная аудитория
Евагрий делит мир на две категории слушателей, и для каждой гностик имеет свою, особую роль:
τοῖς ἀκαθάρτοις (tois akathartois) – «для нечистых». Это те, кто еще порабощен страстями, кто находится на этапе практики. Они «нечисты» в том смысле, что их душа еще не очищена от страстных помыслов.
τοῖς καθαροῖς (tois katharois) – «для чистых». Это те, кто уже достиг бесстрастия (апатии). Их душа чиста, и они готовы к созерцанию.
3. Ключевые метафоры: Соль (ἁλός) и Свет (φωτός)
Евагрий берет два евангельских образа и наполняет их своим богословским содержанием, соотнося их с двумя этапами духовной жизни.
Соль для нечистых. Каковы свойства соли в аскетическом контексте?
Очищение и антисептика. Соль, попадая на рану, жжет, но при этом обеззараживает. Так и слово гностика для человека, одержимого страстями: оно обличает, причиняет боль самолюбию, но исцеляет духовные язвы. Это слово о практике: о борьбе с помыслами, о покаянии, о воздержании.
Сохранение от гниения. Соль предохраняет от порчи. Учение гностика предохраняет душу подвижника от духовного разложения, к которому ведут страсти.
Свет для чистых. Каковы свойства света?
Просвещение и откровение. Свет не жжет, а освещает, позволяет видеть вещи такими, какие они есть. Для очищенной души слово гностика уже не обличение, а откровение. Это слово о гносисе и теории: о логосах творения, о тайнах Писания, о созерцании Бога.
Путеводительство. Свет указывает путь во тьме. Гностик ведет чистые души по путям умозрения, открывая им высшие духовные реальности.
4. Связующее звено: λόγον ἐπέχων (logon epechōn)
Эта греческая идиома буквально означает «иметь логос/значение/роль чего-либо». Это больше, чем просто «быть». Гностик не становится солью или светом онтологически, но его учение (логос) и служение функционируют как соль или как свет в зависимости от духовного состояния слушателя. Это указывает на высшую добродетель духовного наставника – рассуждение (διάκρισις), способность давать каждому духовную пищу по его мере (ср. 1 Кор. 3:2).
Анализ сирийского перевода
Сирийский переводчик прекрасно уловил суть: «Гностик же есть тот, кто по подобию соли для нечистых, и как свет для чистых». Использование частиц «по подобию» и «как» точно передает метафорический и функциональный характер греческого λόγον ἐπέχων.
Богословско-философский комментарий
Этот афоризм из «Гностика» (3) выводит духовного человека из келейного уединения и раскрывает его динамическую, спасительную функцию в Церкви и мире. Если предыдущий афоризм определял подвижника (πρακτικός) через его внутреннее состояние бесстрастия, то здесь Евагрий раскрывает природу гностика (γνωστικός) через его воздействие на других. Гносис, истинное ведение, не может быть эгоистичным и замкнутым; он по своей сути изливается вовне, преображая гностика в духовного учителя, врача и проводника.
1. Филологический разбор: «Λόγος» как действенное присутствие
Греческая конструкция «λόγον ἐπέχων» имеет ключевое значение. Буквально это «иметь слово» или «иметь значение/роль». Здесь «λόγος» – не просто речь или учение в концептуальном смысле. Это действенное присутствие, природа, функция или энергия. Таким образом, Евагрий говорит не о пассивной природе гностика, но о его динамическом влиянии, о том, как он действует и каким образом его существо и учение воспринимаются другими, в зависимости от их духовного состояния. Гностик становится живым, энергийным проявлением логосной силы, которая воздействует не только словами, но всем своим существом.
2. Отшельничество и миссия: Гностик как старец-наставник
Важно отметить, что Евагрий проводит четкую грань между практиком и гностиком в контексте их внешней миссии. Если практик, находящийся на начальных ступенях духовного преуспеяния, ещё не может дерзать являть себя миру как «соль» и «свет», ибо сам еще борется со страстями, то гностик – это духовно-опытный наставник, «старец», прошедший через все горнила духовной брани и стяжавший бесстрастие. Именно он, благодаря своему глубокому ведению и чистоте, становится способным к подобному служению.
3. Двойная функция: Соль для нечистых, Свет для чистых
Евагрий блестяще осмысляет евангельские метафоры Христа из Нагорной проповеди («Вы – соль земли… Вы – свет миру» Мф. 5:13-14), применяя их к роли гностика и раскрывая их двустороннюю природу. Он делит мир на две категории по их духовному состоянию, и для каждой из них гностик имеет свою особую, спасительную роль.
«Соль для нечистых» (τοῖς ἀκαθάρτοις λόγον ἅλατος ἔχει)
Соль в библейском контексте символизирует очищение, завет, аскетическую строгость и даже суд. Для тех, кто порабощен страстями (нечистых), гностик – это обличитель и целитель. Его присутствие и слово могут «жечь», подобно соли на ране. Это слово, которое обнажает скрытые грехи, выявляет духовное разложение и вызывает боль самолюбия. Оно не утешает, а призывает к покаянию, к суровой аскетической борьбе, к отказу от мирского тления. Это пронзительная истина, которая действует как духовный антисептик, предохраняя душу от окончательной порчи и указывая на необходимость очищения.
«Свет для чистых» (τοῖς δὲ καθαροῖς λόγον φωτός)
Свет, напротив, является библейским символом Божественного Откровения, истины, благодати и обожения. Для тех, кто уже очистился от страстей и достиг бесстрастия (чистых), гностик – это источник просветления и проводник. Его слово уже не жжет, а озаряет. Он раскрывает высшие духовные реальности: сокровенные смыслы Священного Писания, логосы творений, тайны Божественного Промысла. Он ведет чистые души по ступеням созерцания, открывая им путь к непосредственному богообщению. Гностик становится не карающим обличителем, а путеводителем в Божественную Мудрость (σοφία).
4. Неоплатоническое и святоотеческое измерение: Восприятие истины по мере чистоты
Эта двойственность восприятия гностика глубоко коренится в платонической и неоплатонической мысли, где истина (Свет) по-разному преломляется в зависимости от состояния воспринимающего ума. Как отмечает Прокл, «для очищенного душа воспринимает истину как благодать, а для помрачающей себя – истина кажется мучением». Евагрий высказывает подобную идею в христианском ключе: одна и та же духовная реальность (присутствие гностика, его учение) производит разное действие, в зависимости от внутренней чистоты души.
Эта мысль находит широкое отражение в патристической традиции.
Преподобный Макарий Египетский учил, что «слово духовное бывает то обличением, то утешением – в зависимости от меры очищения души».
Преподобный Исаак Сирин указывал, что «свет истины для одних – радость, а для других – суд и скорбь».
Преподобный Иоанн Лествичник подчеркивал, что духовный человек становится «огнем для омраченных» и «лампадой для просветленных».
Гностик, таким образом, является образом Христа. «Я пришел в мир на суд: чтобы видящие стали слепыми, и слепые – прозрели» (Ин. 9:39). Подобно Христу, гностик вызывает либо любовь, либо отторжение, ибо его присутствие неизбежно обнажает внутреннее состояние души.
5. Параллели у Климента Александрийского и в современных исследованиях
Мысль Евагрия о гностике как «соли» и «свете» имеет глубокие корни. Климент Александрийский в трактате «Какой богач спасется» говорит о «избраннейших из избранных» (τῶν ἐκλεκτῶν ἐκλεκτότεροι). Это те, кто «извлек себя из бурного водоворота мира», достиг безопасного места, стыдится, когда их называют святыми, и скрывает в глубине своего духа неизреченные таинства. Именно их Слово называет «светом мира» и «солью земли». Это параллель подчеркивает, что истинные духовные подвижники, обладающие глубочайшим ведением, зачастую остаются в тени, но их невидимое, действенное присутствие служит миру как соль и свет. Они – «семя», «образ и подобие Божие».
Современные исследователи (такие как Габриэль Бунге, Илария Рамелли, Антуан Гийомон, Люк Дайсинджер) единодушно подчеркивают, что Евагрий использует функциональную гносеологию: действие истины, исходящей от гностика, напрямую зависит от чистоты реципиента. Гностик не просто обладает знанием; он является живым присутствием логосной силы, которая проявляется как энергия, преображающая окружающих.
Зеркало Суда и Славы
«Гностик есть соль для нечистых, и свет для чистых», – потому что он, будучи сам преображённым, становится зеркалом, в котором каждый видит собственное состояние: или суд, или славу.
Это высказывание Евагрия, являясь фундаментальным для его антропологии, гносеологии и сотериологии, глубоко описывает не просто внешнее восприятие духовного человека, но онтологическую логику истины, действующей по-разному в каждом по мере его причастности к свету. Гностик – это не только вершина духовного восхождения, но и динамичный агент спасения, чей λόγος, его существование и учение, несет в мир радостные для одних и жгучие для других лучи Христова вероучения.
4. Ведение, приходящее к нам извне, пытается посредством логосов (слов) указывать на материи (предметы); ведение же, рождаемое в нас по благодати Божией, представляет сами вещи для непосредственного созерцания (αὐτοψίᾳ) мыслью, и ум (νοῦς), взирая на них, принимает их логосы (смыслы). Первому [ведению] противостоит заблуждение, а второму – гнев и ярость [и то, что им сопутствует].
Вариант с пояснениями (раскрывающий смысл):
Знание, приходящее к нам извне (через обучение), пытается посредством слов-определений указать на сущность вещей; знание же, рождаемое в нас по благодати Божией, представляет сами вещи (как они есть) для прямого созерцания мыслью, и ум, взирая на них, интуитивно воспринимает их внутренние смыслы (логосы). Первому, внешнему знанию, противостоит [интеллектуальное] заблуждение; второму, внутреннему, – гнев, ярость и сопутствующие им страсти.
Филологический и богословский анализ
Этот афоризм – ключевой для понимания эпистемологии (теории познания) Евагрия. Он проводит фундаментальное различие между двумя типами знания, их источниками, методами и тем, что им препятствует.
1. Первое ведение: Внешнее, дискурсивное, опосредованное
Ἡ ἔξωθεν… γνῶσις (hē exōthen… gnōsis) – «Ведение, [приходящее] извне». Это знание, получаемое через обучение, чтение, слушание, то есть через внешние каналы. Это «школьное», научное, философское знание.
διὰ τῶν λόγων (dia tōn logōn) – «посредством логосов». Здесь λόγος употребляется в своем первоначальном значении: «слово», «определение», «рассуждение». Это знание, которое оперирует концепциями, определениями, категориями.
ὑποδεικνύειν… τὰς ὕλας (hypodeiknyein… tas hylas) – «указывать на материи». Глагол ὑποδεικνύω означает «указывать», «намекать», «показывать в общих чертах». ὕλη здесь не просто «материя», а «предмет», «тема», «сущность вопроса». Это знание не схватывает вещь напрямую, а лишь указывает на нее через словесную конструкцию.
Вывод о первом ведении. Это знание о вещах, а не знание самих вещей. Оно всегда опосредовано языком и концептуальным аппаратом. Оно похоже на чтение описания горы, а не на пребывание на ее вершине.
2. Второе ведение: Внутреннее, интуитивное, непосредственное
Ἡ ἐκ Θεοῦ χάριτος ἐγγινομένη (hē ek Theou charitos enginomenē) – «[Ведение], рождаемое [в нас] по благодати Божией». Источник этого знания – не внешний учитель, а Сам Бог. Это дар, а не результат интеллектуальных усилий.
αὐτοψίᾳ… παρίστησι τὰ πράγματα (autopsiāi… paristēsi ta pragmata) – «представляет сами вещи для непосредственного созерцания». Αὐτοψία (букв. «само-видение») – ключевой термин. Он означает прямое, непосредственное видение, без посредников. Это знание-свидетельство, знание-опыт. Объект – τὰ πράγματα, «сами вещи», их реальность как она есть, а не ее описание.
πρὸς ἃ βλέπων ὁ νοῦς, τοὺς αὐτῶν λόγους προσίεται (pros ha blepōn ho nous, tous autōn logous prosietai) – «ум, взирая на них, принимает их логосы». Здесь λόγος употребляется уже в его метафизическом смысле: «внутренний смысл», «божественный принцип». Ум (νοῦς) не конструирует эти смыслы, а принимает (προσίεται) их в себя, пассивно и интуитивно, в акте чистого созерцания.
Вывод о втором ведении. Это прямое, благодатное созерцание истинной природы вещей, которое даруется очищенному уму. Это знание самих вещей в их божественных смыслах.
3. Противоположности: Что препятствует каждому виду знания?
Евагрий завершает афоризм, указывая на то, что мешает каждому виду познания. И это самое важное для аскетической практики.
Первому ведению противостоит ἡ πλάνη (hē planē) – заблуждение. Так как внешнее знание строится на логике и рассуждениях, его главный враг – интеллектуальная ошибка, ложный вывод, софизм, ересь. Это ошибка на уровне рассудка.
Второму ведению противостоит ὀργὴ καὶ θυμός (orgē kai thymos) – гнев и ярость. Почему? Потому что благодатное созерцание возможно только в состоянии апатии и совершенной тишины ума. Гнев, ярость и другие страсти яростной части души (раздражительность, злопамятство, ненависть) – это самые сильные возмущения, которые делают ум слепым к Божественному свету. Они создают «шум» и «дым», которые полностью блокируют способность к созерцанию.
Вывод. Чтобы не ошибаться в науках и философии, нужно развивать интеллект и логику. Чтобы обрести божественное ведение, нужно очистить сердце от страстей, в первую очередь – от гнева. Евагрий переводит фокус с интеллектуальных упражнений на аскетический подвиг как на необходимое условие истинного богопознания.
Анализ сирийского перевода
Сирийский переводчик вновь демонстрирует глубокое понимание. Он передает ὕλη как (mallewāh) – «наполнение», «содержание», что очень точно. Αὐτοψία он переводит наречием (ḥtītā'īt) – «точно», «тщательно», «воистину», что хорошо передает идею прямого, неискаженного видения. Различие между двумя логосами также уловлено: в первом случае это (melle) – «слова», во втором – он сохраняет тот же термин, но в контексте видения «самих вещей», что подразумевает уже их «смыслы».
В этом афоризме раскрывается мистическая эпистемология Евагрия. Он утверждает превосходство благодатного, созерцательного знания над дискурсивным, научным. Но, что более важно, он указывает путь к этому высшему знанию: не через накопление информации, а через очищение сердца (κάθαρσις) от страстей. Путь к истинному богословию лежит через аскезу.
Богословско-философский комментарий
Евагрий Понтийский проводит фундаментальное различие между двумя типами знания, определяя их источник, метод и то, что им противостоит. Тем самым он не просто описывает два способа познания, но выстраивает иерархию и указывает путь от низшего к высшему.
1. Внешнее знание: Мир концепций и слов
Первый тип знания Евагрий называет «приходящим извне» (ἔξωθεν). Это знание, которое мы получаем через наши чувства, через обучение, чтение книг и слушание учителей. Его метод – дискурсивный: оно оперирует «логосами» в значении слов, определений и понятий. Его цель – «указывать на материи» (ὑποδεικνύειν τὰς ὕλας), то есть описывать и классифицировать реальность.
Это знание по своей природе опосредованное. Оно не дает нам саму вещь, а лишь ее концептуальную модель, словесную икону. Это подобно изучению подробной карты местности вместо того, чтобы путешествовать по ней. Такое знание ценно и необходимо на своем уровне, но оно всегда остается знанием о вещах, а не знанием самих вещей. Его главный враг – заблуждение (πλάνη): логическая ошибка, неверный вывод, ложная посылка. Борьба с заблуждением ведется на поле интеллекта.
Важно отметить, что Евагрий, в отличие от многих других отцов, не обесценивает полностью «внешнее знание». Если святитель Афанасий противопоставляет «внешнюю мудрость» богочестию преподобного Антония, то Евагрий придает этому знанию положительное, хотя и низшее, значение. Ему противостоит заблуждение, а не истина, что указывает на его относительную ценность. Это знание можно соотнести с «естественным созерцанием» (φυσικὴ θεωρία), так как оно постигает тварный мир посредством логосов-понятий. Как отмечает святитель Григорий Палама, такое знание – это «естественный дар», дарованный Богом через природу, но его не следует путать с «духовным даром» благодати.
2. Внутреннее знание: Благодатное созерцание реальности
Второму, высшему типу знания, противостоит знание, «рождаемое в нас по благодати Божией» (ἐκ Θεοῦ χάριτος ἐγγινομένη). Его источник – не внешний мир, а Сам Бог, просвещающий очищенный ум. Его метод – непосредственное созерцание (αὐτοψία). Это прямое, интуитивное видение «самих вещей» (τὰ πράγματα), реальности как она есть, без посредничества слов и понятий.
В этом акте созерцания ум (νοῦς) не конструирует, а «принимает» (προσίεται) внутренние «логосы» вещей – их божественные смыслы, вложенные в них Творцом. Это знание-опыт, знание-встреча. Если внешнее знание – это чтение меню, то внутреннее знание – это вкушение самой пищи. Это вершина познания, которую Евагрий именует «естественным созерцанием» (φυσικὴ θεωρία), предваряющим высшее созерцание Самого Бога.
Неоплатонический контекст
Различие между дискурсивным мышлением (διάνοια) и интуитивным созерцанием (νόησις) является фундаментальным для неоплатонизма. Плотин и Прокл учили, что дискурсивное знание всегда опосредовано, оно движется от одного понятия к другому, в то время как высшее познание – это мгновенное, целостное и прямое постижение умом (νοῦς) истинно-сущих форм.
Евагрий, христианизируя эту структуру, утверждает, что очищенный ум (νοῦς) способен к непосредственному созерцанию (αὐτοψία) – видению вещей такими, как они есть в Боге. Это видение «умным оком», о котором говорит и святитель Григорий Нисский. В этом процессе ум не просто анализирует, но интуитивно «принимает» (προσίεται) логосы-смыслы вещей, которые становятся для него прозрачными. Этот процесс сродни платоновскому анамнезису (припоминанию), но переосмысленному в христианском ключе: истинное знание – это не интеллектуальное припоминание, а благодатное откровение, даруемое душе, вернувшейся в свое естественное, чистое состояние.
Внутреннее ведение, о котором говорит Евагрий, – это опытное переживание истины. Такое знание:
Не рассуждает, а вкушает.
Не описывает, а пребывает.
Не анализирует, а созерцает.
Это знание сродни видению Моисея на горе или прозрению апостолов на Фаворе. Оно не может быть «получено» усилием интеллекта; его можно только принять в дар, вынашивая в безмолвии и чистоте сердца, и родить по благодати.
3. Аскетический поворот: Главный враг – гнев
Самый важный, поистине революционный тезис Евагрия заключается в определении того, что препятствует этому высшему, благодатному знанию. Его враг – не интеллектуальное заблуждение, а гнев, ярость (ὀργὴ καὶ θυμός) и сопутствующие им страсти (злопамятство, ненависть, раздражительность).
Почему именно гнев? Потому что страсти яростной части души, согласно психологии Евагрия, являются самым мощным возмущением, которое ослепляет ум и делает его неспособным к тонкому духовному восприятию. Гнев создает внутренний «шум», «дымку», «бурю», которая полностью блокирует зеркало ума, не давая ему отразить Божественный свет. Чистота сердца, и в первую очередь умиротворение яростной части души, является необходимым условием (conditio sine qua non) для созерцания.
От эллинской мудрости к христианской аскезе
Этим афоризмом Евагрий совершает кардинальный сдвиг от классической античной эпистемологии к христианской мистической. Для платоника путь к истине лежал через диалектику и очищение интеллекта. Для Евагрия путь к истинному ведению лежит через аскетический подвиг (πρᾶξις) и очищение сердца (κάθαρσις). Он утверждает, что богословом становится не тот, кто больше всех знает, а тот, кто больше всех молится и борется со страстями. Путь к истинному познанию Бога и творения лежит не через библиотеку, а через келью; его главный инструмент – не силлогизм, а молитва и бесстрастие. Этот тезис стал краеугольным камнем всей последующей исихастской традиции.
Евагрий противопоставляет два пути познания: внешний, словесный, и внутренний, благодатный. Последний открывает уму не просто информацию о вещах, но их сокровенные смыслы (логосы) в самом их бытии. Это ведение не преподается, а рождается; ему не обучают, а его созерцают. И путь к нему лежит не через преодоление интеллектуальных заблуждений, а через победу над страстями. Таким образом, Евагрий утверждает фундаментальный принцип всего восточного исихазма: истинным богословом является не тот, кто много знает, а тот, кто чист сердцем, ибо только чистые сердцем Бога узрят.
5. Все добродетели прокладывают путь (ὁδοποιοῦσιν) гностику, но превыше всех – негневливость (ἀοργησία). Ибо тот, кто коснулся ведения и при этом легко подвизается на гнев, подобен тому, кто железным шилом пронзает себе глаза.
Вариант с пояснениями (раскрывающий смысл):
Все добродетели подготавливают путь для созерцателя, но превыше всех [из них] – негневливость. Ибо тот, кто [уже] соприкоснулся с [даром] ведения, но при этом легко приходит в состояние гнева, подобен тому, кто раскаленным шилом (или иглой) выкалывает себе собственные глаза.
Филологический и богословский анализ
Этот афоризм – один из самых ярких и практически ориентированных в «Гностике». Он утверждает иерархию добродетелей и с помощью шокирующего образа показывает губительные последствия гнева для духовного зрения.
1. Πᾶσαι… αἱ ἀρεταί (pasai… hai aretai) – Все добродетели
Евагрий начинает с общего утверждения: все добродетели (ἀρεταί) важны. Они – инструменты практики (πρᾶξις), которые очищают душу и «прокладывают путь» (ὁδοποιοῦσιν) для гностика. Глагол ὁδοποιέω буквально означает «делать дорогу», «готовить путь». Добродетели – это не самоцель, а средство, подготавливающее душу к принятию высшего дара – гносиса.
2. Ὑπὲρ δὲ πάσας ἡ ἀοργησία (hyper de pasas hē aorgēsia) – Но превыше всех – негневливость
Здесь Евагрий вводит иерархию. Хотя все добродетели полезны, одна из них имеет исключительное, первостепенное значение именно для гностика, то есть для того, кто уже находится на ступени созерцания.
Ἀοργησία (aorgēsia) – «негневливость», «отсутствие гнева». Это состояние, противоположное страсти гнева (ὀργή). Это не просто подавление гнева, а искоренение самой склонности к нему, достижение глубокого внутреннего мира. Эта добродетель принадлежит к состоянию апатии, но Евагрий выделяет ее особо, потому что она напрямую связана с чистотой ума (νοῦς).
3. Ὁ γὰρ γνώσεως ἐφαψάμενος (ho gar gnōseōs ephapsamenos) – Ибо тот, кто коснулся ведения
Это очень важная деталь. Евагрий говорит не о новичке, а о том, кто уже «коснулся» (ἐφαψάμενος) гносиса. Глагол ἐφάπτομαι означает легкое, неполное соприкосновение. Это указывает на то, что гносис – это не стабильное, раз и навсегда приобретенное состояние, а хрупкий дар, который можно легко потерять. Человек мог получить момент благодатного озарения, но еще не утвердился в нем.
4. Καὶ πρὸς ὀργὴν ῥᾳδίως κινούμενος (kai pros orgēn radiōs kinoumenos) – И при этом легко подвизается на гнев
Это описание духовной неустойчивости. Ῥᾳδίως («легко», «без труда») и κινούμενος («подвигаемый», «приводимый в движение») показывают, что страсть еще не побеждена и может легко взять верх. Здесь Евагрий описывает парадоксальную, но реальную духовную опасность: человек может достичь высоких духовных состояний и при этом оставаться уязвимым для базовых страстей, особенно для гнева.
5. Ὅμοιός ἐστι τῷ σιδηρᾷ περόνῃ τοὺς ἑαυτοῦ ὀφθαλμοὺς κατανύττοντι (homoios esti tōi sidērāi peronēi tous heautou ophthalmous katanyttonti) – Подобен тому, кто железным шилом пронзает себе глаза
Это кульминация афоризма – мощный и жестокий образ.
σιδηρᾷ περόνῃ (sidērāi peronēi) – «железным шилом/иглой/булавкой». Περόνη – это острый инструмент. В некоторых переводах встречается «раскаленное железо», что усиливает образ, хотя в греческом тексте этого эпитета нет. Сам материал – железо – уже указывает на нечто жесткое и безжалостное.
τοὺς ἑαυτοῦ ὀφθαλμοὺς (tous heautou ophthalmous) – «свои собственные глаза». Акцент на том, что вред причиняется самому себе. Гнев – это акт духовного самоповреждения.
κατανύττοντι (katanyttonti) – «пронзающему», «прокалывающему». Этот глагол (от которого происходит слово «катексис» или «умиление» – κατάνυξις) имеет здесь свое прямое, физическое значение.
Богословская суть образа:
Глаза – это, конечно, ум (νοῦς), «око души», орган духовного созерцания.
Гнев – это шило, которое ослепляет этот орган.
Гнев не просто «затуманивает» или «искажает» духовное зрение – он его уничтожает, делает ум слепым к Божественному свету. Это объясняет, почему негневливость так важна: она защищает сам орган богопознания.
Анализ сирийского перевода
Сирийский переводчик вновь демонстрирует точность и понимание.
Он передает ὁδοποιοῦσιν как (maddīlān 'urḥā) – «указуют/прокладывают путь», что очень точно.
Περόνη он переводит как (maḥṭā) – «игла», что является одним из правильных значений.
Глагол κατανύττω передан как (mǝda''ēṣ) – «вонзать», «пронзать», что также передает силу образа.
Весь строй фразы и ее смысл сохранены идеально.
Этот афоризм устанавливает практический приоритет в духовной жизни гностика. Путь к ведению вымощен всеми добродетелями, но само здание ведения стоит на фундаменте негневливости. Любой приступ гнева – это не просто шаг назад, а акт прямого разрушения уже достигнутого, акт духовного самоубийства.
Богословско-философский комментарий
В пятой главе своего «Гностика» Евагрий Понтийский переходит от теоретических основ познания к его практическим условиям. Этот афоризм устанавливает четкую иерархию добродетелей, выдвигая на первый план негневливость (ἀοργησία) как ключевое и незаменимое условие для созерцательной жизни. Через поразительно сильный образ самоослепления Евагрий демонстрирует не просто вред, а абсолютную несовместимость гнева с духовным ведением.
1. Добродетели как «путепрокладчики» гносиса
Евагрий начинает с утверждения, что «все добродетели прокладывают путь (ὁδοποιοῦσιν) гностику». В его аскетической системе добродетели – это не самоцель и не просто моральные качества. Это активные духовные практики, инструменты «делания» (πρᾶξις), которые очищают душу от страстей и подготавливают ее к принятию ведения (γνῶσις). Они подобны рабочим, которые расчищают и выравнивают дорогу, по которой сможет пройти Царь. В духе платонизма, добродетели очищают душу и уподобляют ее высшему Благу, но Евагрий наполняет эту идею христианским содержанием: добродетели – это не только человеческое усилие, но и синергическое действие с Божественной благодатью, открывающее душу для Святого Духа.
2. Негневливость – вершина и страж добродетелей
Однако, признавая ценность всех добродетелей, Евагрий немедленно выделяет одну из них как наиважнейшую: «но превыше всех – негневливость». Почему именно она? Потому что если другие добродетели строят и украшают дом для души, то негневливость охраняет сам «глаз» души – ум (νοῦς), орган богопознания.
Евагрий здесь не одинок. Преподобный Антоний Великий включает негневливость в число наиглавнейших добродетелей наряду с любовью, верой и рассудительностью. Позднейшие отцы, как преподобный Феогност, видят в ней незаменимого хранителя чистоты сердца. Но Евагрий делает особый акцент на ее гносеологической функции. Он тесно связывает негневливость с двумя другими ключевыми добродетелями.
Любовь (ἀγάπη). В «Слове о духовном делании» Евагрий называет любовь «уздой ярости». Любовь усмиряет и преображает страстную часть души, делая негневливость возможной.
Кротость (πραύτης). В своих письмах Евагрий именует кротость «матерью ведения». Кротость – это не пассивная мягкость, а активное, благодатное состояние внутреннего мира, которое и рождает способность к созерцанию.
Негневливость, таким образом, – это не просто отсутствие гнева, а плод любви и синоним кротости, состояние, отражающее евангельский идеал Христа, «кроткого и смиренного сердцем» (Мф. 11:29).
3. Гнев как акт духовного самоослепления
Кульминацией афоризма является его вторая часть, где Евагрий рисует страшную картину: «Ибо тот, кто коснулся ведения и при этом легко подвизается на гнев, подобен тому, кто железным шилом пронзает себе глаза».
Этот образ раскрывает несколько важнейших истин.
Хрупкость гносиса. Евагрий говорит о том, кто лишь «коснулся» (ἐφαψάμενος) ведения. Это подчеркивает, что духовные дары, особенно на начальных этапах созерцания, не являются постоянной собственностью. Их можно легко утратить.
Гнев – это самоубийство для ума. Образ самоослепления показывает, что гнев – это не внешний враг, а акт внутреннего саморазрушения. Гневаясь, подвижник сам уничтожает в себе способность видеть Бога.
Гнев – не просто помеха, а уничтожитель. Гнев не «затуманивает» и не «искажает» зрение – он его уничтожает. В платонической традиции ум (νοῦς) – это «око души». Гнев, по Евагрию, – это раскаленное шило, которое выжигает это око, делая его абсолютно слепым. Он радикально несовместим с состоянием созерцания.
Этот образ перекликается с учением всей исихастской традиции, от Исаака Сирина до Григория Паламы, которые единодушно утверждали, что умная молитва и созерцание божественного света возможны только в состоянии полного бесстрастия и мира.
Радикальный выбор подвижника
Пятая глава «Гностика» ставит перед подвижником радикальный выбор. Путь к Богу требует возделывания всех добродетелей, но в центре этого делания должна стоять неустанная борьба за негневливость. Каждый приступ гнева для того, кто уже вкусил сладость ведения, – это не просто падение или ошибка, а сознательный (или безрассудный) акт самоослепления, отказ от уже дарованного света.
Евагрий синтезирует здесь христианскую и философскую мудрость, показывая, что негневливость – это не просто стоический самоконтроль, а плод божественной любви и благодати, преображающий душу и восстанавливающий ее богоподобие. Для современного человека, живущего в мире, провоцирующем гнев на каждом шагу, напоминание Евагрия звучит особенно остро: мир сердца – это не роскошь, а необходимое условие для того, чтобы видеть Бога и оставаться человеком.
6. Пусть гностик соблюдает бдительность (ἀσφαλιζέσθω) в [своих] снисхождениях, чтобы снисхождение не стало для него неосознанной привычкой (ἕξις); и пусть он старается всегда в равной степени совершать все добродетели, чтобы они следовали друг за другом в нем, ибо ум по своей природе предается [врагу] через ослабевающую [добродетель].
Вариант с пояснениями (раскрывающий смысл):
Пусть созерцатель будет тверд и осторожен в проявлении снисходительности, дабы она незаметно для него не превратилась в [пагубную] привычку [расслабленности]. Он должен стремиться всегда равномерно преуспевать во всех добродетелях, чтобы они гармонично следовали одна за другой в его душе, ибо ум имеет свойство быть преданным [врагу] через ту добродетель, которая ослабевает.
Филологический и богословский анализ
Этот афоризм – блестящий пример пастырской мудрости Евагрия. Он предостерегает от тонкой духовной опасности, когда добродетель, вырванная из общего контекста, превращается в свою противоположность. Текст построен на трех ключевых идеях: опасность снисхождения, необходимость гармонии добродетелей и уязвимость ума.
1. Συγκατάβασις (synkatabasis) – Снисхождение и его опасность
Значение термина. Συγκατάβασις (букв. «со-схождение вниз») – это важнейший пастырский и богословский термин. Он может означать:
Снисхождение Бога к человеку, кульминацией которого является Воплощение (Кенозис).
Снисхождение духовного наставника к немощи ученика. Это осознанный педагогический акт, как у апостола Павла: «для всех я сделался всем» (1 Кор. 9:22). Это не слабость, а проявление любви и мудрости.
Опасность. Евагрий предупреждает, что эта добродетель может стать ἕξις (hexis) – устойчивой привычкой, навыком. ἕξις – аристотелевский термин, обозначающий прочное качество души. Но если снисхождение из осознанного акта любви превращается в неосознанную, привычную мягкость, оно становится расслабленностью, попустительством, компромиссом с грехом. Учитель перестает вести ученика вверх, а сам начинает скатываться вниз вместе с ним.
Λάθῃ αὐτόν (lathēi auton) – «незаметно для него». Опасность усугубляется тем, что этот переход происходит неосознанно. Подвижник теряет трезвение и перестает различать, где он помогает, а где потакает.
2. Необходимость гармонии добродетелей
В качестве противоядия Евагрий предлагает принцип гармонии: «пытаться в равной степени (ἐπίσης) всегда успешно осуществлять (κατορθοῦν) все добродетели».
Катортóо (κατορθόω) – «исправлять», «делать прямым», «успешно совершать». Это указывает на постоянное, сознательное усилие.
Принцип симфонии. Евагрий использует стоическую идею о взаимосвязи (ἀκολουθία) добродетелей. Они не существуют изолированно, а образуют единую систему, подобно струнам лиры. Если одна струна ослаблена или перетянута, вся гармония нарушается. Снисходительность без мужества – это малодушие. Милосердие без справедливости – это попустительство.
3. Уязвимость ума: «Ум предается… через ослабевающую добродетель»
Это кульминация афоризма и его психологическая основа.
«…τὸν νοῦν ὑπὸ τῆς ἐλαττουμένης προδίδοσθαι» (…ton noun hypo tēs elattoumenēs prodidosthai).
προδίδοσθαι (prodidosthai) – «предаваться», «выдаваться врагу». Ум (νοῦς), который должен быть крепостью, сдается врагу.
τῆς ἐλαττουμένης ([добродетели], tēs elattoumenēs) – «ослабевающей», «уменьшающейся», «той, которой недостает».
Духовный враг (бесы) всегда атакует самое слабое место в обороне души. Если подвижник развивает одни добродетели в ущерб другим, он создает «брешь» в своей духовной броне. Через эту брешь враг проникает и захватывает цитадель – ум. Например, если подвижник усерден в посте и молитве, но пренебрегает негневливостью, то именно через гнев враг и погубит все его труды. Если он милосерден, но не имеет рассудительности, его милосердие станет вредным.
Анализ сирийского перевода
Сирийский переводчик вновь показывает глубокое понимание.
Συγκατάβασις он передает как (mettaḥtaynūṯā), что буквально означает «уничижение себя», «помещение себя ниже». Это прекрасно передает идею смиренного снисхождения.
Опасность превращения в привычку он выражает ярким образом: «чтобы он не ошибся и не погрузился/окрасился (neṣṭba') в нее». Глагол ṣba' означает «погружать, красить, крестить», что создает образ полного пропитывания этой привычкой, потери своей изначальной «окраски» – трезвения.
Идею предательства ума он передает так: «ибо ум склонен (mekkan) быть преданным (neštlam) через ту [добродетель], которая умаляется (metbaṣṣrā)». Это точная и адекватная передача греческого оригинала.
Афоризм является важнейшим уроком духовного рассуждения. Он учит, что ни одна добродетель, даже самая благая, не может практиковаться в отрыве от других. Духовная жизнь – это симфония, требующая гармонии и баланса. Любой дисбаланс создает уязвимость, через которую враг получает доступ к самому сердцу духовной жизни – к уму.
Богословско-философский комментарий
В этом афоризме (6) Евагрий Понтийский переходит от рассмотрения отдельных добродетелей к их синтезу и гармонии. Он обращается к гностику – духовно опытному наставнику – с предостережением об одной из самых тонких опасностей пастырского служения. Речь идет о снисхождении (συγκατάβασις), добродетели, которая без должного трезвения может превратиться из лекарства в яд, открывая врагу доступ к самой цитадели души – уму.
1. Снисхождение: Добродетель на грани порока
Термин συγκατάβασις (букв. «со-схождение») имеет в святоотеческой письменности богатое значение. Он описывает и кенотическое снисхождение Бога к человеку в Воплощении, и пастырскую практику духовного наставника, который «спускается» на уровень немощного ученика, чтобы поднять его. Как отмечает преподобный Антоний Великий, иногда необходимо «давать послабление братии», чтобы не сломить их чрезмерным напряжением. В этом смысле снисхождение – это проявление высшей любви и мудрости.
Однако Евагрий, следуя за Климентом Александрийским, указывает на скрытую опасность: когда этот осознанный педагогический акт превращается в неосознанную привычку (ἕξις). Снисхождение из средства помощи становится состоянием расслабленности и компромисса. Учитель, вместо того чтобы вести ученика вверх, начинает незаметно для себя потакать его слабостям и, в конечном счете, сам скатывается на его уровень. Сирийский переводчик передает эту опасность ярким образом: гностик рискует «погрузиться» или «окраситься» (nṣṭbʿ) в эту привычку, полностью утратив свою духовную трезвость.
2. Симфония добродетелей как противоядие
В качестве лекарства от этой духовной болезни Евагрий предлагает принцип гармонии: «в равной степени всегда совершать все добродетели». Эта идея, восходящая к стоическому учению о взаимосвязи (ἀκολουθία) добродетелей, приобретает у Евагрия глубокий аскетический смысл. Добродетели не могут существовать в изоляции. Они подобны струнам лиры, которые должны быть настроены в унисон, чтобы создавать божественную мелодию в душе.
Снисходительность без мужества и правдолюбия превращается в малодушие.
Милосердие без рассудительности становится вредным попустительством.
Пост без негневливости порождает гордыню и осуждение.
Как учит преподобный Максим Исповедник, все добродетели, по сути, являются различными проявлениями единой любви. Поэтому ослабление одной из них – это симптом болезни всей духовной жизни.
3. Ум, предаваемый через «брешь» в обороне
Евагрий завершает свою мысль пронзительным психологическим наблюдением: «ибо ум по своей природе предается [врагу] через ослабевающую [добродетель]». Душа гностика подобна крепости, а ум (νοῦς) – ее правителю. Добродетели – это стены и башни этой крепости. Если какая-то часть стены (одна из добродетелей) ослабевает или разрушается, именно через эту «брешь» и проникает враг.
Этот принцип является ключом ко всей аскетической стратегии Евагрия. Духовный враг всегда ищет самое слабое место. Если подвижник горд своей нестяжательностью, но при этом тщеславен, его погубит тщеславие. Если он кроток, но склонен к унынию, именно акедия станет его погибелью. Гармоничное развитие всех добродетелей – это не перфекционизм, а жизненная необходимость, вопрос духовной безопасности.
Бдительность как условие пастырства
Этот афоризм Евагрия – вечный урок для всех, кто несет ответственность за других. Он учит, что любовь и милосердие должны быть соединены с трезвением и духовной твердостью. Гностик, или духовный наставник, должен быть подобен опытному врачу, который применяет разные методы лечения в зависимости от состояния больного, но никогда не теряет из виду конечную цель – полное исцеление.
Евагрий призывает к симфонии добродетелей, где каждая поддерживает другую, и все вместе они охраняют ум от предательства. Снисхождение полезно, пока оно остается сознательным актом любви, но становится губительным, когда превращается в привычку, разрушающую духовную крепость. В этом заключается высшая мудрость пастыря – найти царский путь между жесткостью и попустительством, между строгостью и расслабленностью.
7. Гностик пусть всегда побуждает (nadrōš) свою душу к милости (l-raḥmē) и будет готов к благотворению. Если же он нуждается в деньгах, пусть приведет в движение орудие (mānā) своей души. Ибо гностик способен (mekkan) творить милость даже и без денег; [этой милости] лишены были те пять дев, светильники которых угасли.
Вариант с пояснениями (раскрывающий смысл):
Созерцатель пусть всегда упражняет свою душу в милосердии и будет готов творить добрые дела. Если же у него нет материальных средств, пусть он задействует духовные инструменты своей души. Ибо созерцатель по своей природе способен творить милость даже и без денег; именно этого [масла милости] и не хватило тем пяти неразумным девам, светильники которых угасли.
Филологический и богословский анализ (на основе сирийского текста)
Этот фрагмент раскрывает деятельную, «экстравертную» сторону жизни гностика. Ведение (гносис) не замыкается в себе, а естественно изливается в милосердии, которое является не просто одной из добродетелей, а сущностным свойством преображенной души.
1. (nadrōš nafšēh l-raḥmē) – «Пусть побуждает/упражняет свою душу к милости»
Глагол (dǝraš) имеет богатый спектр значений: «искать», «исследовать», «изучать», «упражнять», «побуждать». Здесь он указывает на постоянное, сознательное усилие, на духовное упражнение. Гностик не просто пассивно обладает милостью, он активно возделывает ее в своей душе.
(raḥmē) – ключевое сирийское слово, производное от корня, означающего «лоно», «утроба». Оно передает идею глубокой, сострадательной, почти материнской любви и милосердия. Оно может означать и внутреннее состояние (милость, сострадание), и внешнее действие (милостыня).
2. (mānā d-nafšēh) – «Орудие своей души»
(mānā) – «сосуд», «инструмент», «орудие», «утварь». Это очень многозначный термин. В данном контексте он противопоставляется (kespā) – «деньгам», «серебру». Если нет внешнего, материального инструмента (денег), гностик должен использовать внутренний, духовный инструмент.
Что это за «орудие»? Исходя из святоотеческого контекста, это весь арсенал духовных средств:
Молитва за ближнего.
Слово утешения, наставления, ободрения.
Сострадание и сопереживание.
Телесные труды ради других (уход за больными, помощь немощным). Как верно указано в вашем материале, представление о теле как об «орудии души» (греч. ὄργανον) было широко распространено и позволяет включить и этот аспект.
3. Отождествление милости и масла (ἔλεος и ἔλαιον)
Хотя мы работаем с сирийским текстом, за ним почти наверняка стоит греческая игра слов. Весь пассаж строится на толковании притчи о десяти девах (Мф. 25:1-13).
У неразумных дев угасли светильники, потому что у них не хватило масла (ἔλαιον).
Евагрий утверждает, что гностик обладает тем, чего им не хватило, а именно – милостью (ἔλεος).
Созвучие слов ἔλεος (милость) и ἔλαιον (масло) позволяло отцам Церкви (например, Клименту Александрийскому, Иоанну Златоусту) напрямую отождествлять их. Милость – это то масло, которое питает светильник веры и ведения.
4. «Умозритель по природе своей является милостивым»
Это интерпретация сирийской фразы «ибо гностик способен творить милость даже и без денег». Смысл в том, что для гностика милость – это не внешнее предписание, а внутреннее, сущностное свойство. Почему? Потому что, гностик через аскезу и благодать восстанавливает в себе изначальную чистоту естества, неповрежденного грехом. А это естество, созданное по образу милостивого Бога, само по себе милостиво. Милость – это не то, что он делает, а то, чем он является.
Афоризм утверждает неразрывную связь между ведением (гносисом) и милостью (агапэ). Истинное созерцание не может быть холодным и отстраненным. Оно по своей природе деятельно и изливается в мир через милосердие – материальное или, что еще важнее, духовное. Отсутствие этого «масла милости» превращает гностика в неразумную деву, чей светильник ведения неизбежно угаснет.
Богословско-философский комментарий
В этом афоризме, сохранившемся только в сирийском переводе, Евагрий Понтийский раскрывает деятельную и экзистенциальную сторону гносиса. Он утверждает, что истинное ведение неразрывно связано с милостью (сир. raḥmē), которая является не просто одной из добродетелей, а сущностным проявлением преображенной души. Этот текст, отсылающий к евангельской притче о десяти девах, становится ключом к пониманию единства созерцания и деятельной любви в учении Евагрия.
1. Милость как естественное состояние гностика
Евагрий начинает с императива: гностик должен постоянно «упражнять» (naḏrōš) свою душу в милосердии. Это не разовый акт, а постоянное делание, внутреннее возделывание. Однако далее он раскрывает, что для истинного гностика милость – это не столько усилие, сколько естественное состояние. Гностик «по природе своей является милостивым». Это следует понимать в том смысле, что через подвиг очищения и Божественную благодать он восстанавливает в себе первозданное, неискаженное грехом естество, созданное по образу милостивого Бога. Милосердие становится для него таким же естественным, как дыхание.
Эта идея находит глубокий отклик в святоотеческой традиции. Святитель Иоанн Златоуст называет милостыню «средоточием» и «главой» всех добродетелей. Преподобный Исаак Сирин учит, что милость без промедления вводит душу в «общение с единым сиянием славы Божества». Милость – это не просто этический долг, а онтологический мост, соединяющий человека с Богом.
2. Духовная милостыня: «Орудие души»
Фундаментальный тезис Евагрия заключается в том, что милость не зависит от материальных средств. «Если же он нуждается в деньгах (kespā), пусть приведет в движение орудие своей души (mānā d-nafšēh)». Это «орудие души» – весь арсенал духовных даров гностика:
Молитва за ближних и за весь мир.
Слово утешения, наставления и ободрения.
Сострадание, способность разделить чужую боль.
Телесные труды ради немощных, где тело становится инструментом (греч. ὄργανον) милосердной души.
Тем самым Евагрий расширяет понятие милостыни до его пределов, показывая, что ее источник – не кошелек, а чистое сердце. Эта мысль перекликается со словами преподобного Исаака Сирина: «Если ты не имеешь золота, дай брату слово утешения, ибо оно дороже золота».
3. Притча о десяти девах: Милость как масло для светильника ведения
Ссылка на «пять дев, светильники которых угасли» (ḥammesh bǝṯulāṯā d-da'ḵu lampāḏayhen) является смысловым ключом ко всему афоризму. В святоотеческой экзегезе масло (ἔλαιον) в светильниках традиционно толковалось как добродетели, и в первую очередь – как милость (ἔλεος). Евагрий, несомненно, опирается на эту традицию, основанную на созвучии греческих слов.
Светильник – это ум (νοῦς) гностика, его способность к созерцанию.
Пламя – это само ведение (γνῶσις), свет божественного познания.
Масло – это милость (ἀγάπη, ἔλεος), которая питает это пламя.
Пять неразумных дев символизируют тех, кто обладает «знанием без милости» – холодной, бесплодной, тщеславной схоластикой. Их светильники гаснут, потому что их гносис не укоренен в любви и сострадании. Истинный гностик, подобно мудрым девам, постоянно пополняет сосуд своей души маслом милости, и потому его свет не угасает. Как подчеркивают современные исследователи (Л. Дайсинджер, Г. Бунге), Евагрий системно отрицает разрыв между практикой и теорией: утративший милость теряет и чистоту созерцания, ибо его ум неизбежно помрачается самолюбием (φιλαυτία).
Единство гносиса и агапэ
Этот афоризм Евагрия – мощное утверждение неразрывного единства ведения (гносиса) и любви-милости (агапэ). В неоплатонических терминах, гностик, будучи причастным к Источнику блага, не может не изливать это благо вовне. Если светило не излучает свет, оно перестает быть светилом. В христианских терминах, познание Бога неотделимо от уподобления Ему в Его главном свойстве – милосердии.
Таким образом, Евагрий ставит милость в самый центр гностической жизни. Она не является дополнением к созерцанию, а его необходимым условием и естественным плодом. Без масла милости любой, даже самый яркий, светильник ведения обречен угаснуть в час пришествия Жениха.
8. Для гностика постыдно (αἰσχρόν) судиться, как будучи обижаемым, так и обижая: будучи обижаемым – потому что не претерпел, а обижая – потому что совершил несправедливость.
Вариант с пояснениями (раскрывающий смысл):
Для созерцателя позорно вступать в судебную тяжбу, вне зависимости от того, является ли он жертвой несправедливости или ее виновником. В первом случае [это позорно], потому что он не смог снести обиду; во втором – потому, что он сам нанес ее.
Филологический и богословский анализ
Этот афоризм – образец лаконичности и духовной бескомпромиссности Евагрия. Он построен на строгом параллелизме и раскрывает абсолютную несовместимость состояния гностика с мирскими спорами.
1. Αἰσχρὸν γνωστικῷ τὸ δικάζεσθαι (Aischron gnōstikōi to dikazesthai) – «Для гностика постыдно судиться»
Αἰσχρόν (Aischron) – «постыдное», «позорное», «безобразное». Это сильное этическое слово. Оно указывает не просто на ошибку или грех, а на действие, которое унижает высокое достоинство гностика, делает его «безобразным» в духовном смысле.
Γνωστικῷ (Gnōstikōi) – «гностику», «созерцателю». Как и прежде, это не просто знающий человек, а тот, кто достиг апатии и стоит на пороге или уже в состоянии теории (созерцания). Его ум должен быть чистым зеркалом, а тяжба – это грязь, которая пачкает это зеркало.
Τὸ δικάζεσθαι (To dikazesthai) – «судиться», «вести тяжбу». Это не просто спор, а именно обращение к суду, формальная тяжба. Как показывают исторические данные, монахи в Египте действительно иногда судились, и Евагрий выступает против этой практики, считая ее абсолютно несовместимой с монашеским идеалом.
2. Разбор двух сценариев: ἀδικουμένῳ… ἀδικοῦντι (adikoumenōi… adikounti) – «обижаемому… обижающему»
Евагрий гениально уравнивает обе стороны конфликта, показывая, что с точки зрения гностической жизни оба проигрывают. Он не интересуется, кто прав по закону; он смотрит на духовное состояние.
ἀδικουμένῳ μὲν ὅτι οὐχ ὑπέμεινεν (adikoumenōi men hoti ouch hypemeinen) – «будучи обижаемым – потому что не претерпел».
Не претерпел (οὐχ ὑπέμεινεν). Глагол ὑπομένω («терпеть», «переносить», «оставаться под») – ключевая христианская добродетель терпения. Отказ от терпения – это провал в практике (πρᾶξις). Это значит, что страсти (гнев, обида, самолюбие, жадность) все еще господствуют над душой. Для гностика, который должен был достичь апатии, это позорный регресс. Он провалил экзамен на бесстрастие. Его реакция показывает, что он все еще привязан к земному и не уповает полностью на Бога.
ἀδικοῦντι δὲ ὅτι ἠδίκησε (adikounti de hoti ēdikēse) – «обижая – потому что совершил несправедливость».
Этот случай еще более очевиден. Совершить несправедливость – значит напрямую нарушить заповедь любви к ближнему. Это действие, исходящее из страстей (жадности, гнева, ненависти), что в принципе несовместимо со статусом гностика. Если в первом случае гностик «провалил экзамен», то здесь он даже не был к нему допущен, так как сам стал источником зла.
Евагрий переводит фокус с внешней, юридической правоты на внутреннее, духовное состояние. В мире суда есть правый и виноватый. В мире гносиса есть только два состояния: терпение (соответствующее гностику) и страсть (несоответствующая ему), которая проявляется и в неспособности стерпеть, и в желании обидеть. Любая тяжба – это манифестация страсти.
Анализ сирийского перевода
Сирийский переводчик следует за оригиналом с поразительной точностью:
(šǝḵīrā hī) – «позорно это», «мерзко это». Точно передает αἰσχρόν.
(d-ḏīnā nēmar) – «чтобы он говорил суд», т.е. «чтобы он судился».
('en meṭṭlam w-'en ṭlam) – «будь он обижаем, будь он обижает».
(d-lā saybar) – «потому что не стерпел». Saybar – идеальный эквивалент ὑπομένω.
Структура и смысл переданы безупречно.
Этот афоризм – радикальный призыв к жизни по евангельским заповедям, а не по законам мира. Для гностика не существует «справедливой тяжбы». Любой конфликт, дошедший до суда, свидетельствует о духовном поражении. Это не просто этический совет, а гносеологический принцип: ум, вовлеченный в тяжбу, помрачается страстями и становится неспособным к чистому созерцанию Бога. Путь гностика лежит не через залы суда, а через Голгофу терпения и прощения.
Богословско-философский комментарий
Это лаконичное изречение из «Гностика» (8) представляет собой одну из самых радикальных этических и аскетических формул Евагрия. На первый взгляд, это максима, призывающая к полному отказу от мирских разбирательств. Однако в контексте учения Евагрия она раскрывается как глубокий гносеологический принцип: состояние ума, необходимое для созерцания, абсолютно несовместимо с состоянием тяжбы. Евагрий переносит оценку поступка с юридической плоскости («кто прав?») на духовную («в каком состоянии душа?»).
1. «Позор» как маркер духовного падения
Евагрий начинает с сильного слова «постыдно» (αἰσχρόν). Это не просто «неправильно» или «греховно». Это «безобразно», «унизительно» для высокого достоинства гностика. Гностик – это тот, кто достиг бесстрастия (ἀπάθεια) и чей ум (νοῦς) призван быть чистым зеркалом Божества. Участие в судебной тяжбе – это признание того, что зеркало покрылось грязью страстей, что духовный аристократ добровольно спустился на уровень мирских склок. Как показывают исторические свидетельства, Евагрий выступал против реальной практики судебных разбирательств среди монахов, видя в этом полное извращение монашеского идеала.
2. Равенство обиженного и обидчика перед лицом апатии
Гениальность формулы Евагрия – в уравнивании обеих сторон конфликта. С точки зрения гносиса, неважно, кто инициировал несправедливость. Важно, что оба участника тяжбы оказались во власти страстей.
Для обиженного (ἀδικουμένῳ) позор в том, что он «не претерпел» (οὐχ ὑπέμεινεν).
Здесь – прямая отсылка к евангельскому идеалу непротивления (Мф. 5:39) и несения креста. Неспособность претерпеть обиду – это ясный диагноз: душа все еще больна гневом, самолюбием, привязанностью к материальному. Гностик, ищущий суда, показывает, что его упование не на Бога, а на человеческую справедливость, и что его бесстрастие было мнимым. Как учит преподобный Иоанн Лествичник, такой человек демонстрирует отсутствие веры в Божий Промысл.
Для обидчика (ἀδικοῦντι) позор в том, что он «совершил несправедливость» (ἠδίκησε).
Этот случай еще более очевиден. Сам акт несправедливости – это прямое действие страсти (жадности, зависти, ненависти), что является полной противоположностью состоянию гностика. Он не просто не выдержал испытания, он сам стал источником зла и соблазна.
Таким образом, Евагрий ставит знак равенства не между поступками, а между их духовными корнями. И в нетерпении обиженного, и в действиях обидчика он видит один и тот же корень – страсть, которая делает ум слепым.
3. Философский контекст: Отказ от мира мнений
В неоплатонической традиции, особенно у Плотина, душа, стремящаяся к Единому, должна подняться над миром множественности, конфликтов и мнений (δόξα). Судебная тяжба – это квинтэссенция жизни в сфере доксы, горизонтальной плоскости мирских столкновений. Гностик же призван жить в вертикальном измерении, где его ум (νοῦς) обращен к Богу. Участие в суде – это добровольный уход с этой вертикали, возвращение в пещеру теней.
4. Гностик как образ Христа
В конечном счете, призыв Евагрия основан на христологии. Гностик должен быть образом Христа, «Который, будучи злословим, не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному» (1 Пет. 2:23). Суд – это прерогатива Бога. Задача гностика – терпеть, молиться за обидчиков и являть миру образ кротости и любви. Как было сказано ранее, гностик должен быть «солью» и «светом». Тяжба же делает его пресным и темным, лишая его духовной силы и свидетельства.
Афоризм Евагрия – это радикальное выражение сути христианской аскезы. Он учит, что для человека, стремящегося к богообщению, не может быть «праведной» тяжбы или «справедливого» мирского спора. Любой конфликт, требующий внешнего арбитража, является симптомом внутренней духовной болезни – отсутствия терпения или отсутствия любви. Путь гностика лежит не через восстановление своих прав в этом мире, а через полное предание себя в руки Божьего суда, через уподобление Христу в Его крестном терпении.
9. Ведение, будучи сохраняемым, учит причастного ему, как ему самому сохраниться и продвинуться к большему.
Вариант с пояснениями (раскрывающий смысл):
[Дар] ведения, когда его бережно хранят, [сам] научает того, кто ему сопричастен, как ему [т.е. ведению] можно быть сохраненным и [как ему] взойти на более высокую ступень.
Филологический и богословский анализ
Этот афоризм – один из самых глубоких и парадоксальных. Евагрий описывает гносис не как пассивный объект познания, а как живую, саморазвивающуюся и обучающую реальность.
1. Ἡ γνῶσις συντηρουμένη (hē gnōsis syntēroumenē) – «Ведение, будучи сохраняемым»
Συντηρουμένη (причастие пассивного залога от συντηρέω) – «сохраняемое», «сберегаемое», «хранимое». Это указывает на то, что гносис – это нечто хрупкое, что требует активной защиты и бережного отношения со стороны подвижника. Как его сохранять? Предыдущие главы дают ответ: через негневливость, милосердие, терпение, гармонию всех добродетелей. Сохранение гносиса – это сохранение чистоты ума (апатии).
Гносис как субъект. Далее по тексту становится ясно, что это «сохраняемое» ведение само становится активным субъектом – оно «учит» (διδάσκει).
2. Διδάσκει τὸν μετέχοντα αὐτῆς (didaskei ton metechonta autēs) – «Учит причастного ему»
Τὸν μετέχοντα (причастие от μετέχω) – «участвующего», «причастного». Евагрий не использует слово «обладающий» (ἔχων). Это подчеркивает, что гносис – это не вещь, которой можно владеть, а благодатное состояние, которому можно быть сопричастным. Подвижник не «имеет» гносис, а «живет в нем», как в пространстве света.
Гносис как внутренний учитель. Здесь раскрывается парадокс. Сначала человек трудится, чтобы сохранить гносис, а затем сам сохраненный гносис начинает учить человека. Это динамический, синергетический процесс. Благодать, которую человек сберег, сама начинает вести его дальше.
3. Ὅπως ἂν διαφυλαχθῇ καὶ ἐπὶ μείζονα προέλθοι (hopōs an diaphylachthēi kai epi meizona proelthoi) – «Как ему самому сохраниться и продвинуться к большему»
Διαφυλαχθῇ (пассивный залог) – «[как] ему быть сохраненным». Гносис учит подвижника тем методам и добродетелям, которые необходимы для его, гносиса, сохранения. Это похоже на то, как здоровье, если его поддерживать, само подсказывает организму, что для него полезно.
Ἐπὶ μείζονα προέλθοι – «[как ему] продвинуться к большему/высшему». Μείζονα («большее») – это более высокая ступень созерцания. Гносис не статичен. Он всегда стремится к расширению и углублению. Это точно соответствует идее ἐπέκτασις (бесконечного восхождения к Богу) у святителя Григория Нисского. Путь познания Бога бесконечен, потому что Бог бесконечен.
Здесь важно, что субъектом глаголов διαφυλαχθῇ и προέλθοι является сам гносис. Не человек продвигается, а знание в нем продвигается к большему, увлекая за собой человека.
Афоризм описывает самодвижущуюся природу благодатного знания. Подвижник должен приложить первоначальное усилие, чтобы сберечь дар ведения от страстей. Но как только этот дар укореняется в чистой душе, он сам становится внутренним наставником, который и защищает себя, и ведет человека от славы в славу.
Анализ сирийского перевода
Сирийский переводчик уловил главную идею.
(yāḏa'tā d-metnaṭrā) – «Ведение, которое сохраняется».
(hī mallǝpā l-maqqablānayh) – «оно учит своих принимающих». Maqqablānā («принимающий») – прекрасный эквивалент для μετέχων («причастный»).
(w-'aykanā tehwē meštawšaṭtā l-qoḏmayh) – «и как оно будет простираться вперед». Глагол (šawšeṭ) означает «простирать», «расширять», что хорошо передает идею движения к μείζονα.
Перевод точен и адекватен.
Этот краткий афоризм – квинтэссенция мистической педагогики Евагрия. Он показывает, что духовная жизнь – это не одностороннее усилие человека, а синергия. Человек хранит благодать, а благодать хранит и ведет человека. Это живой, двусторонний процесс, в котором дар Божий, будучи принят и сбережен в чистоте, сам становится источником дальнейшего просвещения и восхождения.
Богословско-философский комментарий
В этом афоризме (9) Евагрий Понтийский раскрывает динамическую, живую и самовозрастающую природу духовного ведения (гносиса). Он представляет гносис не как статичный объект или сумму знаний, а как благодатную силу, которая, будучи принята и сбережена, сама становится внутренним учителем и проводником на пути к Богу.
1. Гносис как живой дар, требующий хранения
Евагрий начинает с условия: «ведение, будучи сохраняемым (συντηρουμένη)». Гносис – это не неотъемлемая собственность, а хрупкий дар, который нужно бережно хранить, как драгоценность или огонь светильника. Как именно? Ответ дан в предыдущих главах «Гностика»: через непрестанный аскетический подвиг, через стяжание негневливости, милосердия, терпения и гармонии всех добродетелей. Сохранение гносиса – это, по сути, сохранение чистоты и безмолвия ума (ἀπάθεια и ἡσυχία), которые являются сосудом для этого божественного дара.
2. Гносис как внутренний учитель
Парадокс и глубина мысли Евагрия раскрываются далее: это сохраненное ведение само «учит» (διδάσκει). Происходит удивительная инверсия: сначала подвижник трудится, чтобы сберечь дар, а затем сам дар начинает трудиться в подвижнике, наставляя и ведя его. Это описание подлинной синергии – совместного действия человека и Божественной благодати.
Евагрий подчеркивает, что гностик не «обладает» знанием, а «сопричаствует» (μετέχει) ему. Он не хозяин этого дара, а его участник и носитель. Он живет в пространстве этого божественного света, и этот свет сам начинает освещать ему дальнейший путь.
3. Динамика духовного роста: Сохранение и приумножение
Чему же учит гносис? Двум вещам.
Как ему самому сохраниться (διαφυλαχθῇ). Благодатное ведение, укоренившись в душе, дает подвижнику духовный инстинкт, или рассуждение (διάκρισις). Он начинает интуитивно чувствовать, что вредит его чистому состоянию (например, гнев, тщеславие, праздные разговоры), а что его питает (молитва, безмолвие, милосердие). Как здоровый организм сам отвергает вредную пищу, так и духовно здравый ум, просвещенный гносисом, отвергает страстные помыслы.
Как ему продвинуться к большему (ἐπὶ μείζονα προέλθοι). Гносис по своей природе не статичен. Он всегда стремится к расширению и углублению, от славы в славу. Эта идея полностью соответствует концепции ἐπέκτασις (бесконечного восхождения) святителя Григория Нисского. Поскольку Бог бесконечен, познание Его также не имеет предела. Сохраненное ведение открывает перед умом все новые и новые горизонты: от созерцания логосов творения (φυσικὴ θεωρία) к трепетному созерцанию Самой Святой Троицы (θεολογία).
Мысль Евагрия можно выразить так: непрестанный аскетический подвиг позволяет обрести подлинный духовный опыт, который, в свою очередь, дает силы и мудрость для дальнейшего подвига и еще более глубокого опыта.
Спираль восхождения
Афоризм Евагрия описывает духовную жизнь не как линейное движение, а как восходящую спираль. Усилие человека по сохранению дара встречается с действием самого дара, который научает человека и поднимает его на новый виток. На этом новом уровне требуется еще более тонкое хранение и бдительность, что, в свою очередь, открывает доступ к еще «большему» ведению.
Это учение о живом, самообучающем знании – квинтэссенция мистической педагогики. Оно показывает, что конечная цель духовной жизни – не просто стяжать добродетели или знания, а войти в такое состояние, когда Сам Бог через Свою благодать становится Учителем, Хранителем и Проводником души на бесконечном пути к Нему.
10. Пусть гностик уразумеет (nestakkal), [что] во время, когда он толкует (mpaššeq), он должен быть свободен от гнева (rugzā), злопамятства ('aktā), печали ('āqtā), а также от страстей телесных и [суетных] забот.
Вариант с пояснениями (раскрывающий смысл):
Пусть созерцатель поймет, что в тот момент, когда он наставляет [других], он должен быть свободен от [страсти] гнева, от злопамятства, от [мирской] печали, а также от телесных страданий [вызванных страстями] и от суетных попечений.
Филологический и богословский анализ (на основе сирийского текста)
Этот афоризм – своего рода «устав» или «кодекс чести» для духовного наставника в системе Евагрия. Он переносит фокус с содержания учения на состояние учащего, утверждая, что чистота источника определяет чистоту потока.
1. (nestakkal yāḏo'tānā) – «Пусть гностик уразумеет/поймет»
Афоризм начинается с призыва к разумению. Гностик должен не просто знать это правило, а глубоко понять его необходимость. Это не внешнее предписание, а внутренний закон духовной жизни.
2. (b-zabnā d-mpaššeq) – «Во время, когда он толкует/наставляет»
Глагол (pšaq) означает «толковать», «объяснять», «интерпретировать». Это указывает на роль гностика как экзегета – толкователя Писания, логосов творения и духовных состояний.
Евагрий акцентирует внимание на самом моменте (b-zabnā) учительства. Это критическая точка, требующая максимальной духовной трезвости.
3. Перечень страстей, от которых нужно быть свободным
Евагрий перечисляет ключевые страсти, которые напрямую искажают процесс учительства. Этот список – практическое применение его учения о восьми главных помыслах.
(rugzā) – Гнев (ὀργή). Как было сказано в гл. 5, гнев ослепляет ум. Учитель в гневе передает не мудрость, а свою страсть, его слова становятся «мечом, а не елеем» (Исаак Сирин).
('aktā) – Злопамятство (μνησικακία). Это более глубокая и укоренившаяся форма гнева. Она отравляет сердце и делает невозможным учение о прощении и любви.
('āqtā) – Печаль (λύπη). Имеется в виду мирская, бесплодная печаль, которая переходит в уныние (акедию). Унылый наставник не может передать радость богопознания; он заражает своим отчаянием.
