Змий. Часть II
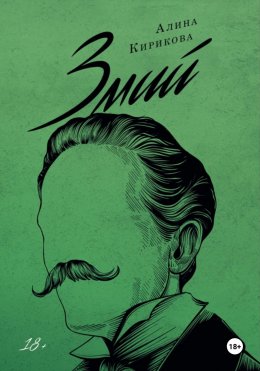
3 Décembre 1824
Сегодня закончился наш с Марией «медовый» период. Многое переменилось с тех пор, как мы поженились. Полностью пересказывать месяцы супружеской жизни не стану, о них, быть может, раскроется впоследствии, но выделить общее настроение нашего брака мне бы хотелось. Сказать, что мы с супругою стали ненавидеть друг друга, значит, не сказать ничего. Мы настолько разъединились, что начали жить вдалеке друг от друга. Я часто ночевал в парижской квартире или уезжал на юг, а Мария проживала либо у себя на даче, либо у меня – они по соседству. Соединились мы только перед возвращением в Петербург, но и то не по желанию, а потому, что вынуждены были ехать в одном экипаже, потому что нельзя было вернуться раздельно.
На пути в Россию мадам де Вьен то и дело бросала мне в лицо обрывки грубых фраз, но я старался не слушать ее, все время проглядел в окно на тяжелые тучи, гонимые ветром. Пока мы ехали, погода становилась хуже и хуже, а при подъезде к городу вовсе не на шутку разбушевалась, принялась выкорчевывать деревья и заметать путь наш метелями. Но я не останавливал экипаж и настырно приказывал лакею гнать быстрее и быстрее на любых лошадях, поставив себе в цель отдать Мари Растопшиной, чтоб она ей нервы трепала, а не мне.
– Лошадей твоих дорогущих оставили на постоялом дворе, кто теперь за ними поедет?! Так торопился отделаться от меня, что даже коней своих любимых бросил! – возопила супруга, когда мы входили во дворец на Английской.
– Замолчи уже, наконец! Покоя всю дорогу не было от тебя! – устремившись к лестнице, взрычал я, дернув руками.
– Ты еще кричать на меня смеешь! Ты из меня все нервы вытряс! – сбрасывая верхнюю одежду в руки лакеев, завизжала Мария, подымаясь следом за мною. – А! Ты небось думаешь, что мне с тобой жизнь была манной небесной, да?! Да ты самый отвратительный муж на свете, чтоб ты знал!
– Напомню, милочка, что я не жил с тобой! Не завирайся и не путай меня с кем-то другим! – стремительно развернулся я на мадам де Вьен и колко глянул на нее.
Мария замолчала и сделала шаг вниз. С тем я продолжил свой путь, направляясь в гостиную.
– О! Теперь ты еще задумался о том, чтобы меня ударить?! – выдумала супруга. – И что ты там сказал, повтори-ка?! Ты сказал, что я завралась, перепутала с другим?! Милочкой назвал?!
Толкнув двери, я увидал целое собрание почти тридцати человек.
– Мы гостей не ждали, – бросил я, проходя мимо толпы в сторону своей комнаты.
– Тетушка! – как ни в чем не бывало развеселилась Мари, бросившись с объятиями к г-же Растопшиной.
– Извините его, господа… – залебезил старый князь, выйдя за мною, и, пройдя до самой моей комнаты, вновь вступил: – Адольф…
– Что?! Что вам еще нужно?! – возопил я. – Не подходите ко мне, вы же видите, я в бешенстве!
– Просто послушай…-те, Адольф!.. Столы накрыты… мы решили устроить сюрприз!.. Прошу, вернитесь к гостям…
– Пресмыкаетесь хуже!.. – не договорил я, брызнув слюной. – Гости ваши, вы их и кормите, а меня оставьте в покое!
Хлопнув дверью пред отцом, я бросился на диван и, закрыв лицо подушкой, пролежал так порядка двадцати или тридцати минут, пока ко мне не постучался слуга. Порывисто раскрыв двери, я увидал трясущегося от страху Ивана, а позади него Альберта, одетого при параде, в генеральскую форму. На груди Керр блестели разные медали и ордена, а плечи увеличивались новенькими эполетами с толстою бахромой.
– Вас дожидаемся, ваше сиятельство, – взволнованно пикнул старый слуга, скрывшись за Керр, который, казалось, стал вдвое выше, вдвое мощнее, но притом вдвое худее.
– Мы подойдем, – грузно вздохнул Альберт, и Иван поспешил скорее оставить нас.
– Вы живы – это лучшее событие в моей жизни, Альберт Анатольевич. Вижу, вас повысили. Поздравляю с новыми заслугами, – дежурно произнес я.
Обняв меня и утешительно похлопав по плечу, Керр предложил выйти к гостям. Но все-таки мы долго не выходили. Многое хотелось сказать, спросить, но разговор не шел и даже казался неуместным в нынешних обстоятельствах. Мы замечали, что оба несчастны, и говорить об этом было бы глупо.
– Возмужали, – заметил Керр, сжав мою руку.
– Вы про усы? – пошутил я, пригладив кончики.
Альберт не ответил, но смутился. Меж нами явилось нечто неловкое, как бывает между родственниками, которые многое друг о друге знали, но не виделись вот уже лет двадцать и не понимали, как теперь, владея тайнами, спокойно и без стеснения говорить.
Когда мы вышли в столовую, все уже расселись по своим местам. За столом были даже те, кого я никак не ожидал увидеть: Елизаровы, г-н Лебедев, Ольга Алестеровна и Лале, которую, к слову, уже звали не Лале, а Вильгельмина Розенбах. Имя новое papillon шло, учитывая, что ни молодецких розовых щечек у ней больше не было, ни веснушек, волосы у ней являлись уже не золотыми, а блеклыми коричневыми, сглушился у нее и голосок, пропала улыбка и исчез персиковый оттенок кожи, он словно потерял жизнь. Эта «Вильгельмина» стала для Лале болезнью, которая высушила ее, сделав втрое тоньше, выгнав из тела пластичность и радость. Прежней легкой Лале больше не было, вместо нее сидела злая, худая змея с вымуштрованным прямым станом. Змея эта, несмотря на свою несчастливую жизнь, радовалась моему несчастью, как благословению свыше. Г-жа Павлицкая тоже была на редкость истощена, она с опаскою глядела на дочь, страшась сказать той лишнее слово, и со страхом посматривала на зятя, боясь при нем сделать неверное движение. Розенбах же, напротив, словно испив последние силы из своей супруги и тещи, заметно раздобрел. Не сказал бы, что стал он полным, но весу поднабрал и округлился.
Среди прочих были Девоян. Ежели бы Констанция не стала б невестою Артура, армянское семейство и носу бы не показало в моем особняке. Пришли и Верденштайн. Себастьяна, как я понял из многочисленных, зачастую сумбурных разговоров, пророчили в женихи Арине Растопшиной, которая, между тем, уже пребывала в драгоценностях, видно, подаренных будущим мужем. Луиза и Рихард фон Верденштайн, конечно, ни за что в жизни бы не согласились на подобное родство, несмотря на вес и древность рода князей Растопшиных, но в сложившихся обстоятельствах они не имели никакого права выбора – сын их выглядел больным. Причем Себастьян являл собою фигуру не просто больную какою-нибудь простудой, излечимой завтра, он был опиумным зависимым или, чего хуже, объевшимся Бариновского глюкоина из грибов. Белки глаз его были серыми, взгляд мутный и пустой, лицо впало и мертвецки побледнело, веки были опустившимися и несколько синеватыми, словно тот не спал несколько месяцев сряду. Впрочем, Арину нимало не смущала слабость будущего мужа, напротив, она была бы даже рада, ежели сразу после свадьбы он бы вовсе умер, оставив ей свое богатство.
Г-жа Елизарова являла собою физиономию, уверенную во всех своих направлениях, что бы она ни сказала и что бы ни сделала. Пребывала княгиня в синем платье, в том самом, куда я когда-то положил записку с признанием в любви. Чувства мои сохранялись к Елизавете Павловне на протяжении долгого времени, пока был во Франции. Все лето только и делал, что думал о ней, вспоминал благостные моменты, которые, как мне казалось тогда, на даче, не ценились мною вполне. Теперь же, за столом, поглядев на княгиню, я устыдился того, что было меж нами, но не благостным прошлым стыдом, а стыдом повзрослевшего молодого человека, которому было очевидно, что над чувствами его только-то насмеялись. Казалось мне так потому, что г-жа Елизарова действительно улыбалась, но не радушно, а именно насмешливо, как глумилась бы всякая светская львица над неопытным мальчишкою, впервые влюбившимся. Невооруженным глазом было видно, какой вес в обществе возымела Елизавета Павловна. Ежели раньше г-жа Елизарова была просто красавицей, женщиной разорившегося, но когда-то богатого князя, то теперь она была настоящей светской львицей, которую боялись и уважали, давали ей денег за просто так и видели в ней много перетерпевшую героиню. Всякое движение княгини было вольно, слово остро и подчас неосторожно, но, впрочем, не как у Розенбаха.
– Смотрю, супружеская жизнь вас вконец измотала, Адольф! Что же, Мария вам оказалась негодной супругой? – с усмешкой вставил Феликс, подначивая расхохотаться своих родителей и Вильгельмину (Лале).
– О! Ваше время еще не пришло, не спешите радоваться. С такой супругой, как Лале Эрдем, вы и не так взвоете. Она вам еще учудит, помяните мое слово. Прекрасно помню, какие феерии она крутила передо мною у Елизаровых на сеновале, – процедил я, заставив зал замолчать, одним Державиным было забавно, Алекс почти захрюкал от смеха.
– Вот оный – знакомый всем, наш милый князь! Законодатель настроений! Как же мы жили-то без вас! – с вологодской выговоркой вставил г-н Державин, дергаясь и подпрыгивая со смеху.
– А вы знакомы, правда же? – лукаво проявился Алекс. – А чего я удивляюсь? Адольф у нас известный…
– Ох эти французы! Почти сошла с ума, живя в этой треклятой Франции, чтоб она сгорела, чтоб все там перемерли! Это вам не наше общество, это вам не наши театры, не наш великий и могучий! Ходишь себе, картавишь жабою, о сырах говоришь крысою, скромненько одеваешься мышкою, чтоб за своего сойти! Вроде Франция – законодательница моды, а сама хуже жалкого клопа! Уму непостижимо, как с таким чахлым образом жизни французы еще живы?! В ресторациях едят по травинке, пьют по росинке, грызут полсухарика и рады! – вульгарно рассмеявшись, злобно выплеснула Мария.
Подскочив из-за стула, я оскорбленно вытянулся. Перепираться ни с кем мне не хотелось, так что, смело развернувшись, я пошел себе спокойно из столовой.
– Ненавижу, – войдя в красный кабинет, злобно прошипел я, но, сев на кресло перед окном, угомонил порывы.
Кого я ненавидел – неясно, то ли Елизавету Павловну, то ли общество в целом, то ли супругу, то ли самого себя за то, что натворил кучу ошибок, не мог сам жизнью управлять, а лишь подчинился течению времени, которое меня вынесло в заслуженное болото. Осмотревшись так, словно впервые видел свои же интерьеры, я на секунду замер, затаив дыхание. Впрочем, скоро снова стало все равно и на картины, и на пестрые шторы, и на расписной потолок, я уставился в окно – была настоящая зима. Правый берег, стрелка, левый берег под моими окнами пребывали застывшими и скользкими, одна черная Нева бушевала, вздымалась и бурлила, как при сильном ветре, хотя его вовсе не было. С серого неба спадали легкие, кружащиеся осколки снега. Все пребывало точно вымершим, опустелым, безжизненным. Было видно, как на улице холодно, туда не хотелось, но так же было холодно в моей душе, в которую тоже не хотелось углубляться, чтоб не окоченеть. Нева, эта черная глубокая вода, была тем же самым в Петербурге, чем была кровь в моем опустелом существе.
Позвонив в колокольчик, я просил слугу принести мне чаю, сахару и плед. «Хотя бы чаем согреюсь», – подумал я, ухмыльнувшись тому, что кипятком надеялся оживить оледенелую душу. Скоро принесли поднос с чаем, но вместе с тем вошла и жена моя.
– Ты что такое о себе возомнил?! – влетела Мари, начиная выяснять со мною отношения, но я смолчал. – Слышишь, нет?! С тобой говорю! Ты обязан вернуться! Гости ждут!
Лакей испугался крику и, дрожа да пряча глаза, быстро расставил принесенное и вылетел от меня.
– Купил тебе особняк на Моховой, обустроил его. Va t’en (Убирайся), – мерно ответил я, принимая, наконец, свой чай.
Налив напиток в кружку, я добавил сахару и размешал ложечкой. Чай еще не был хорошо заварен, являлся чуть мутным кипятком, но мне было все равно, хотелось скорее согреться.
– Что?.. «Va t'en»?.. – тихо переспросил мадам де Вьен, но стоило появиться моему отцу и Альберту, она тотчас показательно взвизжала: – Ты прогоняешь меня? Прогоняешь беременную женщину?! Вот как низко ты пал! Ничтожество – твое название! Терпеть тебя не могу, змий! Лучше бы ты умер тогда, на даче! Чтоб ты умер, гадкий человек, змий! Змий проклятый!
– Va t'en, – так же размеренно и по слогам переповторил я. – О вещах твоих еще во Франции распорядился. Здесь, со мною, ты жить не будешь.
Завизжав, Мария бросилась вон, за нею выскочил Эдмонд де Вьен, а Керр сел на кресло рядом со мной.
– Не принимайте близко к сердцу поведение мадам де Вьен. Она беременна. Слышал, что беременные часто раздражаются…
– Не говорите мне о ней, – прекратил я, меняя тему. – Переживал, что вас… что вы не вернетесь с Кавказа. Расскажите про свое житие, вас бы послушал с удовольствием.
– Пожалуйста, говори же мне «ты», милый князь, – все, что сказал Керр, надолго замолчав и нахмурившись.
Несмотря на то, что Альберт не произнес более и слова, лицо его было весьма красноречиво: нередко брови нервно вздрагивали, уголки губ тянуло вниз, лоб сжимался на переносице, ломая межбровье на две глубокие морщины. Лицо его выглядело постаревшим и серьезным, прежняя доброта как-то совсем скрылась под занятой, испитой гримасой. Светлые усы Альберт больше не правил вверх. Он грубо отстриг им кончики, ровно там, где заканчиваются уголки его теперь сжатых, злых губ. Усы князя как будто обрывались на полуслове и недоговаривали, не сливались в общую фразу с бакенбардами, которые являлись не аккуратно уложенными, как прежде, а почти растрепанными. Было видно, что Керр перестал следить за собою либо забывал следить, но не из-за дел, которые его отвлекали, а из-за отяжелелости души, она была ему камнем, непосильной ношей. Казалось, дай Альберту ружье, он с удовольствием просверлил бы себе дырку, ежели бы знал, где камень этот, эта нестерпимая душа находится. «Как все несчастливы, серы и молчаливы», – осознал я, кивнув на эту мысль.
– Ты не подумай, не скрытен с тобой, – спустя значительное время молчания вдруг вступил Керр, продолжая наш незаконченный разговор. – У тебя у самого неважно сложилась жизнь, ты не в силах слушать о моих невзгодах. Не хочу обременять тебя ничем. Да и знаешь ты все: я так и не полюбил никого в жизни, не встретил родную душу. Одной войной услащен не будешь! Хочу любить женщину, хочу дарить ей свою любовь бескорыстно, ничего не получая взамен, но любить желаю именно свою женщину, понимаешь меня? Размениваться на случайные связи не собираюсь… Всегда полагал, что свою женщину узнаю со спины, встретив ее нечаянно, неожиданно, в толпе… Но, видно, мои ожидания оказались ничтожеством. Душа моя страдает, ее будто отделили от половины, она будто неполноценна без кого-то особенного, без второй своей части, и не может жить дольше положенного времени одна. А положенное время приближается. Каждый день чувствую близость смерти, слышу ее шаги. Есть лишь один вариант спастись – встретить ту единственную, но я, видно, не так хорош, раз Бог решил оставить меня умирать в одиночестве. Видишь? Расстроил тебя. Не стоило говорить.
– Нет, хорошо вас понимаю, – задумался я и хотел было продолжить разговор, но тут вошел отец и объявил, что гости оскорблены и разошлись, а Мария приведена в себя и никуда не поедет, что на завтрашний субботний вечер у Девоян мы с ней обязаны явиться вместе.
Эдмонд де Вьен не давил на меня, хоть и говорил из отцовского тона, но притом везде добавляя «пожалуйста». Меня поражало, насколько переменилось наше общество за мизерный, абсолютно невинный промежуток времени, как жалко теперь выглядит мой отец, как он суетен. Присоединившись к нам, старый князь потребовал самовара и сладостей, ожидая которых, мы только вздыхали и молчали. Тишину хранили отнюдь не потому, что не о чем было выложить житие свое и планы, напротив, всякого накопилось, и это самое всякое было тяжело. Самовар долго не несли, время плыло медленно, почти замирая на месте. Пару раз я взглядывал на часы и замечал, что они показывают все те же минуты, хотя мне же, напротив, казалось, что по всем расчетам должно уже было пройти хотя бы минут пятнадцать. Но скоро я бесцельно задумался и не заметил даже, как стемнело.
Когда нам приготовили вечернего чаю, Эдмонд де Вьен поведал, что восемнадцатого мая казнили г-жу Уткину, или, как ее по-другому оказалось величать, Марфу Емельяновну бесфамильную. Прокуратура выяснила, что Марфа Емельяновна, женщина пятидесяти восьми лет, энное количество лет назад была слугою при ослепшей старой княгине Крушинской Дарье Матвеевне. Когда дочь г-жи Крушинской, она же Анна Сергеевна, тяжело заболела, Марфа ухаживала за нею, пока не отравила ядом. Выкрав документы княжны, Марфа стала Анной и вскорости отравила саму Дарью Матвеевну, полностью завладев особняком Крушинских. На суде и казни, рассказал старый князь, присутствовала почти вся знать. Г-на Уткина и Татьяну приволокли на действо насильно. Дмитрия Павловича лишили всего: дома, чина, земель, изъяли последние деньги и коллекции. Сын г-на Уткина, Дмитрий Дмитриевич, коего наказали в точности, как и его отца, сначала проживал по товарищам, затем переселился в какой-то подвал, где у него скоропостижно умерла и жена, и маленький грудной ребенок. После казни Марфы Емельяновны Дмитрий Павлович и Таня перебрались к Елизаровым, взяв с собою лишь Бонифация – это все, что им разрешили забрать.
– Девочка мучилась недолго. После казни она прожила всего пару дней. Двадцать первого Таню нашли в комнате – она повесилась на дверной ручке, – закончил Эдмонд де Вьен.
– Как! – поразился я. – Не может быть!
– Вот так… Чувствую себя виноватым… – признался старый князь.
Так в голове все встало на свои места: репутация «пострадавшей» г-жи Елизаровой и папашина совесть, которая не дает ему покоя. Пока шло повествование, Альберт молчал, но в самом конце заметил: «смерть этой девочки не столь важна, как следствие, то есть то, отчего она повесилась, это до сих пор не раскрытый набор тысячи причин. Не одна только Марфа, то есть Анна Сергеевна, замешана в этом отравлении, но и другие. Пособников у нее множество, и уверен, Бариновы среди них тоже есть». Отвечать ни я, ни старый князь не стали. К стыду своему замечу, хоть показательно я и согласился с Альбертом, но по большому счету, в глубине души мне было абсолютно все равно. Даже жалости, к сожалению, не смог испытать вполне – было холодно, зябко, тошно… «Бедная Таня», – то единственное, что пришло в голову и так же исчезло из нее, не оставив и следа.
Когда отец и Керр ушли, я долго не мог уснуть, ходил по дворцу, по этажам, словно знакомясь со всем заново. Особняк был пропитан холодом, от паркета тянулся дух сырого дерева, из комнаты в комнату блуждал зимний ветер. По настроению дом соединялся со мною, он был такой же безупречный и красивый снаружи, но холодный, одинокий и почти погибший внутри. Спустившись вниз, я рассмотрел давно знакомые картины, тусклые шкафы, послушал стук домашних часов, что, как сердце, еще исправно отбивали ритм умирающего организма.
В картинной галерее пробыл достаточно долго, пока где-то вдалеке не показались тихие шаги. Поглядев в сторону, откуда раздались звуки, я увидал лишь черноту и пустоту, вместе с тем почему-то спугнувшую меня. Будто скрываясь от чего-то или кого-то, я развернулся и решительно взошел наверх. Шаги, казалось, не прекращались, но я боялся оборачиваться. Заскочив внутрь деревянного кабинета, я живо заперся и затих, вслушиваясь в немое пространство. Вскоре сердце мое угомонилось, я спокойно выдохнул и уселся в кресло. Стоило зажечь свечу, как она тут же потухла, словно кто-то нарочно ее задул. Повторив попытку, я облокотился и пригляделся: огонек неистово колыхался в разные стороны, коптясь чернотою. «Нет, нужно чем-то себя занять, иначе с ума сойду», – подумал я, зацепившись взглядом за переполненный ящик писем. Тогда огонь свечи замер, словно подсказав, что именно в посланиях этих кроется нечто важное, что многое бы разрешило. Половину писем сжег прямо на столе над блюдечком, другие – в камине. Записки были поздравительные к нашей с Мари свадьбе. Даже Баринов не удержался и написал своим психическим почерком одно слово «поздравляю» на большом листке бумаги. Так я добрался до письма, перемотанного белой ленточкой. «Интересно», – озадачился я, вертя сверток в руках. Стоило развязать ленту, как огонек вновь затрепетал, то вытягиваясь, то уменьшаясь, то шатаясь в мою сторону, то от меня, все так же дымя чернотою и шипя воском, как змея. Послание раскрыло передо мною знакомый детский почерк:
«Доброго дня… или вечера(?), милый князь. Ежели вы читаете сие послание, значит, все уже случилось. Решение о том, что я сделала, далось мне нелегко; я даже передумывала несколько раз, ибо мне было страшно, ведь там только неизвестность… А неизвестность меня пугала… я очень не хотела умирать… или хотела (?)… да, я не хотела, но жить с грузом на душе я не смогла бы… У меня не было выбора, к тому же я заранее решила для себя, еще задолго до предприятия, что сделаю это.
Милый князь, я должна вам рассказать, наконец, о том, что вы были важнейшей частью огромного плана, приготовленного еще задолго до того, как вы приехали к нам. Пока вы были во Франции и жили спокойной жизнью, в 1820 году начался процесс раздела вашего имущества. Заговорщики принимали участие в ожесточенном бою за право морально задавить вас, разорвать ваше состояние на части, некоторые даже намеревались толкнуть вас под карету – за это выступала Анна Швецова. В спорах не участвовал только мой папа, которого мама травила усыпительными. Иногда, когда проходили собрания заговорщиков, я не выдерживала и выходила из комнаты. Думала разбудить папу, отыскать в его лице поддержку и заступника, но он не просыпался и храпел с шести вечера до двенадцати часов следующего дня. Не знаю, что мать давала папе, но после ее «шесть о’клок» отец стабильно засыпал. Впоследствии папа стал ужасно рассеян, неопрятен, забывчив и глуп, хотя до плана я такого не наблюдала за ним. Мне наверняка известно, что усыпительные сыворотки маме давал Лев Константинович Баринов, а делал их его сын Миша. Прочими заговорщиками были Девояны и Швецовы.
Началось все с того, что ваш отец, уж не знаю как, но отобрал имения у названных, а у моего папы рудник. Обозлившиеся решили, что вашему отцу нужно отмстить. Месть они видели в том, чтоб насильно женить вас на мне, считали, что вы глупый и слишком мягкий человек, что с состоянием вы не справитесь, и, когда мы поженимся, стоит лишь немного надавить, как вы отдадите назад даже больше, чем надо. Сводничеством меня с вами взялся заниматься Мишель Баринов, он сказал, что знает, кого нужно подговорить, чтоб напороть вас на наш план. Сперва мне было даже смешно, я понимала, что он не ваш друг, но когда увидала, что вы действительно всячески стали примыкать ко мне, то удивилась… ведь где – я, а кто – вы?.. Для меня вы недосягаемы.
Когда вы были у нас на визите, скажу вам, что каждое мое слово и каждое действие было не моим. Все было прописано мамой в сценарии, который я должна была заучить. То есть и история о том, как я испортила картину, и сама картина – все это было продумано еще задолго до встречи с вами. Мама знала, что вы заметите подделку, и была уверенна в том, что вы по душевному благородству возьмете картину (даже нарочно разорванную) на реставрацию… Единственное, что было не по плану на том вечере, – мой романс «Не обмани». Его я подобрала специально, чтобы воззвать вас к совести.
В театре должны были поползти слухи о нашей женитьбе. Как только не предупреждала я вас: и свою первую записку вам написала, подкинув в мороженое (то письмо, которое пришло в рулоне ткани с картиной, писала не я, оно мамино), и за руку схватила, когда вы рванули на выход. Все были разозлены, что вы побежали за Марией, это не входило ни в какие планы, так что мама еще долго после того бесновалась, и, пока вы были на даче со своими друзьями, придумала пустить слух о «дырявой перчатке».
Когда вы мне рассказывали о плане по спасению Агнии, я все думала о вас: «как добр этот человек, как благороден и чувственен, но почему же он не видит, что сам находится в змеиной яме?» Мне было грустно за вас, я плакала каждую ночь, молилась Богу и даже пыталась уговорить маму покончить с этим делом, но она так накричала на меня за эти слова, что делать было нечего, я играла дальше.
На даче г-на Елизарова я должна была стать вам заменой Мари. Мама постоянно поучала меня, как себя вести, что говорить, снова экзаменовала, но я решилась поступать по-своему и начала вас избегать, а потом устраивать истерики. Так же я подговорила Лале. Видела, что вы понравились княжне, и решила это использовать – рассказала ей всю ситуацию, прояснила детали, так что Лале тут же согласилась стать вашей подругой. Правда, Лале скоро предала наш план и сказала мне, что выходит из игры, что теперь она сама по себе и будет вести свой план.
Благо, что тетушка и ваш отец вовремя сообразили другое предприятие. В тот день, когда Елизавета Павловна и ваш папенька диктовали Лебедеву письмо для Растопшиных, я была в соседней комнате и все слышала. Вероятно, теперь вы подумали, мол, как так, родная тетя была против свадьбы племянницы с удачно подвернувшимся богатейшим женихом? Отвечу вам по секрету: Елизавета Павловна была против женитьбы моего батюшки на маме и меня не любила никогда; до десяти лет я даже не знала, что у меня есть тетя… ну как не знала, то есть знала, но не видела ее, она не приходила к нам домой и упорно игнорировала наше существование.
Начавшийся суд меня не удивил, равно как и заключительное следствие. Однажды я подслушала, как Миша Баринов разоблачает маму и называет ее «Марфа Емельяновна», так что все последующее меня нисколько не удивило; мне было жаль папу – он добрый, славный человек… он чем-то похож на вашего друга, на Альберта Анатольевича. Только г-н Керр ко всему тому же еще со стержнем, а мой папа без стержня… он, как глина – лепи, что хочешь. Простодушный, как дите, поверит чему угодно.
Не знаю, как теперь вы живете с Мари, до конца вашу княжну так и не поняла… Надеюсь, что в ваших с ней отношениях все хорошо и вы счастливы. Но я не уверенна в том, что она вас любит, у ней какие-то другие идеи, чувства и планы на вас. Не в обиду к вам будет сказано, но я часто замечала, что Мария и Миша проводят время вместе. Каким бы ни было мероприятие, где я видела их или слышала о них, будь то званый обед или кружок, они всегда уединялись.
Простите всех, милый князь. Помните, что всякая история должна заканчиваться хорошо. Любовь и добро должны побеждать зло. Месть лишь порождает новое, еще худшее зло, но не побеждает его, не порабощает. Вы, разумеется, вправе поступать так, как вам угодно, но все-таки я бы попросила вас прислушаться к моему совету…
Но мама моя, Адольф, вот что еще хочу сказать, клянусь вам всем, она не виновна, не она вас отравила! Мама была все время со мной. В тот вечер, перед вашей свадьбой, я спала у ней в комнате, мы говорили о вас, но не плохое. Да, не скрою, сначала мама злилась, жаловалась на тон на ваш, меня укоряла в том, что я не могла сдержать плана и все испортила безалаберностью своей, но потом она сама же во всем раскаялась и заплакала. Мы вместе плакали и обнимались. Вместе вас жалели. Адольф, поверьте мне, пожалуйста, что сплю я чутко и от мамы не отходила утром. Нас даже приготовляли в одном будуаре, и тем утром у нас была настоящая семейная идиллия. Не она вас травила! Не она! Услышьте меня! Не моя мама вас травила, клянусь вам!
И… пожалуйста, помогите моему любимому папе. Я знаю, он впадет в отчаяние, когда узнает… но все-таки он должен жить и быть счастливым. Помогите ему обрести надежду… это все, о чем я прошу… это последнее.
Люблю вас, Адольф, и, так скоро погибая, я думаю только о вас, надеясь, что вы не оскорбитесь ни моим письмом, ни моими признаниями, в том числе любви. Я не хочу вызвать в вас сочувствия, жалости, злости или вины. Моя душа будет покойна тогда только, когда вы будете счастливы. Пообещайте, что вы будете счастливы?.. Искренно желаю вам счастья, пусть ангелы оберегают вас… пусть Господь поможет вам в вашем творчестве, посылая вам вдохновения. Ваши картины – это лучшее, что могло произойти в наш несчастный, лживый век, они, картины ваши, достойны того, чтобы их любили, достойны света, вы достойны признания. Ваш талант – большой дар, непременно развивайте его, не бросайте.
Ваша Татьяна Дмитриевна бесфамильная».
Дочитав письмо, я разрыдался. Когда свеча догорела, я почувствовал на своей руке жжение – то был растаявший воск, слезами скатившийся с опустевшего подсвечника.
4 Décembre 1824
Днем был в церкви впервые после венчания. Случилось это спонтанно. Возвращаясь от отца, выглянул в окно экипажа. Внимание привлекла толпа у церкви, и что-то само потянуло войти внутрь. У алтаря шла литургия, а хор постоянно повторял: «Господи, помилуй». Что-то вызвало во мне саркастичный смешок, я принялся оглядываться по сторонам, как бы выискивая того, кто бы со мною посмеялся. В оправдание свое замечу, что весело мне было не по-настоящему, не от молитвы или голосов, не от молящихся и не от веры их, а от себя самого. Мне вдруг показалось, что я настолько грязен, захламлен пошлым прошлым, что никакая молитва не поможет моему существу, никакая исповедь, никакой батюшка. Тогда же передо мною предстала икона старца, который глядел в мою душу не отрываясь. Казалось, священное лицо печалилось, жалело меня и постоянно вопрошало: «кручинишься, Адольф? Мучаешься тяготами? Чувствуешь вину?» Услышав его вопросы, лицо мое задергалось, ком подступил к горлу. Долго я мужался, держал себя в руках, но скоро не выдержал и разревелся. Недолго старался скрыть плач, прикрывался рукой, но всхлипывания все же прорвались сквозь пальцы. Когда литургия закончилась, ко мне подошел священник, перекрестил меня, обмазал лоб пахучим маслом и по-отечески обнял. «Носи крестик, сын мой. Да прибудет с тобой Господь и избавит от лукавого», – сказал батюшка. От этого священника веяло безмерной добротой, чистотой и сверхъестественной энергией, кроме того, он показался мне невероятно красивым, самым настоящим ангелом, сошедшим с небес. Хотелось обнимать батюшку бесконечно, питаться его благодушностью, но в то же время я чувствовал, что не смею требовать больше, чем мне было дозволено получить в настоящий момент. Когда священник отошел от меня, я вдруг поразился: «это был тот самый лик с иконы, господи!» Тогда же, оглядевшись, не заметил никакого священнослужителя, но обрамленное в золото лицо иконы уже будто улыбалось мне, в нем не было прежней печали.
Выйдя на улицу, твердо решил заказать памятник на могилу Татьяны, а также отыскать свой крестильный крестик и носить его всегда. По пути к скульптору нарисовал графиню Фемидой. Правая рука Тани указывала пальцем как бы на виновного, несколько вперед и вниз, левая удерживала в руках весы, а за спиною ее раскрывались пышные крылья. Скульптор сказал, что постарается сделать Татьяну за два месяца, а также просил приезжать на неделе проверять работу.
Вернувшись в особняк, сразу начал приготовления к Девояновской субботе. Встретился с супругою только поздним вечером, когда спускался к экипажу. Мария выглядела замечательно в новых нарядах, я не удержался и сделал ей комплименты, на которые она лишь фыркнула. Следом хотел заговорить о беременности, но стоило мне поднять тему, как мадам де Вьен пронзила меня взглядом. «Право слово, уже и о детях поговорить нельзя. Всяко ей не то», – притих я.
– Только посмей с кем-то заговорить о моей беременности! – проскрежетала мадам де Вьен. – Придушу и глазом не моргну!
– Не понимаю, собственно, почему? Глупо скрывать беременность, когда ваш живот слишком заметен, Мария. Считай, вы готовы рожать со дня на день. И чего вы злитесь-то все? Мне уже и слова сказать нельзя.
– Потому что я тебя ненавижу! – закипела Мария. – И церберу своему скажи, чтоб он ни с кем не говорил о вчерашнем между нами с тобой! Только нравоучения научился выстрачивать, а молчать он не научился!.. Это ты его надоумил?!
– О чем вы?
– А ты, бедный и несчастный, прям в неведении?! Вот у бешеного цербера своего и спроси!
– Во-первых, вы слишком грубы. Хватит оскорблять моих друзей и меня. Во-вторых, я действительно не понимаю, в чем дело.
Показательно отвернувшись, мадам де Вьен гневно пропыхтела в окно до самого армянского дома, где к тому времени собрались почти все гости. Перед входом к Девоянам, окинув княгиню скользящим взглядом, я не заметил на ее лице никакого гнева, всю злобу как рукой сняло. В передней нас встретили хозяева вечера. Сначала г-жа Девоян сомнительно на нас посмотрела, перемешивая в своем уже увядшем лице негодование, злость и блеснувшие морщины презрения, но скоро взяла себя в руки и приветствовала по обычаю. Г-ну Девоян, уже не отличавшему одно лицо новоприбывшего от другого, было решительно все равно, кто и с кем пришел. Движения князя выходили механическими, ненастоящими. Артур Девоян, повторивший выражение лица своей матери, замешался и быстро заморгал, точно стараясь тем самым рассеять удивительное видение, но когда мы поравнялись, а Мария кокетливо скинула в руки лакея накидку, обнажая свое роскошное декольте, в глазах Артура заискрилось пошлое вдохновение. Князь даже поклонился мне не как бывшему товарищу, а как высокопоставленному лицу.
– Наш милый князь! – басовой волной прогремел голос Керр, кинувшийся обнимать меня. – Вы пришли! Мы уж думали, что не явитесь.
– Почему это? – удивился я.
– В газетах написали, что вы в монахи подались, по церквям расхаживаете, со священниками обнимаетесь да целуетесь, – явился Розенбах, поднося нам бокалы белого вина.
– Думала, вы намекаете на нравоучительное письмецо, наивно полагая, что из-за глупых наставлений я откажусь явиться! – обращаясь к Альберту Анатольевичу, зашипела Мари.
– Должен же вас хоть кто-нибудь начать воспитывать, – как-то жестоко улыбнулся Керр.
Вдруг зала затихла, гул разговоров резко обрубился. В дверях, где появлялись прибывшие гости, возникла покачивающаяся фигура Мишеля Баринова. Безучастно оглядев присутствующих, князь вперил небесного цвета глаза в меня. Чем ближе хромой Баринов подавался в мою сторону, тем более бледнела Мария, а подошедшая к супругу Лале, то есть Вильгельмина (никак не могу привыкнуть к ее новому имени), нахмурилась, пытаясь сообразить реакцию публики и как себя вести.
– Ну рад за вас, что сказать! – произнес Мишель, крепко обнимая меня и похлопывая по спине.
– Вы как здесь? – удивился я.
– Досрочное за хорошее поведение, – ответил Баринов. – Батька постарался, чтоб тебе скучно не было.
– Усы вам не идут, – проявилась мадам де Вьен, слегка толкнув меня.
– О! Зато вы хорошо подходите Адольфу, ма-дама де Вьена, как ему его усы. Мне уже рассказали, какой у вас счастливый брак! Небось каждый день друг другу театральные представления устраиваете? – бросил Мишель и, потрепав меня за плечо, отошел к Бекетову.
Вскоре показались Елизаровы, которые привели с собою располневшего и поседевшего Дмитрия Павловича. При виде меня Елизавета Павловна вытянулась. Казалось, что ей страстно желалось выделать какую-нибудь пакость, но подскочившие обожатели смешали ей замыслы. Княгиня, как и всегда, была красива и молода. Стоило ей войти, многие стали перешептываться о ее удивительной для своих лет молодости, о том, как утончен вкус ее. Притом всякий глядел на меня, выжидал, что я скажу и как себя поведу. Каждый будто был осведомлен в том, что я когда-то любил Елизавету Павловну, или, по крайней мере, каждый знал, что нас связывало нечто большее, чем несостоявшаяся свадьба с Таней.
После балета гостей пригласили на ужин. Столы расставили по всему периметру громадного зала прямоугольной змейкой. Время я провел, участвуя в беседах с Тригоцкими и Швецовыми, они сидели прямо передо мною. Но вот, когда я, наконец, отвлекся от всевозможных разговоров и впал в отчужденное от мира состояние, заметил, как в противоположной стороне за мною внимательно наблюдает хорошенькая особа. Сперва я не опознал эти кокетливые глаза, но затем вспомнил, что уже видел их сегодня. «Как же так?», – подумал я, – «…где такое видано, чтобы какая-то балерина находилась среди нас, за одним с нами столом? И зачем ее туда усадили, а главное, кто позволил?» Не выдержав моего изучающего взгляда, балерина решила улыбнуться.
– Адольф, куда вы постоянно смотрите? – враждебно насупилась мадам де Вьен, с неподдельным интересом выглядывая за спины Швецовых.
– Вот все думаю, почему балерина сидит с нами за одним столом? – ответил я, зарываясь в смешанных чувствах.
– Она – воспитанница графини П*, – объяснила г-жа Тригоцкая Катерина Михайловна, заговорщически поддавшись вперед. – Сама удивляюсь, как ей до сих пор в ее-то возрасте и невыгодном положении дозволяют шпагаты крутить.
– Это, моя дорогая, что называется, дожили! – отозвался Андрей Георгиевич Тригоцкий. – Во время моей молодости, значится, подобное могло существовать лишь в виде водевиля.
– А я считаю – пусть пляшет, пока есть что показать, – добавил Бекетов, тем самым, по обыкновению, заставляя своего отца поперхнуться едой и закашляться, а Баринова рассмеяться.
– Петруш, ты думай, что говоришь, – твердо вступила мать князя. – Порядочная особа не должна скакать по сценам.
– Какой стыд! – заворчали присутствующие.
– Ну действительно, даже я смутился. Будешь себя так вести, получишь, – добавил Мишель Баринов. – Я, знаете, поддерживаю мнение Адольфа, подобным особам не место в нашем кругу. Ведь это то же самое, что посадить к нам девку с улицы, простите за выражение.
– Так оно и есть, Миш, балерина и девка с улицы – вещи, ничем друг от друга не отличающиеся, – вставил Лев Константинович, смакуя кусочек говядины, обмазанный сладким соусом. – В конце концов, она же для себя самое завела сие создание, вот только почему окружающие должны страдать от чьих-то прихотей – неясно.
– Действительно, почему другие должны страдать от чьих-то прихотей? – прорезалась Мари, с намеком поглядев на меня.
Прекращая слушать дальнейшие обсуждения, я вновь обратился взором на танцовщицу: «в отличие от той же мадам де Вьен, эта хорошенькая балерина ведет себя достойно. И платье у балерины, изготовленное по последней моде, не лишено скромности, и декольте не так глубоко… Но глядит на меня эта балерина не отрываясь! Даже в рот куска хлеба из-за нее взять не могу».
– …Так этот брат ейный, беспредельщик этот, даже генерала ножом порезал, представляете, Лев Константиныч? Неужели не знали? – тихо завел г-н Тригоцкий, когда Розенбах вышел из столовой с родителями и супругой. – Удивляюсь, как его до сих пор не осудили. Уверен, что Эдуард Войцыч порядочно подсуетился за голову подкидыша, какой-никакой, а родственничек все-таки.
– О ком вы, Андрей Георгиевич, простите? – вкрадываясь в разговор, полюбопытствовал я.
– Вы разве не знаете Адема Эрдем? – вопросил г-н Тригоцкий.
– Нет, не знаю, – солгал я, справляясь с мучительной болью каблука мадам де Вьен, ослабившую давление только после моего ответа. – Но история, что вы рассказывали, кажется, очень занимательна.
– Эта семья много шуму навела, в особенности из-за своего больного сынули, – начал повествование Андрей Георгиевич. – Написал я, значится, товарищу своему, генералу Е*, про дела да здоровье узнать, как говорится. Ну и спрашиваю у него, значится, как успехи на службе, выведываю новости, а он мне рассказал, мол, пришел к нему, значится, аж с московским поручением Мехмет Эрдем за сынулю просить, мол, он у меня глубоко образованный и порядочный молодой человек, знает то, се, пятое и десятое, и, значится, возьмите его на службу. Ну генерал Е* человек добрый, тем более армии всегда бойцы нужны, вот он и говорит, значится, приводите своего сынулю, посмотрим, что из него состряпать можно… вот и, что называется, привел молодца! – прервался князь Тригоцкий, жадно отпивая вино. – Так вот, значится, испытания наш молодец прошел успешно, зачислили его, значится, с большим авансом на службу – о, как похлопотал восточный папаша! Но не прошло и трех дней, как этот беспредельщик, он же брат нашей Вильгельмины, навел там смуту. Избил половину роты, значится, солдату какому-то палец откусил и, что называется, на закуску в плечо Е* нож воткнул.
– И что было потом?.. – округлив глаза, изумился мой отец. – Что сделали с молодым человеком?
– Что-что… принес беспредельщик этот свои глубочайшие и никому не нужные извинения, на том, значится, его и вышвырнули. Широких разбирательств не было, потому что, как написал мне Е*, испугались этого больного, что он их потом выследит и перережет, – договорил Андрей Георгиевич. – Думал, что его по-тихому отправили или в Сибирь, или того хуже – на Кавказ… Сами знаете, люди там дикие, места гиблые. А оказалось вона что: устроили его, значится, в допросную потрошителем. Держали его там два месяца, а потом – чу! – моему племяннику Алексею Петровичу подкинули на службу в прокуратуру. Ну, говорю, Алешка, вот тебе и сюрприз от государства, исправляй, значится, и доказывай, говорю, что можешь кого хошь перевоспитать получше отца-то твоего покойного, Петра Алексеича-то, земля ему пухом. И главное, из-за чего драка-то была, знаете, господа? А из-за того, значится, что подкидыша в роте турком обозвали! О как! Дожили! Все, значится, правда все глаза выколола!
Кинув на меня тревожный взгляд, отец закашлялся, это вынудило его ненадолго покинуть стол, а Керр, заметив, что мы с Эдмондом де Вьеном имеем какую-то явную связь с «подкидышем», вновь улыбнулся своей странной, жестокой улыбкой, которая еще прежде мне не понравилась. «Новость будоражащая, никак не ожидал услышать, что Адем вытворит подобное бесчинство… искалечить роту и генерала – немыслимо! Ладно на меня он накинулся за сестру, но на всех сослуживцев да на начальника!.. – проворачивал я в голове. – А улыбка Альберта, кстати, мне не приятна… она жесткая». Не хочу Адема ни обвинять, ни защищать, но замечу, что новость произвела на меня довольно сильный эффект, я был ошеломлен куда больше, чем от записки Тани, о которой, к слову, за весь вечер даже и не вспомнил.
Некоторое время погодя гости дружной змейкой разбрелись по залам, кто-то ушел в бильярд, кто-то изволил слушать музыку в мятной гостиной. Мария попросилась от меня в компанию своих бывших подруг, куда я ее передал с превеликой радостию, и отправился в картежный зал. Там не играл, но употребил голландскую сигару, остальные господа швырялись картами, а фон Верденштайн жаловался Морилье на некую особу. Речь Себастьяна была бессвязной и измученной.
– Nein, фы претстафлять?.. Фы!.. Nein! Зозо застафить! Претстафлять! Mein Gott, этот русский йазык! Она меня застафляла предстафлять! То есть не предстафлять, а зафязать! Окончательно предстафлять! Mein Gott! Зафязать окончательно! – недовольно стонал фон Верденштайн.
– Так и что? По-моему, ваша Зозо более чем права, – возразил Павел Шведов, скидывая карты. – Чрезмерное употребление опиума вредно для здоровья, а глюкоина так вообще… Баринов, ваш тигр сдох, или только с обезьяной не прошло?
– Какой тигр? – возник Державин.
– Что значит какой? Обычный тигр, Алекс, папка мне тигра в Рязань пригнал, чтоб я там не скучал. Эта тупая кошка через две недели мне уже так осточертела, что я начал на ней опыты ставить. Издох Кузя (тигр) уже через два дня. Подсадил ему микробов, которых выводил искусственно, а он взял и помер до противоядия.
– Вы противоядие сделали? Вот это да, правда же?! Вы гений! – подпрыгнув с места, зааплодировал Державин.
– Отстань ты, – махнул рукою Баринов. – Лучше вот что, господа, хотел вам предложить визит к Басицкому. Слышал, у г-на Басицкого должен случиться вечер, и мы всей нашей бывшей кукушкой, пока из нас никто не подох, как Кузя, вполне могли бы собраться вместе, отвлечься, так сказать, от насущных проблем, м-м? – ввернул Мишель. – Только вопрос… и вопрос-то к тебе, де Вьен, отсидеться в сторонке не получится с сигарой в зубах. Ты, вероятно, не намерен продолжать общение.
– Почему же не намерен? Признаю, что между нами уже не те отношения, что прежде, а посему совместное пребывание вместе может доставить атмосфере кукушки массу хлопот и довольно неприятный окрас. Но лично я навестил бы Басицкого.
– Вот и славно, на том и порешали без излишних разбирательств! – вставил Артур. – Мать все нервы мне вытрясла, Адольф, из-за ваших радужных фокусов. Следя за вами, все пытаюсь понять, как можно быть таким своенравным человеком, способным сотворять все, что только вздумается. Вас, скажу честно, на дух не переношу, но притом мечтаю быть вами.
– А чего ему бояться-то? Вон его как жись супружеская доконала, – тихо пошутил Мишель, но я отчетливо его услышал, впрочем, как и другие.
– Михаил Львович, вы опять? – вздохнул я.
– Что? Я молчал! – как бы удивившись, отреагировал Баринов, хлопнув Григория Германовича по затылку. – Грегори, скажи, я же молчал?
– Как могила, – солгал Хмельницкий.
– О, к слову о могилах, ты ходил к Бонифацие, де Вьен? – вопросил Мишель.
Но тут, врываясь в игральную комнату, состоящую из сигаретного дыма и тусклого мерцания свечей, вбежала напуганная балерина. Заперев дверь, танцовщица прижалась к ней спиною и, суетливо оглядывая комнату, старалась скрыть подступившее волнение и унять сбивчивое дыхание.
– Ах, a little bird was flying blithely, abruptly fell into the serpent lightly; he was much starving, and she knows, he wants her, how nobody loves (Порхала пташка столь беспечно, что пала вдруг в змеиное гнездо; голодным был властитель страсти, обвил страстно он ее). – важно прихрамывая к более освещенному участку комнаты, проговорил Миша с похотливым выражением лица. – Что же столь милая birdie (пташка) здесь, среди игр на деньги и дымке свеч, забыла?
– Я!.. Сейчас уйду! Немедленно уйду! Не думала, что вы здесь! Как-то заплутала и случайно сюда попала! – почти пропела танцовщица умоляющим голоском.
– And I thought you forgot your honor and pride here and came to look for, birdie (А я-то думал, ты потеряла гордость и честь, пришла поискать), – все ближе и ближе настигая балерину, прошептал Мишель, выпуская клубы дыма. – What do you think about this, gentlemen? What a cutie! (Что вы думаете, господа? Какая милашка!) Так и хочется поцеловать! Вы позволите?
– Остановитесь, Баринов, противно уже! – поднимаясь с места, вмешался я, выдвигаясь из тени. – Пользоваться невозможностью юной барышни ответить вам – низость.
– Да ладно, она же сама пришла! Или ты и из-за этой меня на дуэль вызовешь? – выгибая бровь, ответил Мишель. – Ну ладно-ладно-ладно! Как близкому другу прощу тебе подобный выпад, так уж и быть.
– Неужели-таки простите? А я уж устрашился остаться в немилости! – язвительно заметил я, протягивая руку напуганной балерине. – Прошу, пройдемте со мною, милая, отведу вас.
– Правильно говорить не «отведу», а «уведу», де Вьен! Доучи русский, чтобы называть вещи своими именами, – раскатисто рассмеялся Мишель. – Нет, вы слышали, господа? Он ее «отведет»… куда, интересно?
Не обращая внимания на последующие разговоры и смелые выпады в сторону воспитанницы г-жи П*, что велись на английском языке, я провел балерину через другой ход, ведущий в промежуточный зал с расписными китайскими вазами, чашечками и тарелочками. Танцовщица не начинала диалог, поэтому я решил заговорить первым.
– Князь Адольф де Вьен, – произнес я, выжидающе взглядывая на балерину. – Сегодня нам посчастливилось познакомиться заочно, помните?
– Александрия П*, – представилась танцовщица. – Да, вы были напротив меня.
– Вероятно, могу полюбопытствовать, как вы вдруг оказались в игральном зале? Заметил, вы были взволнованы. К слову, во мне вы можете не сомневаться, я вас не обижу.
– Знаю, вы не такой, как другие! Вы добры и благородны, – мгновенно переменившись в настроении, закокетничала Александрия. – Г-жа П* желала рекомендовать меня какому-то овдовевшему старику, чтобы потом, думается, выдать меня за него замуж. А я за старика замуж не собираюсь, слишком молода для ударов судьбы! Вот когда овдовею в тридцать с небольшим, тогда и разрешу какому-нибудь старикашке жениться на себе, а пока нет уж!
«Не думаю, что у тебя есть возможность выбора, birdie», – подумал я, после чего продолжил диалог: – Вы представились как П*, вас удочерили? Извините, что сую нос не в свое дело, но лучше расспрошу вас, чем услышу грязные сплетни от сомнительных источников вроде г-на Баринова, что давеча напугал вас излишним вниманием.
– Да, г-жа П* записала меня дочерью, все благодаря моей красоте! – поделилась birdie и, после долгого молчанья, продолжила: – Моих родителей не стало, когда я была совсем малышкой.
– Очень жаль. Понимаю, как никто другой, какое горе вам пришлось пережить. Моя мать покинула этот свет, когда я, как и вы, был еще ребенком… Слышите, кажется, музыка закончилась в мятном зале?
– Да, непривычно тихо! – зачем-то оглянувшись назад, заметила Александрия. – Спасибо вам, что увели меня оттуда! Хоть и не знаю английского, но, думается, тот г-н говорил что-то нехорошее… ой! – призналась birdie, отвлекаясь на полки с коллекционными вещами и картинами. – Какая забавная штучка! Что это, подвеска или сережка? Их здесь так много, поглядите! Вон та вещица, китайский дракончик, – самая красивая! Как все блестит и переливается!
– Вещь действительно уникальная, но это не подвеска и не сережка, а зубочистка начала XVI века, – рассказал я.
– Никогда бы не подумала, что эта вещица всего лишь зубочистка! Удивительные изделия! Ой, а там что?! – обращая внимание к двери, воскликнула танцовщица. – Даже боюсь подумать! А что это?
– Костюм для борьбы с медведем, – объяснил я, проследовав с birdie в кабинет древней истории. – Здесь рогатыня для охоты на, например, лося или оленя, внизу мечи и сабли. Эти фигурки – гири кистеней, а вот те – навершия булав. Лук и стрелы, думаю, вы различили и без меня. Когда-то все это принадлежало моему отцу, пока не случилось безрассудное дарение целого собрания.
– О! Вам не тяжело?
– В смысле? Не тяжело ли мне было расстаться с коллекцией? – спросил я, проследовав с Александрией через оранжерею во внутренний балкончик.
– Нет! Носить все это в своей голове! Вы такой умный! – простодушно ответила birdie и сразу как бы случайно уронила свой веер к моим ногам. – Как неловко, сегодня с утра этот веер не дает мне покоя!
Когда наклонился к расписному вееру, Александрия сделала вид, что из-за неустойчивого положения начала падать, от чего мне пришлось быстро встать и поддержать ее за руку. Чуть-чуть спустив веки, юная П* будто приготовилась к поцелую.
– Ваш веер, – выразил я, не сводя взгляда с лица балерины, как бы смутившейся и покрасневшей. – Думается, пора возвращаться в общий зал. Мы отсутствуем достаточно долгое время. Г-жа П* может заволноваться о вас, Александрия.
Погрустнев, балерина повиновалась и послушно проследовала за мною. К дверям мятной гостиной мы подобрались быстро, без разговоров.
– Благодарю, Адольф! Вы – мой спаситель! – проговорила балерина и засмеялась. – Я очарована вами! Вы так же умны, как и красивы, хотя сочетание двух этих качеств – большая редкость.
– Спасибо, Александрия. Рад был познакомиться с вами, – попрощался я, любезно поцеловав протянутую мне ручку.
– А я-то как рада! До встречи, милый князь.
Birdie еще долго смотрела вслед, пока моя фигура не скрылась в резных дверях.
Вернувшись в мятный зал, я первым делом определил, кто и где из важных персон находится, что делает. Старый князь беседовал с г-ном Крупским и с г-ном Елизаровым. Сергей Михайлович выглядел неприятно: физиономия его являлась услужливой и раболепной, словно выпрашивающей денег. Тогда начал искать Елизавету Павловну, кою обнаружил в самом конце зала в кругу многочисленных обожателей. Лале, то есть Вильгельмина, и Розенбах стояли в отдалении, было видно, что княжна на что-то жаловалась и чего-то просила. Моя Мария восседала на диванах совсем одна, подперев кулачком в узкой перчатке уставшую черноволосую голову. Остальные дружно кучковались по сторонам.
– Драгоценная, почему вы коротаете время в одиночестве, где?.. – начал я, как Аранчевская меня резко перебила.
– Потому что ты меня оставил одну! Совсем одну, на растерзание этим паршивкам, чтобы их желчная зависть разорвала меня в клочья!
– Но вы сами попросились к подругам… – растерялся я, косясь вокруг в опасении, чтобы никто не услышал наше разбирательство, как вдруг, точно нарочно подбирая композиции, музыканты ворвались в спокойствие зала резким Корелли.
– Нет, не хотела этого! Ты должен был понять, а не вести себя как дурак! – прошипела Аранчевская. – Ты меня бросил, как какую-то дешевку, а сам ушел развлекаться! Где ты был?! С кем ты был?! Говори!
– Мария Константиновна, на нас смотрят… – от стыда потупив взор, отметил я, тогда как некоторые из присутствующих, в том числе Эдмонд де Вьен, уже устремили на нас взгляды.
– Да неужели! Ты знал, что на нас будут таращиться, мы же завидная пара, должны соответствовать! Так чего же теперь стесняешься?! Пусть глядят, смакуют мой оскорбленный, но зато какой разодетый и обвешанный драгоценностями вид!
Здесь я не выдержал и отошел ненадолго от émeraude за креманками с клубничным мороженым. Забрав две последние вазочки, я вознамерился вернуться на прежнее место, как вдруг Твардовский чуть не сбил меня с ног. Некоторое время Даниил виновато глядел на меня, растерянно хлопая пушистыми ресницами, пока, наконец, не извинился, прорвавшись женственным голоском. Не обмолвившись с юношей ни единым словом, я обошел его и, возвратившись к мадам де Вьен, любезно протянул ей одну из хрустальных вазочек.
– Подавись своим мороженым, змий! – фыркнула Аранчевская, чем развеселила Мишеля, что-то шепнувшего на ухо шведу. – Что же ты не отвечаешь, Адольф, где ты был, с кем был и что делал?! Почему я должна ходить и выискивать тебя повсюду, а?!
– Играл в карты и курил сигару… – виновато солгал я, тогда еще не догадываясь о натуральных причинах злости супруги.
– А-а-а играл! Ну да, а я погляжу, ты такой масленый пришел именно от своих друзей! Не держи меня за… – проскрежетала Аранчевская, собираясь выругаться, но ее вдруг появившийся отец расстроил эти планы.
– Машенька, доченька, что-то не так? Скоро твой голос прорвется сквозь Корелли, – обеспокоено начал Константин Константинович. – Видел, г-н де Вьен тебе мороженко принес. Покушай, лапушка.
– Да черт с вами всеми и вашим мороженым! – поднявшись с дивана, взбесилась Мария и, указывая на меня, закончила речь: – Особенно с этим змием черт! Надоел мне уже!
– Что же приключилось, князь? – отчаянно прошептал г-н Аранчевский, усаживаясь рядом со мной. – Пребывал почти в конце зала, ничего не слышал, но видел, что Мария недовольна.
– Знать бы мне самому, что приключилось, пока меня не было, я бы с удовольствием истолковал, а так сам в глубочайшем неведении.
Пока находился в раздумьях, г-н Аранчевский опустошил креманку Марии и зачем-то начал вертеться на месте, создавая суету. Оказалось, князь искал носовой платок, куда поспешил высморкаться, а после и вовсе в него расчихаться. К тому времени в зале опустело, многие вышли на танцы.
Супруга моя вернулась сразу, как только из мятной залы скрылся мой отец под руку с г-жой Растопшиной, они, было заметно, еще больше сдружились с дачи Елизаветы Павловны, история с Таней сплотила их в единое целое.
– Ведите себя прилично, – басом разразился Альберт, подводя Марию ко мне. – До свидания, Адольф. Хорошего вам отдыха.
– Как? Вы уже уходите?
– Не вижу смысла здесь оставаться.
– Вот и… – хотела выругаться мадам де Вьен, но умолкла, когда Керр пронзил ее взглядом.
Не успел я попрощаться с Альбертом, сказать с ним пару слов, как тот сразу ушел. Скоро ко мне подошел Павел Шведов. Князь беспрестанно за что-то извинялся передо мною, мямлил, в особенности просил прощения за Артура Девоян и его слова в карточном кабинете. Пока мы говорили, Миша долго стоял подле меня, переминаясь с ноги на ногу, и незаметно подслушивал. Оглядев его, я вопросил:
– Не угодно ли вам что-либо узнать?
– От тебя? Нет, – ответил он и, обмерив меня удивленным взглядом, захромал в танцевальный зал, мы с Мари и шведом пошли следом.
Танцевать мадам де Вьен было нельзя, но ангажировать другую барышню она мне не позволяла и держала за руку, чтоб я никуда не ушел. Пока мы пребывали с теми же Тригоцкими и Швецовыми, у меня имелась возможность понаблюдать за толпою. Тогда с видом напускного равнодушия рядом со мною прошла очередная барышня со своею мамашей, уронила бальную книжечку. Бросив скучающий взгляд на предмет, я перевел глаза на оказавшегося рядом Эдуарда Войцевича, который по сему поводу выдал довольно примечательное высказывание: «ежели так и дальше пойдет, девицам будет нечего ронять на пол. Вы уже не жених, Адольф, а муж, а среди дам по вашу душу настоящая война». Мария от этого замечания вспыхнула, глаза ее покраснели. «И все-таки у меня есть супруга, я верен ей», – хоть и лживо, но произнес я, рассчитывая на то, что мадам де Вьен поддержат эти слова, но не тут-то было. Очевидно припомнив себе наше раздельное и не примерное житие во Франции, Мари почти зарычала и скрипнула зубами, углядев в словах не только очевидную ложь, но и подтверждение (которого, к слову, не было), что супруга мне не шкаф – подвинется. Что насчет книжечки, то ее, разумеется, я не собирался поднимать, за меня это сделал Твардовский. Схватив с пола вещицу, юноша бойко подскочил за барышней. Увидав подле себя не желаемого меня, а какого-то Твардовского, девица с таким остервенением вырвала из рук юноши книжечку, что у многих наблюдателей это вызвало смешок.
– Вижу, вы как всегда в лучах обожания, – подметила барышня подле меня. – Не узнали, ваше сиятельство? Я Дуня, ваша бывшая ученица из Смольного. Впрочем, вас, конечно, тяжело назвать преподавателем.
– Евдокия Антоновна? Как вы… изменились!
– Оная самая! Удивительно, как вы не забыли моего имени? Я теперь фрейлина императорского двора, вот и изменилась, – горделиво объявила Дуня. – Вы тоже другой, Адольф де Вьен. Усы ваши хороши, и фрак сидит не куце, как раньше. Одобряю.
– Благодарю, Евдокия Антоновна. Как поживает София Леманн?
– Вы даже ее помните! Да вы же мой хороший, какой молодец! – отозвалась Дуня, обращаясь ко мне, как к дрессированной собаке, послушно выполнившей команду. – Соня занимается. Мы встречаемся каждый понедельник, среду и пятницу в одном из уголков Зимнего. Надо же хоть кому-то заняться ее замужеством, а то так и просидит в девках. Ежели хотите, приходите к нам в час дня, я вам напишу, через какую лестницу заходить, или, как Миша говорит, «начирикаю»? Мы часто вспоминали вас, г-н де Вьен, и поражались вашей безграничной доброте к нам – к простым смолянкам, вашей любви к творчеству. Часто обсуждали время, проведенное вместе, как мы наблюдали за перестановкой мебели в нашем кабинете, и как вы нас учили три секунды. Для вас, вероятно, день с нами был не более чем наказанием за дуэль, но для нас то время было весьма любопытным событием. Соню хотя бы развлекли, а то она постоянно ревела.
– А что с ней? – изумился я.
– Ой да чувствительная шибко. Напридумывает себе всякое, вот и ревет. За ней г-н Терехов все бегал, да и сейчас активно метит в женихи, а она что тогда ни в какую, что сейчас. Тогда из-за него ревела, теперь тоже.
– Терехов… Те-ре-хов… что-то знакомое! И что же, Софии совсем не нравится г-н Терехов? Так, а кто он таков, чем занимается, кто по чину?
– Да знаете вы его, племянник князя Тригоцкого – граф Алексей Петрович Терехов. Недавно сменил отца, служит прокурором. Сами же знаете, ей-богу, не попугай же я вам, чтоб пересказывать, – ответила Дуня, после чего показательно вздохнула и продолжила: – Вот и я задаюсь вопросом: чего не жениться? Г-н Терехов граф, имеет доход, недурен собою, да что там, разве ее переубедишь? Да и гордости в ней, как в царице, вот только откуда – неясно. Она, насколько я поняла, обиделась на того за что-то, вот он и думает да гадает, все разгадать не может, чего это у ней в голове стряслось.
– А во фрейлины ее не взяли? – поинтересовался я. – Евдокия Антоновна, не соблаговолите ли вы станцевать со мною?
– С удовольствием. Пусть все от зависти погорят, – согласилась Дуня, выходя со мною в центр. – А во фрейлины она не пошла, хотя я ее всеми силами уговаривала. Сами посудите: я стала фрейлиной, у меня появился богатый покровитель, который и платья мне дарит, и драгоценности, шубу из лисы, расшитый серебром и золотом платок, да еще и сюда вывел – выгода на выгоде. Могли бы вы предположить, чтобы какая-нибудь купчиха была допущенной на светское мероприятие? Нет? Вот и я не могла. Знала бы, что попасть в ваше общество так легко, сделала бы это намного раньше, а не сидела бы, не ждала бы какой-то любви.
– Г-жа Правдина, да вы настоящая купчиха!
– Кровь, что сказать! – расхохоталась Дуня.
– Вы напоминаете мне Марию Константиновну, когда та была еще юной девочкой. У нее такая же деловая хватка, нюх на прибыль.
– Нет уж, с вашей женой мы совсем не похожи. У меня нет того безрассудства, которое присуще ее импульсивным поступкам и дерганному характеру. Я слишком расчетлива, так что услуживала бы вам, как могла, ковриком бы стелилась. А она вон уже какая красная стоит, ревнует. Надеюсь, когда мы докончим танец, она меня не съест? У меня завтра утром примерка, не хотелось бы, чтоб съели, а послезавтра – на здоровье.
– Прямота ваша бесценна, Евдокия Антоновна! Знаком с вами второй в жизни день, а вы мне уже все выложили, что могли!
– А то! Я не дворянка. Мне ломаться не стоит, не поверят.
Пока мы с Дуней кружились в танце, многие перешептывались и обсуждали нас, как будто бы в моем появлении и самой фрейлине заключалась вся цель общественного существования, точно на паркете мы решали судьбы народов и строили Наполеоновские планы. Кончив танцы, Евдокия вновь повторила мне приглашение, написала адрес и сунула в руку. После меня с бывшей смолянкой изволила танцевать почти вся зала, видно, надеясь заполучить от нее какие-то интересные подробности обо мне, но Правдина отказала всем и, показательно раскрыв веер, удалилась из видимости. Вскоре я услышал шепотки, которые твердили, что покровитель Дуни объявился инкогнито и увез ее в Зимний.
Без внимания я был недолго, через считанные мгновения ко мне подошли П*. Только г-же П* стоило завести диалог, как Александрия все внимание перевела на себя, принялась за шутки и хохотать. Примечательно, смех birdie звучал, как голосок какой-нибудь птички, которая визжит оттого, что ее мнут в кулаке. Хохоток балерины рассмешил меня не на шутку, и я тоже развеселился. Сначала супруга моя терпела флирт на стороне, всячески отвлекая себя. То она беседовала с Аришей Растопшиной, то висла на Мише, от которого, казалось, окружавшая его толпа ожидала неких заключений, но вскоре взбесилась и стремительно метнулась ко мне.
– Отвезите меня домой, я устала! – приказала мадам де Вьен.
Прознав свою неуместность, П* поспешили раскланяться и оставить меня с мадам де Вьен наедине.
– Разумеется, только позвольте мне попрощаться с родителями Керр, – подставляя локоть Мари, произнес я, следуя вместе с нею из зала.
– Да прощайтесь вы с кем хотите! Хоть со всеми тут перепрощайтесь! – язвительно прошипела émeraude, отталкивая мою руку. – Только не заставляйте меня долго ждать, пока вы наоблобызаетесь здесь. Я беременна, устала от вас и хочу домой!
Стоило мне направиться к Керр, как я врезался в Вильгельмину, которую вел с танцев Феликс. Обмерив меня ненавистью с ног до головы, княгиня вспыхнула и поглядела на супруга, мол: «поставь его на место, он посмел задеть меня!» Подхватив настроение жены, Феликс выдал:
– Что вы обижаетесь, Виль? Видите, человек настолько несчастлив, что стал ужасно рассеян.
– Извините, случайно… – нелепо вставил я, совсем позабыв, куда и зачем направлялся.
Тогда заспешил к хозяевам вечера, Девоянам, пребывавшим в кругу Карамазиных и Бекетовых. Подойдя к компании, заметил, что все меня ненавидят и едва терпят появление, так что задерживаться в конечных разговорах не стал. Распрощавшись со всеми, я поспешил на выход, но в последний момент задержался в дверях. Взгляд мой зацепился за Керр. Принцесса Раус-Шляйз выглядела весьма тревожной, на грани помешательства, все время потерянно оглядывалась по сторонам, а Анатолий Дмитриевич наблюдал за мною. Поклонившись князю, я желал застать в его лице хоть какую-то положительную реакцию, но тот, словно не приметив меня, холодно отвернулся, развернув и жену.
Приказав лакею вести лошадей медленнее, я уселся в экипаже напротив Марии, которая так и не перестала дергаться. Некоторое время мы выдерживали молчание, но скоро я не удержался.
– Дорогая, полно вам, что стряслось? Прошу вас, объяснитесь, – начал я, взяв ручку супруги в свою ладонь.
– Это мне-то должно теперь распинаться?! – вскрикнула она, пихнув меня в плечи. – Сначала ты даже не заступился за меня перед Бариновым, когда он сравнил меня с твоими пресловутыми усами, затем бросил меня, чтобы все они, все эти желчные, гадкие завистники смеялись надо мной! Скажу тебе, что твой план удался, и, как видишь, даже родной отец постыдился ко мне подобраться, пока я, как дешевенький, второпях кинутый браслетик, ждала тебя на этих проклятых диванах! Ты должен был остаться со мной, а не шататься с этой ба-ле-ри-ной по дворцу, заигрывая с ней! Соврал мне, что в карты играл и сигары курил, а от самого даже и дымком не поводило! Потом ты еще не со мной танцевал, а с какой-то отчебушкой, смолянкой! Затем снова прилип к танцовщице! На глазах у всех меня унизил, когда с нею заговорил! Ты всюду должен был быть со мной! Ненавижу тебя! Какой ты змий, Адольф! Как же я тебя ненавижу!
– Вот оно что, из-за этой балерины ты так, – вздохнул я, начиная оправдываться. – Мари, ты все не так поняла…
– А! Все подлецы только и повторяют друг за дружкой эту поганую фразу! – еще больше возопила мадам де Вьен, начиная махать руками, постоянно толкая меня в плечи. – Я все правильно поняла, умник! Мне надоели твои концерты! Мне надоели эти унижения!
– Мария, прошу, угомонись и послушай! – повышая голос, просил я, пытаясь схватить княжну за руки.
– Не собираюсь тебя слушать! Тебе просто нравится издеваться надо мной! Тебе нравится меня унижать! – не поддаваясь мне, верещала княжна, почти колотя меня. – Как же тебя ненавижу! Это было моей ужаснейшей ошибкой – выходить за тебя замуж! Лучше бы ты умер от яда, я была бы вдвое счастливее! Ты всю жизнь мне испортил! Ненавижу тебя, змий!
Тут мной овладела злость, и я хлестко ударил Марию по лицу. Супруга упала на коричневые подушки и заплакала, прижимая дрожащую ладошку к полыхающей щеке. В ужасе я подпрыгнул на месте, ударившись головой об верх экипажа. Лакей счел случившийся звук сигнализацией к остановке. Воспользовавшись моментом, я выскочил из кареты и, подвернув ногу о некстати лежащий камень, приземлился всем весом наземь. Встревоженный лакей сразу подскочил ко мне и помог встать на ноги.
– Отвезите мадам де Вьен домой, – растерянно проговорил я. – Ежели пожелает к родителям – не противьтесь. Сделайте, как она скажет.
– Князь, но как же вы? Не смею оставить вас! – всполошился лакей.
– Поезжай! – махнув рукой, наказал я и взошел на мост, тревожно ловя каждый удар сердца в груди.
Кинув взгляд на воду, я заметил, что канал пребывает в глубинно умиротворенном состоянии, и ни малейшее дуновение не может встревожить этой черной, безжизненной воды, отражающей зеркалом мрачные тучи кромешной ночи и мой одинокий силуэт. «Что же я натворил!.. Я ударил женщину! – носились мысли в голове. – Ударил ее по лицу… ударил по лицу Мари! Ударил по лицу беременную женщину! О Боже, кара мне! Что же я наделал! Я – чудовище… негодяй! Тряпка! Господи, что я такое после этого!»
– Монетки не найдется, милостивый государь? – прерывая думы, появился грязный мужик в ошметках.
– Нет, сударь, не найдется. Есть табак, насыпать?
– И что с ним сделаю? Ты лучше монет дай, папаша, – настаивал мужик, подбираясь ближе.
– Какой я вам папаша? Нет у меня и гроша! – злобно проворчал я, замечая, что в груди начал зарождаться страх. – Проваливайте своей дорогой!
– Иначе что, изобьешь, как барышню свою? После того как ты женщину ударил, ты – змея!
Оглядев хилого мужика так, словно мне только что открылась вселенская истина, я сам собою кивнул, развернулся и зашагал в направлении Английской. «Змея! – повторял я, с каждым разом ускоряя шаг. – А ведь прав он! Как прав… одно насилие порождает другое, это не последнее, но разве первое?.. Змея!» Некстати начавшийся ледяной дождь, прежде только накрапывающий, превратился в самый настоящий вихрь осколков. Добежав до первого попавшегося дома, я спрятался под козырек. Так бы я и простоял, ежели бы не знакомая фигура, вывалившаяся из дверей.
– Герман Германович, вы? – спросил я, поправляя цилиндр.
– Это не я! Уво-… Уво-!.. Твою!.. Уво-ль-те! – осипшим пьяным голосом еле выговорил князь. – До-св… Дсвдн… До свидания, ваше сиятельство. Это не я! За-… твою! За-за-запомните, что это не я!
Наблюдая, я проследил за ковыляющим г-ном Хмельницким до тех пор, пока тот не скрылся за поворотом на Фонтанку. Встряхнувшись, я вслушался: за стенами особняка раздавался смех и игра на пианино. Опознав дом г-на В*, на котором так и продолжала серебриться прибитая Мишелем табличка: «общество с ограниченной ответственностью», я юркнул внутрь. Как прежде, на втором дымило и шуршал банкомет, внизу пили, а наверху развратничали. Только вошел в запыленный зал, игроки замолчали. Господа, находившиеся в шаге от пьянства, глядели на меня нагло и прямо, выжидая момента, чтоб наброситься или со словами, ежели еще соображали, или с кулаками. Стоило мне сесть за штосс, как картежники принялись подыматься со своих мест и переходить к другим столам, пока я не остался совсем один. Банкомет же, пожав плечами, выпучил глаза и тоже поднялся, удалившись следом за остальными.
– Господа, в чем дело? – воскликнул я, обратив внимание залы.
Решительно никто мне не ответил. Тишина висела такая, что только и слышалось неистовство верхнего этажа. Недолго на меня проглядев, зала продолжила начатые игры. Вылетев на лестницу, я встретил г-на В*.
– Ах вы! Ну-ну! – произнес тот, лицо его бородавчатое побагровело.
– Что не так?
– Ничего-ничего! – отделавшись, г-н В* буквально побежал наверх.
Поглядев ему вслед, я замедлил шаг и задумался: «сумбур начался еще с г-жи Девоян, да так и не прекратился. С какого перепугу меня вдруг возненавидели? Из-за Татьяны, что ли? Ну так это выходит нелогично».
Спустившись вниз, я вошел в кабак, осмотрелся, тотчас зацепившись взглядом за хорошо знакомые эполеты. Там, где смрадило дешевым табаком, рвотой, непотребной закуской, в особенности протухшей рыбой, подгнившими фруктами и разлитым пивом, сидел Керр, склонившись над стаканом. Меня бы он не смог заметить, потому что был в самом дальнем углу, спиною к двери, еще и ужасно пьяный, это было видно по тому, как он наливал себе спиртного мимо стакана.
– Garçon! – остановил я официанта, который был совсем не гарсон, а мужчина лет пятидесяти пяти с уставшими веками и опустившимися щеками. – Скажите, как имя того господина?
– Не могу знать, – пряча уставшие глазенки, насупился официант, но только я сжал сильнее его руку, тот выдал: – Их сиятельство князь Альберт Анатольевич Керр. По крайней мере, мне так передал хозяин и наказал как следует обслуживать.
– Давно он у вас время в пьянках проводит?
– С сентября, ваше сиятельство… с сентября двадцатого числа… Каждый день в одно и то же время является, а уходит в пять утра. Заказывает разное, сначала было пиво, затем вино, потом наливка на смородине, теперь только шнапс… с третьего октября шнапс. Бывает и самогон, но редко.
– Merci beaucoup.
– Вам принести чего-нибудь, ваше сиятельство?
– Нет, ступайте… прикажите подать экипаж, мы скоро уезжаем.
– Слушаюсь, ваше сиятельство.
Почти настигнув фигуру Альберта, я остановился: «хочет ли он, в пьяном угаре, видеть меня теперь?» Все-таки решившись, я продолжил путь. Чем ближе подходил к Керр, тем больше винил себя в том, что потревожу его, что застану столь сильного человека в унизительном для него положении, в состоянии вопиющем. Сев напротив Альберта, я устрашился, что тот прогонит меня. Но, налив шнапса, Альберт отодвинул стакан мне, а сам, схватившись за бутылку, отпил из горла.
– Кто-то умер? – неказисто прорезался мой побледневший голос.
– Жизнь моя! – занюхивая шнапс кулаком, провыл Керр.
Говорил князь хоть и тихо, но стоило ему начать, как пьяный кабак испуганно умолк, озираясь на нас. Бас князя прозвучал тяжело, как стон умирающего льва.
– Вам всего-то тридцать с копейками, и в эти тридцать с копейками вы генерал от артиллерии! Немыслимое достижение, Альберт Анатольевич! Некоторые в ваши годы никто, а вы – все! Как вы можете говорить, что жизнь умерла? Вы прошли Наполеоновские войны, прошли Кавказ, вы одарены стратегическим мышлением, вообще умом, одарены голосом. Вы красивы, богаты, у вас фабрики сладостей по всей стране! У кого ни спросишь – все вам завидуют, но не черной завистью, напротив, вас любят за ваши достижения и желают вам больше! А государь-то, а Михаил Павлович, а Константин, а Николай, как они-то о вас приятно отзываются, а императрица?.. – она очень любит ваши визиты! Вспомните, вы один из немногих, с которым царская семья поддерживает близкие отношения, и сколько подарков они вам дарят, куда вас только не зовут с собою! Многие хотят такой жизни, как у вас, Альберт Анатольевич. Жизнь ваша жива и пышет! Ежели вы спросите, чего, мол, Адольф, тогда со мною не водишься, только за Бариновым слоняешься, сколько тебя от него не отводил?.. Да потому что! Вы честный, вы безгранично добрый, справедливый, великодушный и глубоко моральный человек, а я… а я сегодня ударил женщину… беременную женщину! Вы многого обо мне не знаете. Не знаете низостей, что я творил. Вы идеализируете меня, равняете с собою, но вы совсем другой… вы не то, что я. Боюсь вас разочаровать, а разочарую вас скоро, как только меж нами начнется настоящая дружба. К тому же у вас есть Розенбах… Я всегда был как напросившийся между вами, это меня тяготило. Когда мы с вами поехали ко мне на дачу, помните, я-то думал тогда, да и сейчас так же думаю, что не достоин вашего участия в моей жизни, не достоин снисхождения вас ко мне, Альберт Анатольевич. Вы всяко возились со мною, как с ребенком. Вы возились! Вы, герой войны, возились с человеком, который за двадцать пять лет не сделал ничего, кроме лежания на диване! В мои двадцать пять вы уже дослужились в карьере, а я – совершенное ничто. Это моя жизнь умерла, и я пить должен! – заканчивая речь, выпив шнапса, я начал морщиться и задыхаться. – Я просто недостоин вас, поэтому не могу вам даже «ты» говорить, хоть мы и перешли! Не ваше это общество, этот вонючий кабак, над которым во втором этаже проигрывают деньги, а на третьем по-черному развратничают. Такой человек, как вы, не имеет права здесь находиться уже только от высшего благородства души и не имеет права говорить, что его жизнь умерла…
Поглядев на меня прежним добрым взором, Альберт ничего не сказал, но улыбнулся уже знакомой мне благостной улыбкой, образовавшей возле его глаз с белыми ресницами маленькие морщинки. Но тотчас князь как бы устыдился своей доброты и потупил взор на стакан.
– Не верю, что ваша жизнь кончена, Альберт Анатольевич.
– Мне одиноко, Адольф, – завыл мощный голос.
Глаза князя заблестели, уста покосились вниз вместе с усами. Только Керр потянулся к бутылке, я отобрал ее и вылил все на пол. Какой-то выпивоха даже завизжал от увиденного.
– От шнапса вашей душе веселее не станет, – как бы разозлившись, высказал я. – Равнение налево, шагом марш! Нас ждет экипаж!
Мой взволнованный командный голос заметно позабавил Керр, он даже усмехнулся. Едва подняв друга, почти всем весом облокотившегося на меня, я направился с ним к выходу из кабака. Дорогой рассказал Альберту о Татьяниной записке и обещался показать ее по приезде ко мне домой. Но Керр, кажется, вовсе меня не слушал, он был как в забытьи: то улыбался на меня, то туманным взглядом выглядывал в окно, то хмурился.
Когда мы прибыли на Английскую, Мари не было дома. Иван передал, что мадам де Вьен собрала вещи и переехала на Моховую. До письма Тани дело не дошло, Альберт сразу уснул, как только добрался до дивана. Десять слуг пришли будить эту махину и, не добудившись, уволокли в гостевую комнату.
6 Décembre 1824
Так как лег я, по обыкновению, поздно, почти под утро, измучившись бессонницей, то, проснувшись в два часа дня, уже не застал Альберта. Иван Ефстафьевич любезно передал, что «г-н немец» ушел час назад и просил выразить свои глубочайшие извинения за вчерашнее, пообещал, что больше такого не повторится.
С утра соображал туго. Признаться, после отравления ядом на даче у Елизаровой голова моя в принципе стала хуже работать: плохо запоминает короткую последовательность цифр, адреса домов или новые имена. Пятого же никак не мог собраться, вспомнить, когда меня позвала Евдокия в Зимний, не верил, что ударил Мари, смеялся, что мне придется извиняться: «надо же выдумать, что я руку приложил! Не было этого», – уверял я себя, но кстати подвернувшийся Иван, наоборот, подтвердил, что мадам де Вьен явилась заплаканная, с опухшей щекой, просила льда и командовала собирать вещи.
Через два часа, закупившись цветами на Гороховой, я помчался на Моховую. Букет для супруги вышел превосходный, оранжевые лилии ярко запашились, а особенный держатель для цветов в виде трех граций облагораживал букет своими золотыми отливами. Пока ехал к Мари, так разнервничался, продумывая речь, что случайно оторвал листочек от стебля, так что мне пришлось проталкивать покалеченный цветок глубже в букет. С этим отломанным цветком и букетом в целом разум мой невольно провел параллель – в нашем с Мари ансамбле тоже что-то сломалось, было нечто, что мы старались упорно не замечать, но нельзя было сказать, что именно. То ли нас тяготила сломавшаяся любовь, то ли ее абсолютное отсутствие меж нами двумя.
Когда я вошел в особняк, Мария находилась в спальне. Робко минуя дверной проем, осторожно призакрывая за собою дверь, я напряженно вытянулся, впившись глазами в силуэт мадам де Вьен. Она стояла у окна, заложив руки на груди. Некоторое время супруга никак не реагировала на меня, хотя я видел по ее взволнованному дыханию, что мое присутствие не осталось незамеченным.
– Ежели вы думаете, что просто предо мною извинитесь, подарите свои жалкие цветочки и поцелуете ручку, я вас прощу, то стремлюсь вас огорчить. Прощать за то, что вы меня ударили, не собираюсь. Забирайте с собою свои цветы и уходите, – высказала Мари.
Любующимся, но в то же время разочарованным взглядом окинув прекрасный букет, я все же положил цветы на кровать и занял прежнее положение. Наблюдая за супругой, выжидая ее дальнейших действий, мною овладело странное чувство, которое, к слову, часто стало захватывать меня. Все сущее показалось отделенным от меня, нереально существующим, пустым воображением. На мгновение я даже перестал чувствовать вину за случившееся, полагая, что действовал исключительно в нереальности, что все было вымыслом, да и сам я будто вовсе не существовал – дунь, и нет меня, призрак рассеется.
– Вы еще здесь?! – прошипела мадам де Вьен, возвращая меня в реальность. – Посмотрите, что вы сделали с моим лицом! Как вы вообще посмели прийти после этого?! – стремительно приблизившись ко мне, продолжала она же, указывая пальцем на синяк у глаза. – Вы низкий человек, гадюка, ничтожество! Для того чтобы избить женщину, большого ума не надо!
– Ежели желаете, вы можете меня ударить в ответ, я это вполне заслужил. Даже хотел бы, чтобы вы меня тоже ударили.
– Нет уж, я не собираюсь падать до уровня рукоприкладства! – вскрикнула мадам де Вьен, от чего я вздрогнул. – Мне вот интересно, вы всех избиваете или только я удосужилась столь высокой чести быть вами отмеченной?! Любовниц своих вы тоже били?!
– Что вы такое говорите… – растерянно начал я, протягивая руки к лицу жены, но от меня она грубо отмахнулась. – Мария, я вовсе не специально, клянусь вам! Возможно, из-за накопившихся переживаний так вышло, что я выплеснул чувства на вас. Слишком виноват перед вам, простите меня… Понимаю, что плохо поступил, и… простите.
– Вы не можете быть прощены! – сквозь сжатые зубы проскрипела мадам де Вьен. – Накопились у него переживания! Ну надо же! Какие у вас могут быть переживания?! Живете себе в золотой клетке, картинки рисуете, спите крепко, кушаете сладко, по приемам расхаживаете с красивой дурой, ночуете где попало и у кого попало, купаетесь в лучах обожания! Даже теперь у вас виноват случай, а не вы! У вас все виноваты в том, что вы делаете! Ненавижу вас до отвращения! От одной только мысли о вас меня начинает тошнить!
– Вы все сказали? – вставил я, собираясь уходить.
– Начихать мне на вас и ваши извинения! – выкинула Аранчевская и, наивно полагая, что я стану упрашивать ее простить меня, кидаться в ноги и молить о помиловании, прошагала к прежнему месту, где пребывала в начале нашего разговора. – Проваливайте! Вонючий букет тоже можете забрать. Эти жалкие цветы в виде подачки мне так же не нужны, как и вы. А новые письма, буквально утрешние, от вашего цербера вам вышлю по почте! Прочтите ради интереса, чего мне ваш дружок понаписал! Его ненавижу до ужаса, вас ненавижу еще больше! О, почему вы не отравились?! Господи!
– Хорошо, – заключительно высказал я и поспешил удалиться из комнат мадам де Вьен, расталкивая перед собою двери.
Когда очутился в передней, заслышал, как каблучки Мари быстро сбегали вниз по лестнице, вероятно, чтобы настигнуть меня и задержать. Не позволив лакею довершить одевание, я дернул одежды и устремился наружу. Признаться честно, когда вышел от супруги, руки мои буквально чесались, я жаждал придушить ее и часто воображал это действо в своей голове, да так слился с ним, что был уверен, что задушил ее, что она теперь мертвая лежит на полу. Долго дергался, не знал, что делать с трупом, что сделают со мной за убийство, пока в меня не врезался газетчик.
– Свежие новости: убийство на Фонтанке, воровство на Апраксином, вырезанное семейство!..
– Вот, возьмите. Мне газету, – расплатившись, произнес я и, раскрыв страницу сыскных дел, прочитал: «в ночь с четвертого на пятое был убит князь Хмельницкий Герман Германович двадцатью ножевыми ранениями в грудь».
«Не может быть! Как убит?! – ошпарила мысль». Несколько раз я перечитал новость. «А ежели это я, боже?! Вдруг это я, но ничего не помню?! – пронзил меня испуг». Мгновение погодя кто-то меня толкнул, и газета выпала в лужу.
– Господи! – хватаясь за голову, вскрикнул я, как будто в размокшей газетенке заключались все мои мучения.
Не помня себя, я кинулся к В*, где хоть и с трудом, но опросил вчера всех, кто видел меня. В итоге пришел к тому выводу, что убил Германа Германовича не я. «Да нет же, точно не я, ведь тогда ударил Мари, потом выпал из экипажа, и меня оскорблял мужик какой-то… или как? Черт! Да когда же я видел мужика, до или после? – гудела голова, лихорадочно перебирая воспоминания, которые как попало перемешались». Встретившийся В* рассказал, что вчера я был обыкновенно красив и опрятен. «Значит, не я убил, раз красив и опрятен! Убил бы, был бы в крови! Стоп! А кто убил, кого убил? – соображал я, и чем больше думал, тем сильнее запутывался и, очевидно, сходил с ума».
Желая скорее пойти в церковь, я соскочил с лестницы и врезался в дверь, из которой на меня повалили господа веселою гурьбой. Шатнувшись в сторону, я навалился на стену, но та стена оказалась кабаком и живо отворилась. Итак, ни до какой церкви я не дошел. Посиделки у В* начал с алкоголя, продолжил картами, проиграв две тысячи, и кончил развратом на третьем этаже, высвободившись из бесовских бдений лишь глубоко за полночь.
– Где же ты, Бог! Накажи меня, покарай! Давай же! Ты еще не до конца размазал меня! Давай! – истерически завопил я в небо, выйдя от В*.
Но яростно свистящий ветер, вьюжа пространство снегопадом, глушил все мои выкрики. Какое-то время боролся с неистовством воздуха, накатывающего волнами, но вскоре меня сбило с ног, я поскользнулся на брусчатке и упал на спину, ударившись головой. Небо надо мною было черным, напирающим, давящим. Казалось, еще немного, и меня раздавит небесная темнота. Снег надо мною кружился в безумном вихре, царапая лицо. Тогда попытался встать, но головокружение не дало мне этого сделать, и я вновь упал назад, все так же ударившись головою. Как назло, никого вокруг не оказалось, нужно было спасаться самостоятельно. После третьей безуспешной попытки подняться я пополз, затем встал и, сильно качаясь из стороны в сторону, тут же спотыкаясь, падая, снова ползя и подымаясь, снова падая, раздирая себе ладони, набрел на ту самую церковь, в которой давеча присутствовал на богослужении. Поддавшись к тяжелым дубовым дверям, я попытался их открыть, но силы покинули меня.
– Боже, помилуй! – прокричал я, замерзшими и покорябанными руками дергая на себя дверь. – Господи, все сделаю, что прикажешь! Знаю, что виноват! Перед всеми виноват, но не хочу умирать, Господи, я искуплюсь, изменюсь! Пожалуйста, спаси меня, Бог мой!
Вдруг растворившиеся вовнутрь двери явили передо мною худого невысокого господина, которому я обессилено повалился на руки.
Шестого проснулся на затхлом диване. Сперва не открывал глаза, мне не хотелось, я делал вид, что все так же нахожусь в бессознании. До последнего надеялся, что со мной просто сделался нервный приступ, а происшествия на улице причудились во время тревожного сна.
– Учнулся барчук ваш, Вячеслав Николаевич? – прорезался любопытный шепот старухи. – Доктора бы, Вячеслав Николаевич. У вашего барчука убморожение и голова разбита. Помрет эфтот, а утвечать будете вы, Вячеслав Николаевич, уж никто не спросит: пьяный был ваш барчук али нет.
– Зинаида Петровна, перестаньте. А на доктора нет денег, сами знаете… – пробубнил высокий мужской голос.
– Так барчук протрезвеет да уплотит, – находчиво заметила старуха. – Наряды-то у него-то золотом ушиты, пуговицы с камушком. Давайте уборву, а эфому скажем, что на улице убворовали?
– Зинаида Петровна, в самом деле! – возмутился Вячеслав Николаевич. – Никого не надо обворовывать, что вы такое говорите!
Раскрыв глаза, я сел на диване, но тут же откинулся назад из-за головокружения. Комната, в которой находился, являла собою на редкость бедную обстановку: стены были обклеены старыми пожелтевшими газетами, по углам комнаты пребывали полупустые этажерки, а на скрипучем полу располагался лишь зеленый диван и кресло, где сидел сутулый господин, который, между прочим, показался мне знакомым, правда, как бы я ни пытался, вспомнить его не смог.
– Голова кружится, да? – неуверенно возник Вячеслав Николаевич, пряча от меня глаза. – Вам бы покою, поспать немного… Простите, что не предоставил вам более удобных расположений, ваше сиятельство.
– Вы кто? – едва выговорил я.
– Я… да я… да никто, собственно. Имя мое простое – Вячеслав, отчество Николаевич, а фамилия Оболонский… граф, – еще более сутулясь, представился господин, потирая костлявые руки с цыпками. – Ежели вы голодны, ваше сиятельство, могу предложить хлеба и маринованных огурцов.
– Ну уж! У нас нету! – возмутилась старуха, уставив руки в боки.
– Мне не нужно, благодарю, – ответил я, трогая больную голову. – Позвольте мне вас угостить, г-н Оболонский, как моего спасителя. Я теперь обязан вам. Только прошу, ни в коем случае не отказывайтесь.
– Вячеслав Николаевич сугласен! – вставила Зинаида Петровна, на что сам худощавый мужчина даже не воспротивился, лишь весь покраснел и выделал на своем лице что-то похожее на страдание, но страдание то было подленькое, ненастоящее.
«Вот хорошо, что я спас этого князя, есть чем поживиться взамен», – говорила физиономия Оболонского, хитро прищуривая глазки. Не подумай, дневник, я совсем не жадный, но выражение лица этого бедного графа мне совсем не понравилось и произвело на меня впечатление неизгладимое, точно босою ногой я наступил на склизкого гада.
Только Зинаида Петровна спровадила нас, нарочно хлопнув дверью, тут же раздалась невыносимая брань, кстати, за той же самой дверью. «Какая гадость, неужели кто-то действительно так живет? – глядя на мрачные стены лестницы, в углах облитые зловонией, ужаснулся я, заслонив нос платком. – Фу! А здесь даже рвота и чья-то пряжка от ремня… Пряжка, к слову, неплохая, но, скорее всего, ворованная, может, даже снятая с… Господи! Я ведь точно такую видел у Германа Германовича!» Вздрогнув, я обернулся на Вячеслава Николаевича, но тот, казалось, был спокоен, как удав, и глазом не повел, лишь поморщился, учуяв зловонию.
На Английской я накрыл настоящий пир, стол чуть ли не хрустел от кушаний, но Вячеслав Николаевич долго стыдился и не брал, тогда как я во всю лакомился перепелками.
– А можно я вот этого возьму? – тихо произнес г-н Оболонский, кивнув головою на малиновый мармелад Керр.
– Стол в вашем распоряжении, Вячеслав Николаевич, берите все, на что падает ваш взор. Правда, я бы отметил, что начать стоило бы с перепелы, продолжить паштетами и пирогами, а закончить сладким.
– Бабушка моя перепелу любила, – кротко заметил г-н Оболонский и, как подбитый звереныш, принялся покусывать зажаренную птицу, постоянно озираясь на меня пугливым взглядом, точно вот-вот и отберут у него угощения.
В конце трапезы я предложил гостю мандаринов с собой, но тот от всего отказался и вознамерился уйти. Задержав Вячеслава Николаевича тем, что предложил игру в шахматы, я принялся выуживать подробности вчерашнего вечера. Оказалось, что г-н Оболонский от самой церкви тащил меня до своего дома, где вымыл и обработал мне раны. Сначала я не поверил словам Вячеслава Николаевича, его фигура не представляла собой решительно ничего, кроме костей, обтянутых сухой кожей. Но вскоре полностью утвердился в им сказанном, одежды г-на Оболонского проявили передо мною следы запекшейся крови. Заметив, что мне открылась его окровавленная грязная рубаха, Вячеслав Николаевич застыдился, бросил партию и наскоро покинул меня, будто бы даже сбежав. Впрочем, оно и к лучшему. После общения с Оболонским я чувствовал себя преотвратительно, словно съел тарелку червей, перемешанных с грязью и обязательно с еще чем-нибудь неприятным, скользким и мерзким. Знаешь, дневник, я бы даже употребил, что меня тошнило душой, ее буквально выворачивало наизнанку, хотелось отмыться, отшоркаться от Вячеслава, притом что он не сделал мне ничего плохого, напротив, спас.
Вспомнить, где уже видел Оболонского, не смог, зато припомнил приглашение Евдокии Антоновны и сразу, как умылся и переоделся, отправился в Зимний, предварительно заехав за гостинцами. Приехал позже назначенного времени, а на входе вовсе встретился с великим князем Николаем, которому Дуня наплела, что наняла меня учителем рисования для фрейлин. Николаю Павловичу чувство юмора не занимать, он сказал мне: «здесь вам не Смольный, сбежать не получится». Фраза его прозвучала настолько серьезно, что даже устрашила, но меня похлопали по плечу и заверили, что бояться нечего.
Для наших уроков была выделена роскошная зала: посреди журчал фонтан, у которого поместили пять новеньких мольбертов, в углах болтали большие попугаи, по периметру зала были расставлены широкие кресла, вазоны с цветами и столики с экзотическими фруктами. Стоило мне войти, один из попугаев загорланил: «Змея! Змея! Андрюшка – змея!» Дуня, стукнув клетку попугая веером, устремилась ко мне, протягивая руки, как давнему знакомому, и облобызала на французский манер. «Змея! Змея! Андрюшка – змея!» – повторил красный ара.
– Добрый день, милые дамы, – начал я, как с Софией вдруг случился приступ неудержимого смеха.
– Соф, что же ты, в самом деле? – обозлилась Евдокия, на что ара вновь начал горланить. – Стукните кто-нибудь этого попугая!
– Приятно, что вы рады меня видеть, – произнес я, морщась на ара. – А птицы ваши удивительны, должно быть, вам с ними всегда весело.
– Обхохотались, – закатив глаза, заметила Дуня и тут же любопытно добавила: – А что у вас там, в коробках? Что-то к чаю? Да, слушайте, поглядите-ка быстренько на наши рисунки и пойдемте кушать, а то я устала. Вы-то припозднились на целых два часа, мы без вас всякое написать успели. За чаем заодно и с вами побеседуем. Мой Додо подарил мне какой-то таежный сбор – унюхаетесь ароматом!
– Пойду, прикажу чаю ставить! – весело проявилась одна из фрейлин и, отобрав коробки, спешно удалилась из зала.
– Дуня, ну что за слово «унюхаетесь»? – расхохоталась Соня. – Еще и Додо назвала…
– А что, виновата, что ли, что он на этого динозавра похож?
– Погляжу, у вас действительно весело. А мне, к слову, сказали, что вы всегда грустны, София, – мягко начал я, но две другие фрейлины меня оборвали выплеском:
– Это она у нас только сегодня так веселится, а обычное у ней лицо недовольное. Соня у нас «tri-pri» (triste princesse – грустная принцесса). Она и не смеется, и приказывает частенько, начиная со слов «не сметь», вот и сошлось!
– Совсем так не начинаю, – опровергла Леманн. – Адольф де Вьен, поглядите на работы, и пойдемте чаю кушать.
Просмотрев выполненное, мы перешли в гостиную, убранство которой во многом напомнило мне Екатерининский. Золото стен сияло ослепительно до головокружения и резало глаза. Дуня же, напротив, как человек дорвавшийся и жадный, слишком радовалась роскоши и даже как бы хвасталась передо мною тем, что живет в этих интерьерах. Около часа мы беседовали о прошлом, Евдокия расспрашивала меня о ситуации на даче г-жи Елизаровой. Что примечательно, фрейлина часто выдавала неожиданные подробности, о которых никак не могла знать. Потом Правдина призналась, что обо всем ей доложил известный уже Додо, лично участвовавший в расследовании. Другие фрейлины, в свою очередь, только хихикали, пока мы говорили с Дуней. В особенности они посмеивались над Софи. Одна все приговаривала: «скажи князю сейчас, или мы сами скажем!» Леманн игнорировала фрейлин и молчала, кушала зефир, который я принес к чаю.
– Ты чего обиделась-то? – взъелась Евдокия на Софи. – Адольф, вы представляете, она обижается на то, что девчонки называют ее императорской дочкой! Всем бы такое название, и, собственно, чего правды-то стыдиться? Когда мы узнаем, а мы непременно узнаем, двумя чертами подтвердится же, в самом деле!
С этим же София встала с места и поспешила на выход.
– Зозо! Зузенька, куда же побежала? Вот опять! – бросила другая фрейлина.
– Вы сказали Зозо?.. Помнится мне, я уже слышал это название, – замешался я, припоминая речь Себастьяна. – Извините, дамы, я сейчас.
Выйдя следом за девушкой, я оказался в живописной комнатке с атласными пуфами, на одном из которых, теребя подушку, расположилась Соня. Осторожно присев подле Леманн, я вгляделся в ее изящный стан, востренький лисий профиль и простое белое платье с интимно загибающимися кружавчиками вокруг декольте. Обращенное ко мне ушко Софи, розовое и аккуратное, бережно сдерживало каплю жемчуга, увенчанную маленьким бриллиантом. Как только девушка принимала больше усилий к подушке, эта сережка вздрагивала и ударялась о прозрачные ланиты с голубыми венами. Глаза Софи, кажется, готовы были расплакаться и наливались слезами, но она изо всех сил сдерживала подступающие чувства.
– София, давайте поговорим? – начал я и ненадолго задумался, с чего начать диалог. – Дуня рассказывала мне, что граф Терехов принимает серьезные попытки покорить ваше сердце и позиционирует себя как будущий жених. Понимаю, что являюсь последним человеком, с которым вы бы стали обсуждать сердечные дела, вы видите меня второй раз в жизни, но все же будет лучше, ежели вы выскажетесь хотя бы мне. Я сохраню ваши слова в тайне и клянусь никому ничего не рассказывать. Евдокия описала Алексея Петровича основательным, крепким человеком. Так почему же вы не решаетесь связать судьбу со стабильностью? Больших доходов от него ожидать не стоит, зато он состоялся в жизни, ни вы, ни ваши дети не умрут с голоду. Ежели вы думаете, что, выйдя замуж за богатейшего дворянина из высшего общества, вдруг станете счастливой, то спешу вас разочаровать: все бальные персонажи по уши в долгах, и, кроме того, большинство из них абсолютно пусто и живет изо дня в день самой обычной, приземленной жизнью.
– И у вас мир ограничен деньгами! Я была о вас лучшего мнения! – произнесла Соня, оскорбленно взглядывая на меня ярко-зелеными глазами. – Да, бесспорно, состояние важно, с этим я не спорю, но все-таки жизнь должна строиться на любви. Не могу жить жизнью большинства: рожать детей от нелюбимого, зато богатого человека. Хочу любить и быть любимой, хочу выйти замуж за любимого человека, родить в большой любви детей, просыпаться каждый день только со счастливыми мыслями, и каждый вечер, сидя перед камином, глядеть на своего человека и осознавать, что он большая удача, что он меня так же любит и уважает, как и я его, – быстро смахнув прыснувшие слезы, высказалась девушка. – Пусть буду одна хоть всю жизнь, пусть умру в бедности и глубоко несчастной, но я не собираюсь подбирать хоть «что-нибудь» для «лишь бы было», чтобы потом подружкам и родственникам хвастаться, что у меня есть какой-то там человечек для ублажения прихотей, что у меня есть хоть какой-то замуж! Я не Дуня, чтобы всюду вынюхивать выгоду и коллекционировать богатых ухажеров. Желаю по-настоящему, желаю, чтоб меня уважали, чтоб любили, и ежели мне не дано, то пусть умру.
– Что такое для вас любовь? – спокойно спросил я.
– Любовь для меня – камин с вечно разгорающимися деревами. В камин, как и в любовь, нужно подбрасывать дрова. Ежели бросить огонь, перестать за ним глядеть, то старые доски потухнут; любовь так же, ежели не подбавлять жара в любви и отвлекаться на постороннее, то всякая любовь обзовется страстию и рано или поздно угаснет насовсем. Вы так подскочили, г-н де Вьен, как будто бы я наговорила вам абсурда. Пусть и так, я весьма наивна и верю во что-то большее, чем в сухой расчет, но я – это я. Ежели мои слова вам неприятны, вы можете со мною не общаться, ибо не обязаны уверовать в то, во что верю я, но лишь об одном прошу: избавьте меня от излишней полемики. Мне надоело переубеждать, не хочу. Мне и без того больно, и без того я страдаю.
– Ваши слова глубоко тронули меня. И я с вами полностью согласен, – выразил я и принялся ходить по комнате. – Удивительно, как вы в свои восемнадцать до этого додумались.
– С чего вы решили, что мне восемнадцать? Из-за того, что я смолянка? Схема поступления в институт достаточно сложна, я вам не собираюсь ее объяснять. По большому счету я и не хотела учиться, потому как умна и без института, но родственники настояли. Мне двадцать четыре, я уже давно старая дева.
– Вы не так меня поняли, совсем не про старую деву хотел сказать. Такую мудрую, как вы, наблюдаю в первый раз, поэтому и спросил, неужели вам всего восемнадцать, – выдал я. – Прошу, простите меня, ежели проявил невежество к вам.
– Не извиняйтесь, г-н де Вьен. Это я слишком груба. Не знаю, право, что на меня нашло. Набрасываюсь на человека, видите? – вздохнула Соня и, застеснявшись пристального взгляда, перевела внимание на подушку.
Тоненькие пальчики с просвечивающими венами теребили рюши атласной узорчатой вещицы с такой любовью, что я невольно залюбовался и затаил дыхание. Солнце с окна вновь, как и тогда, когда впервые видал Софи, окрасило ее русые волосы в яркую медь. «Гляжу на нее и не могу понять. С одной стороны, Соня невообразимо очаровательна и нежна, кажется такой невинной и воздушной, с другой же она – мощь и сила. Только, например, с Альбертом вяжется мощь и сила, а с этой хрупкой девушкой совсем нет», – изучал я. Еще странно вот что: мне показалось, что Соня будто заранее приготовила свой монолог и говорила его из большой на кого-то обиды. Таковые выводы я сделал потому, что она в разговоре глядела порою куда-то вверх, как глядят, когда на ходу сочиняют или силятся вспомнить давно выдуманную ложь. Изумившись воцарившейся тишине, девушка подняла удивленные большие очи. Ее взгляд буквально впился в мое тело, заставляя сердце больно сжаться. Тогда я чего-то вздрогнул и скованно отошел к двери, ощущая свои движения нелепыми.
– Нас, на-наверное, ж-ждут, – стараясь скрыть волнение, произнес я, зачем-то глупо указав на дверь и обратно, точно отгоняя от себя тучу мух. – Пойдемте?
Мигом поднявшись, Соня проследовала за мною. Она заметно забавлялась моею взволнованностью, стараясь подавить улыбку. Остальное время наша маленькая компания провела за рисованием, фрейлины больше не дразнили Леманн, попугай не обзывался, а Дуня перестала держать хвастливую мину. В конце вечера девушки пригласили меня навестить их и в среду, на что я, конечно, согласился, но только ради Софи. Эта девушка таила в себе ребус, который мне хотелось скорее разгадать, она была лабиринтом, по которому желалось пройти до конца. Кроме того, я чувствовал, что был в шаге от какого-то важного открытия.
Возвращаясь домой, я глядел из окна на четкие линии домов и изящную лепнину, постепенно оживляя в воспоминаниях профиль Сони. «Удивительная внешность», – думал я, переметнув внимание на занимательный случай, – «какой ужас, она заметила, что я заволновался, видела, как глупо махнул рукой. И зачем, спрашивается, столь распереживался? Как будто девушек в своей жизни не видел, ну». И все-таки, несмотря на то, что я себя одернул, до дома беспрерывно вспоминал наш с Леманн разговор, мое глупое поведение, ее глаза и загадочный флер.
Долго мучился с бессонницей, думал о всяком, вспоминал Мари, как ударил ее, затем припомнил сеновал, где пугал Лале. На секунду в голове пронеслась мысль, что дозволь я себе большего, забудь о морали, то непременно воспользовался бы ее беспомощностью и сорвал бы цветы ее невинности грубо, жестоко и со всем сладострастием… Мысли ужасали меня, сводили с ума, но я не мог остановиться представлять развратное действо и упиваться им. Еще немного, и, кажется, готов был пустить себе пулю в лоб, но слуга вовремя вернул меня в реальность, внеся записку с приглашением к Баринову. Фамилию свою Миша подчеркнул аж пятью жирными чертами. «Да, мое существо достойно только таких друзей», – просверлило в мозгу, – «я действительно змий, конченый, падший человек, возомнивший из себя ангела Господне, которым никогда не был и не буду».
8 Décembre 1824
Пребывая во Франции, у меня было достаточно времени подумать о причастных. Не столько важно, кто меня отравил, сколько то, кто имел к этому отношение. В записке своей Таня раскрыла Швецовых, Девоян и Бариновых. Ежели две первые фамилии были для меня новостью, то о последней сам догадывался. Мы с Мишелем никогда не дружили, меж нами всегда существовало условное соревнование, но исходящее не с моей стороны, а только со стороны его. Я наверняка знал, что он ненавидит меня, а уж убить неугодного человека ему ничего не стоило. Мысли о возможной смерти пугали, но ни о чем другом, собираясь в кукушку, думать я не мог и постоянно представлял, как меня травят ядом, как замертво падаю, как тело привозят к старому князю, как он сокрушается над могилою моею.
Дворецкого напрягал мой бледный вид, он всячески порывался остановить меня идти на собрание, даже хватал за рукав. Перед выходом я сердечно обнял Ивана с полным убеждением, что делаю это в последний раз. Старый слуга чуть не умер от волнения прямо на моих руках, но делать было нечего, и я ушел.
Дом Мишеля встретил меня довольно тепло: сам Баринов вышел мне навстречу, спустившись из верхних комнат. Обняв меня, Мишель принялся рассказывать, что все наши здесь, что после него мы поедем к Басицкому и продолжим кутить уже там, расспрашивал меня о делах и самочувствии. «Что-то он больно любезен со мною», – заметил я, тогда как Баринов привел меня в общий зал, где все было как и прежде: все веселились, звенели бокалами, смеялись, танцевали и беседовали. Жизнь шла прежним чередом.
Усадив меня на диван, Мишель вознамерится уйти, но я решил всюду слоняться за ним, куда бы он ни пошел, тем самым думал, во-первых, надавить на него добротою своею, под напором которой он должен был, в моих представлениях, раскаяться за содеянное, во-вторых, желал проследить, чтоб он не подсыпал мне яду куда-нибудь. Итак, порвавшись с места, я заспешил следом за Мишелем, он вышел на балкон курить. Баринов весьма удивился моему появлению и любезно предложил мне самокруток, но я отказался и продолжил пребывать рядом, бросая безучастный взгляд на внутренний двор особняка.
– Вы сбрили усы. Надоели? – вдруг заговорил я, на что Мишель встрепенулся, но после холодно ответил мне:
– Да.
Диалог не продолжился. Так мы и простояли в тишине, пока Баринова не увел за собою Морилье; я ушел следом. Выдав Виктору увеселительного порошка, Мишель направился в карточный зал – проверять ход игры и узнать, все ли гости довольны вечером. Беспрестанно дивясь на меня и косясь, Миша вновь вернулся в зал, где встал у рояля на пение. Шведов хотел было занять место за клавишами, но я оказался проворнее и первее запрыгнул за рояль, начиная наигрывать мелодии. Теперь не только Мишель удивлялся моему поведению, но также и те, кто стал невольным свидетелем этой новой настырной привязанности.
Собственно, так я и проволочился за Мишелем до трех ночи. К тому времени я нестерпимо хотел есть, голод и жажда мучили меня. Когда Баринов, наконец, уселся на диван, перестав оббегать комнаты и заботиться о нуждах каждого, Твардовский подсел к нему и хотел говорить, но я живо дернул Даниила и уместился подле Миши. Изумившееся лицо Мишеля, отвлекаясь с меня на клубнику, потянулось рукою к столу. Взяв ягоду, Баринов хотел было укусить ее, но я выхватил эту клубнику и запихал в себя. «Это точно не отравлено! – думал я, пока недоумевающий Миша тянулся за новой ягодой». Вновь выхватив из рук Мишеля клубнику, я все так же запихал ее в себя и, указывая зачем-то на свои уста, принялся говорить с набитым ртом:
– Какая сладкая ягода, вкуснотища!
– Ты в себе? – пробубнил Баринов, когда гости вокруг еще больше поражались и ждали вызова на поединок.
Тут Миша потянулся за новой ягодой и, порывистым движением затолкав ее в рот, взглянул на меня округлившимися глазами. Кушанье встало ему поперек горла, он не мог как следует ни пережевать, ни проглотить. Отобрав у Баринова алкогольный коктейль, которым тот запил свою клубнику, я осушил бокал до дна и отклонился на спинку, поглаживая живот.
– Как же голоден! – растягиваясь в улыбке, довольно выдал я.
– Не понял, ты нарываешься, что ли? – вопросил Мишель, начиная злиться, но тогда в малахитовый зал вошли лакеи Басицкого, замяв затевающуюся ссору.
У Басицкого я продолжил слоняться за Бариновым, ни на шаг от него не отставая, из-за чего влетел в карточный долг в двести рублей. Вскоре в зале показались женщины. Тут же приметив камелий, Мишель мотнул головою Девояну и вознамерился идти.
– Я с вами! – прорезался мой голос.
– Хорошо-хорошо, мать твою! – проскрежетал Баринов, вцепляясь в мою руку; выйдя со мною в пустующую комнату, он угрожающе схватился за мой фрак и прошипел: – Ты чего волочишься за мной?! Тебе чего надо?!
– Хочу подружиться с вами.
– Врешь! – яростно бросил тот и, резко изменившись в лице, сделавшись насмешливым, продолжил: – Ладно, пойдем подружимся, подружка моя чертова!
Шагая по тусклому коридору, освещенному редкими настенными подсвечниками, с которых покапывал похотливый алый воск на бархатный ковер, я слышал, как с разных сторон то и дело распутными переливами раздавались почти зверские и абсолютно нечеловеческие сладострастные звуки, животный рык. Баринов и Девоян чувствовали себя более чем спокойно, ведя перед собой женщин, а я, напротив, совсем потерялся. Некоторое время Павел Шведов шел позади нас, пока бесстыдные руки не затащили его в случайную комнату. Войдя в самую дальнюю дверь, пред нашей компанией открылась тесная спальня, занавешенная плотными коричневыми шторами. У трех кресел находился единственный источник света – интимно горящий канделябр, еще никогда не видевший, как и я, того жестокого разврата, в который предстояло окунуться. Возле огонька стояли бокалы для шампанского и тарелка с Бариновской клубникой, разрезанной пополам и сочащейся. Пока Артур придумывал самые извращенные фразы, выделывая их в предложения, я разлил шампанское по бокалам и зажег еще пару свечей, чтобы нам не было темно. В тот же момент к нам вошел Твардовский, принеся с собою опиум. Даня боялся делать то, чему должно было свершиться этой ночью, но изо всех сил крепился, взъерошивался и пытался выделать из себя самый бравый вид, подготовленный к любому удару судьбы. Пока армян и Баринов были отвлечены грибным порошком, с чем-то его мешая, я то трубку вырывал изо рта мальчишки, то выставлял его за двери. Твардовский, разумеется, упирался и кричал на меня своим женственным голоском, настаивая на присутствии. Верхняя губка его, тоже девичья, с невинным пушком вместо усов, сужалась и остервенело дрожала, пытаясь визгом донести до меня мотивы свои и убеждения. Но я не слушал Твардовского, в последний раз старался его спасти, хотя уже тогда чувствовал, что выйдет непоправимое и нельзя помочь человеку, на лице которого уже стоит печать смерти. Когда Артур, насыпав чего-то вспенивающегося в покойное шампанское, подал его Дане, я бросил всякие попытки и отстал. Дальше отказываюсь описывать, но, оживляя в воспоминаниях увиденное и содеянное, меня начинает колотить в ужасе.
Седьмого утром, пока одевались и причесывались, я поглядел на Даню, он спал на кресле. Ротик его женственный был приоткрыт, на щеках что-то прилипло и шелушилось, как едва высохшая пена от пива. Он не выглядел умершим, но уже тогда им был. Девоян, не предполагая, что Твардовский умер, подошел к нему и зажал посиневшие губы пальцами. Что-то пропищав, как бы пародируя мальчишку, армян развеселил Мишу, но мне было отнюдь не весело, я вздрогнул, по спине моей пробежал холодок, в сердце кольнуло.
– Господа, он умер, – бледнея, произнес я, хватаясь за голову.
– Брешешь, – вытянулся Баринов и, подойдя к мальчишке, пощупал ему пульс на шее и руках.
Поглядев на Артура, затем обернувшись и на меня, князь осунулся. Догадка моя оказалась верна. Долго мы так стояли, переглядывались и дрожали.
– Собирайтесь, уходим. Он спит. Живо! – холодно отчеканил Миша, судорожно напяливая фрак.
– Что делать!.. – завизжал Артур, отскочив от Дани.
– Что делать? … – вскипел Баринов и в рифму выругался следом же. – Собрались и вон отсюда, сказал!
Скоро мы вышли. Леденея от ужаса, я тщался проглотить удушливый ком, вставший в горле. Девоян, лихорадочно сотрясая руками и вертясь, предложил Мише свой экипаж, но тот отмахнулся и шатнулся в сторону.
– Как ты жить-то будешь после этого, черт армянский? Ты же дал ему того! Говорил я тебе, не надо! – фыркнул Баринов другу своему и, со всей силы толкнув меня, схватил за руку и стремительно поволок на выход.
Уже в карете, пока я или расстегивал одежды, или застегивал, или открывал окно, чтобы подышать, Мишель долго наблюдал за мною.
– Молчи об этом. Он спал. Ты меня понял? – шаркнул он.
– Да.
– Что тебе да, змиеныш?! – вспыхнул Баринов. – Спросил тебя ясно, отвечай мне так же ясно!
– Он спал. Понял, что он спал. Буду молчать! – как бы рывками прояснял я, вновь застегивая расстегнутые одежды и затягивая платок.
– Поклянись, что будешь молчать.
– Клянусь, что никому не скажу. А вы?
– Да куда уж мне, я-то не змея и не крыса, я-то точно не скажу. Клянусь, понял? Подавись.
Проехав до Английской в тишине, мы даже не переглядывались. Тогда как я не дышал, Баринов кипел внутри, нос его кривой раздулся и напористо пыхтел, расширяя ноздри. Уж никак не думал, что Мишель увяжется за мною, но не тут-то было. Когда вышел из экипажа, князь выбрался следом и, войдя первее меня в мой же дом, уничижительно обратился к Ивану:
– Неси водки, черт старый!
Дворецкий ужасно оскорбился и почернел от ярости.
– Иван Ефстафьевич, пожалуйста, соблаговолите принести нам водки. Мы будем наверху, – скоро добавил я, пока Мишель подымался по лестнице и скидывал с себя верхнюю одежду.
– Черти …! Ух, проклятые черти …! – вопил он, в конце каждой такой фразы настолько смачно бранясь, что уши мои вяли.
Уже в кабинете мы уселись за стол и, вперив друг в друга глаза, так и просидели, пока слуга не внес водки.
– Закуска где, пархатый?! – взбесился князь, схватив моего слугу за шею и швырнув к двери. – Быстро принес, иначе на чучело пущу!
Испуганно выбежав, Иван мигом принес всяческую закуску: мясную нарезку, рыбу, зелени, лука, черного хлеба. Выпив водки, закусив селедкой и занюхав дело хлебом, Миша макнул лук в соль и с хрустом зажевал.
– Ты хоть смекаешь, что мы теперь друзья на крови, дурачок? – начал он, снова выпив, занюхав и закусив.
– Смекаю… – заливая в себя рюмку водки, осип я.
Совсем скоро мы были пьяные, но я, кажется, больше. Никогда прежде не напивался настолько, что глаза сбирались в кучу, и тело мягчело до невозможности двинуться.
– За что вы меня ненавидите? – спьяну рыдая в руки, завел я.
– Я-то ненавижу? Очумел, зоопарк?
– Вы. Ведь это вы дали заговорщице яда, чтоб она отравила меня! Все знаю про заговор.
– Видишь, как змиев много, целая яма, а ты в ней олень.
– Прекратите меня оскорблять.
– Да разве оскорбил? Язык фактов. А травить тебя не задумывал. Больше скажу, вместо яда отдал ей глюкоина, добавил в него рвотного, чтоб тебя поштырило тудам-сюдам и вырвало. Ты бы не помер, Андрюха. От глюкоина еще никто не помер, кроме обезьяны. К тому же на тебе уже испытывал этот, как ты его называешь, яд. Вот буквально на вторнике у твоего кощея. Помнишь, мы тогда подошли с Алексом поболтать, а Елизарова ласкала тебя? А тебе хоть бы хны, даже глазом не повел, будто всю жизнь был грибником! Так что глюкоин безвреден даже для оленей. Правда, побочка у него плохая – бессонница. У меня бессонница длится вот уже второй год. Что примечательно, днем сон хорош, а к вечеру вообще ни к черту. Напортачил с формулой, теперь не знаю, что делать с этой ерундой. И вообще, чтоб ты знал, глюкоин нужен для охоты, когда идешь на лося или медведя. Глюкоин обостряет обоняние, слух, делает проворнее, сильнее, терпимее к боли. В переизбытке, правда, вызывает галлюцинацию, но в умеренном количестве совершенно безвреден. Отец всегда принимает глюкоин перед охотой. А я, к слову говоря, глюкоин не принимаю на охоту. У меня замечательная меткость. С прошлой псовой принес двух оленей, правда, таких же вялых и костлявых, как ты. Олени-лягушатники!
«Ежели он в меня не попал на дуэли, когда я стоял и не шелохнулся, то о каких оленях может идти речь? Смешной, право слово, наивно полагает, что я ему поверю», – усмехнулся я.
– Чего щуришься, змея? – с подозрением пробубнил Миша.
– Вы в меня-то на дуэли не попали, а я стоял, между прочим. Об меткости и речи быть не может.
– Говорю же – глупый олень. Место тебе в зоопарке! – усмехнулся Баринов и, поднявшись, приказал: – Я спать пошел. Черту старому скажи, чтоб к часу дня водки мне принес. Опохмелиться надо будет, тебе тоже советую.
Исполнив поручение Баринова, я ушел к себе, где никак не мог уснуть, ибо постоянно думал про Даниила. Все смешалось в голове, и было ни на что не похоже: ни на воспоминания, ни на фантазии. Скажу, что сначала плакал, потом ужасался и тяготился, затем потух и лег на кушетку, пролежав на ней до второго часа дня. Тогда ко мне явился Иван и обиженно выдал, мол, «ваш полоумный балбес» проснулся и собирается к завтраку. С тем же и я начал готовиться к выходу на трапезу.
Застолье проводилось по-русски. На завтрак подавалось совсем не то, что я привык есть: пористые блины на облепиховом соке, пироги из яблок и пирожки с яйцом и луком, кулебяки мясные и овощные, кислые щи, ягодный морс, варенья. Баринов ел, как в последний раз. Казалось, рот его был огромной дырой, где пропадало абсолютно все.
– Чего не ешь ничего, подруга? Фигуру бережешь? – кусая пирожок, с набитым ртом начал Миша.
– Не голоден… – ответил я. – Вы всегда так много едите?
– Эй! Черт старый, где наливка?! – игнорируя меня, вскрикнул князь.
Скоро Иван с крайне уязвленным, но вместе с тем и испуганным видом поднес Баринову наливки и поглядел на меня, как бы выжидая, что я что-то скажу Мишелю в замечание. Но, так и не получив от меня положительно ничего, старый слуга оскорбленно вытянулся и вышел. Последующие попытки дозваться Ивана оказались тщетными, сколько бы мы ни звонили в колокольчик.
– Куда ты сегодня?
– Думал навестить скульптора, затем в церковь… – тихо ответил я.
– И правильно, поезжай грехи замаливать.
– А у вас какие планы?
– Домой поеду. А какие, по-твоему, еще могут быть планы? Ну подлой армяшке подзатыльников начешу разве что, чтоб крысиный язык свой за зубами держал. И все. А тебе что с того?
– Просто спросил. Вы же мне задали вопрос, вот и я вам.
Баринов съел абсолютно все, что было на столе, еще и кулебяку с собою прихватил, обругав на выходе Ивана: «черт старый половину моей половины отгрыз, пока нес, чтоб выпороли тебя по самые не хочу!» Слуга так топнул на меня, так крякнул, что я уж устрашился, уйдет старик к моему отцу, останусь я без него и его упорядоченного правления в доме, но этого, слава Богу, не случилось.
Скоро и я отправился по делам да по визитам. У скульптора не задержался, только проконтролировал – работа шла на удивление быстро. Затем заезжал к отцу на Невский. Папаша угостил меня горячим шоколадом, рассказал, что ожидает к себе Керр и Розенбахов на визит, что и г-жа Павлицкая к нему тоже придет. Собственно, ничего более того не узнал, только разворошил себе какую-то старую рану, мне стало жаль Эдмонда де Вьена, и от этой жалости я никак не мог отделаться все два часа пребывания у него в гостях. Старый князь еще больше постарел и похудел, стал совсем костлявый. Кашель хоть и оставил его, но болезнь не покинула, она медленно изъедала его изнутри.
После направился в церковь, поставил две свечи: одну за здравие отца, вторую за упокой души Твардовского. Пока молился, вновь вспомнил, как накануне выгонял Даниила из комнаты, как он упирался, а потом лежал, раскрыв ротик. Видно, до смерти его тошнило, раз щеки покрылись белыми струпьями, а ежели тошнило, значит, умер он от глюкоина. Потом я вспомнил свое отравление на даче и то, что рассказывали о порошке Иван да Адем, устроившие в ту пору опыты на кошке и свиньях, затем прокорпел над разговорами с Мишей, переосмыслив их и выискав точное указание на моего отравителя: «Баринов сказал, мол, "вместо яда отдал ей глюкоина", значит, отравила меня женщина. Татьяна утверждает, что это не ее мать, значит, это может быть либо чета Аранчевских, либо Растопшиных, либо Елизавета Павловна – все они тесно знали Мишу. Елизавета Павловна не могла меня отравить, она ведь, кажется, любила меня, тогда кто из остальных, Мари? – крутилось в голове». Недалеко от себя я заметил знакомую фигуру, то был Вячеслав Николаевич. «И все-таки точно видел его прежде нашего тогдашнего знакомства у церкви, только где? – отвлекся я, наблюдая за тем, как Оболонский сидит на коленах пред иконой, плачет и качается из стороны в сторону, задевая носом своим длинным и скрюченным истоптанные половицы». Долго так и стоял, пока не вспомнил туманное утро, когда я ехал к Тане на рисовку портрета: «точно! Это он! Даже трость с ручкой в виде кроличьей лапки та же рядом с ним, и шинелька та же, правда, уже протерта, прическа у него та же – волосы, стриженные чуть выше плеч», – изумился я, наконец откопав в воспоминаниях нужный мне фрагмент, – «и как же мучается он, как страдает! На коленах стоит, доски даже целует, что же свербит его, бедность? Надо бы помочь ему! Но чем помочь, едой, что ли?» И все-таки, о каких благах бы я не думал в ту минуту, мне было все так же противно и склизко глядеть на Оболонского, я не мог пересилить себя и возлюбить его, меня тошнило, и невольно припоминались самые гадкие моменты, случавшиеся в жизни моей, тот же Твардовский встал в сознании осиновым колом и грозился свести меня с ума. Перекрестившись, я глянул на икону и вспомнил о супруге: «вот перед кем мне надо стелиться и кому помогать. Она беременная женщина, а я, как последний проходимец, ударил ее. Надо извиниться, надо вновь сойтись. Теперь ей требуется забота как никогда», – подумалось мне.
По дороге на Моховую заехал к ювелиру, купил браслет. То, что я решил примириться с женою, радовало меня, ибо решение это ощущалось благословением свыше. И я считал, что раз на меня снизошло благословление, то душа моя несказанно благородна. Но когда я восходил уже по лестнице до центрального зала и услышал смех Мари, все прежнее мое воодушевление спало. Пропало оно отнюдь не потому, что мадам де Вьен радовалась, а потому, что смех этот показался мне интимным, предназначенным для другого мужчины. «Мало ли? Может, с подружками смеется», – настырно пробубнил мой голос, силой выгоняя из головы дурные представления, которые, в конечном счете, оказались правдой в самом худшем своем варианте. Войдя в голубой зал, я увидал, что на ногах мадам де Вьен лежит голова Баринова. Мария гладила его кудрявые волосы и что-то ворковала, Мишель сладко целовал ей ручки и шептал нежности. Увидав мою фигуру, оба замолчали. Баринов даже из приличия с ее колен так и не поднял головы, продолжил лежать на диване и нагло глядеть на меня.
– О! Муж ма-дамы де Вьены пришел. Чего пришел, олень? – усмехнулся Миша, но я смолчал. – Ма-дама де Вьена, какой у тебя муж хороший, однако: молчит, слова лишнего не говорит, почти половик, хоть ноги обтирай! К слову, ма-дама де Вьена, мы с муженьком твоим теперь друзья на крови. У нас все общее: и стол, и стул, и диван, и кровать!
– Миша! – оборвала Мария, легонько шлепнув князя по губам.
Развернувшись, я устремился вниз, и тотчас позади раздался хохот Баринова. Выскочив на улицу, я бросился не пойми куда, не разбирая дороги. Так оказался на набережной Фонтанки и энергически швырнул в воду браслет, а сделав это, заметался то в одну сторону, то в другую, не зная, куда себя деть и за что приняться. «Убью его, размажу, просверлю пулею дырку в голове, растопчу!» – верещал я, бросаясь на прохожих. Грудь мою сдавливало, я задыхался настолько, что пришлось расстегнуть фрак и развязать платок. Куда дел его – не помню, кажется, бросил под ноги. Очнулся от потрясения лишь у летнего сада, где гуляли семьями или парами. Там, не найдя другого выхода, расстроенные чувства выплеснулись из меня рыданиями.
– С дороги! – вскрикнул голос из неоткуда, но я не придал ему большого значения. – Прочь!
Оборотившись, я увидал морду лошади рядом со своим лицом. Вдруг кто-то набросился на меня и повалил на землю. Из кареты, чуть меня не задавившей, показалась квадратная голова г-жи Правдиной и вытянутый Додо, в коем я узнал хорошо знакомую физиономию, но имени его назвать даже в дневнике не посмею. Затащив меня в карету, Додо и Дуня принялись настойчиво что-то у меня выяснять, но я не понимал решительно ничего, что те говорили, голова моя не соображала. Почувствовав теплоту у носа, я обтер его и, увидав кровь, потерял сознание, очнувшись затем в Зимнем.
Открыв глаза, заметил вокруг себя великих князей, Альберта Анатольевича и еще человек пятьдесят, все суетились да бегали. Из этих пятидесяти только один был врач, остальные являлись статс-дамами, фрейлинами и прислугой.
– Адольф, друг мой, все хорошо? – подлетая к дивану, произнес Керр, начиная меня обнимать и трепать. – Знал, что сегодня что-то случится, чувствовал!
– Что ж вы, ваше высокопревосходительство, за другом своим не следите? – подобравшись к нам, как бы с насмешкой вопросил великий князь Николай. – Чуть под карету не попал ваш милый князь, всю улицу распугал, дам да детей. Увезите-ка вы его по-хорошему в Крым, например.
– Андрей Павлович, возьмите, – заботливо произнесла Евдокия, протягивая мне стакан с водою. – Лучше вам?
«Змея! Змея! Андрюшка – змея!» – протяжно завопил красный ара.
– Это что еще такое? – обернулся на звук великий князь Константин и нахмурился своим маленьким, собранным в точку лицом. – Лично возьмусь за поиск человека, научившего попугая грубостям!
Взяв у Евдокии воды, отпив, я кивнул в знак благодарности и больше ничего отвечать не стал. Затем меня едва подняли и повели на выход. На ногах держался благодаря Керр и великому князю Михаилу. Во втором помощнике, который был почти ровесником моим, неожиданно обнаружилась вся та же отеческая любовь, с которой ко мне относится Альберт. Великий князь так же ободрял меня, так же уважал за что-то и принимал усердное участие в помощи, так же трепетно усадил меня в карету и горячо обнял.
Разумеется, по пути Альберт пытал меня вопросами, но я не хотел говорить, только молчал, глядя куда-то вперед себя, не смея думать ни о чем, кроме того, что случайно увидал и услышал на Моховой. «Вот и обнаружился папаша ребенка, которого носит Мария», – в омерзении искривился я, вновь оживляя в сознании их пару, живот мадам де Вьен, снова вспоминая Твардовского и эту холодную, животную решимость сбежать с места преступления, сквозившую в лице Баринова. Еще ясно припомнил тот вечер, когда ударил Мари по лицу – это возбудило во мне нечеловеческий гнев. Тогда я был убежден, что, ударив ее, поступил правильно, кроме того, я был готов на то, чтобы прямо отправиться к своей неверной жене и сейчас придушить ее подушкой, но дома меня опоили снотворным, и я проспал до двух часов ночи.
Снов никаких не видал, но, когда проснулся, чувствовал, будто нечто обдумал и на что-то решился. Та ярость, которую постарались усыпить, вдруг ожила во мне, принимаясь диктовать свои условия игры. Наскоро одевшись, собрав все нужное для розжига, я прокрался вниз, заседлал лошадь и выехал на Моховую. Особняк мадам де Вьен дремал, как и лакеи внизу. Так что никто и не заметил, как я пробрался внутрь. Стоило кончить и выйти на улицу, как показался дымок из окна первого этажа. Спрятавшись в арке дома напротив, я принялся наблюдать. Подожженный дворец горел знатно, как гигантская новогодняя елка, а тушили его, что называется, всем петербургским селом. Вскоре на улицу выскочила Мария, видно, только поднявшаяся с кровати, следом за ней выбежал и Баринов. Пока мадам де Вьен стояла в одном неглиже, то и дело разевая рот, Мишель носился вместе со слугами вокруг особняка, сначала тщась потушить пожар, затем призывая соседей на помощь. Скоро маленькая фигурка моей супруги осталась совсем одна, прямо перед нею у дворца обвалилась крыша и посыпались стены. Тут Мария разразилась плачем, закивала головой и задрожала. Усевшись на лошадь, я сделал несколько шагов из тени арки. Услышав шорохи за спиною, Мари обернулась, и наши взгляды пересеклись. Она желала что-то высказать, нечто умоляющее, жалобное отражалось в ее глазах, и все-таки заговорить она не осмелилась. Отдав ей поклон головою, я направился вдоль по улице. Мимо меня то и дело проносились слуги с ведрами, объятые ужасом соседские барыни в накидках, господа с тазами воды, проскочил и Баринов с ведром. Кинув сначала поверхностный взгляд, но потом изумленный, Мишель узнал меня и остановился посреди дороги, ведро из рук его выпало. Я тоже остановился. Так мы и проглядели друг на друга, пока вдалеке не послышался визг – это была моя супруга, упавшая на землю и заколотившая по ней.
Только я показался дома, ко мне вышел отец и Керр. В английском кабинете я, конечно же, получил множество вопросов, в особенности нравоучений от Альберта, обеспокоенного моим здоровьем и поведением. Старый князь, разумеется, отметил, что от меня несет гарью, но я решительно ничего не хотел объяснять. «Как же я устал», – отвечал мой голос в заключении, – «не сплю вот уже четыре месяца, может, даже больше… разрешите, пойду спать?» Противиться моей просьбе не стали, отвели в комнаты, на всякий случай дав валерианы.
Сегодня проснулся в три часа дня, умылся и наскоро оделся. В особняке были все те же лица, Эдмонд де Вьен да Керр. Спрашивать о существенном испугались, но было видно, что о пожаре им уже все известно – на столе лежала свеженькая утренняя газета. На лету схватывая пару булочек, едва прожевывая их, поспешно запивая их чьим-то остывшим чаем, я торопился скорее выехать к фрейлинам.
– Вы присядьте, Адольф, позавтракайте как следует, – нерешительно прорезался старый князь.
– Нет, – замотав головою, едва ответил я, заглатывая последний кусок. – У меня много дел. Сегодня среда, работаю.
В Зимнем стояло не меньшее напряжение, воздух буквально жег электричеством. Опасливо поздоровавшись со мною, фрейлины проводили меня в прежнюю комнату с фонтаном. Когда мы там рисовали, они часто переглядывались, не решаясь завести разговор.
За холстом мы простояли пять часов в абсолютной тишине. Поначалу работа моя не шла, но спокойный, какой-то особенно родной профиль Софи умиротворил меня. Иногда Леманн выглядывала, наблюдала за мною и улыбалась, от чего на ее тонкой щечке проявлялась неглубокая, нежная ямочка. «Ничего не понимаю», – часто хмурился я, – «почему она не пользуется теми дарами, которыми ее наградил Бог? С такой-то внешностью и цепким взглядом она могла уже сто раз выйти замуж и не тревожиться о будущем. Кстати, с удовольствием написал бы ее портрет в домашней обстановке и непременно распустил бы ей волосы, они у ней волшебные». Картины мы писали беспрерывно, никто из присутствующих, как нарочно, даже не предложил мне чаю. Иногда я спокойно ходил по комнате, всего-навсего разминая затекшие ноги, а порою нарочно топал и злился: «они решили заморить меня голодом!» Но как бы я не намекал своим недовольным видом, что даже чаю не предложить неприлично, фрейлины ничего не понимали, пока у одной из них не сдали нервы.
– Все, не могу больше! – воскликнула Евдокия, подпрыгнув на месте. – Вы – свора жадных ежей! Даже чаю не предложили! Пойду сама распоряжусь, а то до вас не доходит! Вот скажу Додо, что вы глупые и гостей не угощаете, вылетите отсюда мигом!
«Быстро-таки Евдокия стала всем заправлять. Далеко пойдет», – закивал я, подбираясь к Соне. В своей работе Леманн изобразила меня. «Как точно она написала! И что самое удивительное, похож не только я наружный, но и внутренний. Софи словно урвала часть моей души и заточила ее в холст… даже страшно глядеть на самого себя, ведь будто живой и вот-вот заговорю», – увидал я.
– София, как точно! Вы – гений! Был бы рад увидеть еще работы, – воскликнул я, продолжая шепотом: – К вам я, конечно, не могу напроситься в гости, но к себе бы вас с удовольствием пригласил. Каждый раз завороженно гляжу на вас, София, мне бы хотелось видеть вас чаще и вновь написать ваш профиль, но наедине. Вот адрес… – быстро написав на листочке улицу и дом, пригласил я. – Ежели захотите видеться со мною, ежели вы соблаговолите осчастливить мою мастерскую и меня вашим лицом, то приходите завтра по этому адресу в любом часу. Буду на месте с часу до десяти. Ежели вы не захотите явиться – ваше право, вас не связываю.
– Да… – смяв бумажку розовенькими пальчиками, успела обронить девушка, как вдруг в комнату ворвалась фрейлина.
– Ну! Пошлите на чай! – пренебрежительно бросила Евдокия.
– Не пошлите, а пойдемте, Дуня, – усмехнулся я.
– Знаете что, князь Шувилов, сама знаю, как мне говорить. Вы не знаете настоящего русского языка, а я знаю, потому что я – это народ, – огрызнулась фрейлина, чем развеселила нас с Соней.
– Ежели народ говорит вместо «пойдемте» слово «пошлите», это не значит, что слово становится правильным, – заметил я.
«Змея! Змея! Андрюшка – змея!» – прорезался уже знакомый попугай, развеселивший Дуню и утихомиривший. Благодаря красному ара Евдокия не стала перепираться со мной, она как бы согласилась с птицею, еще поглядела по сторонам с таким уверенным и спесивым видом, что вот, мол, даже попугай считает меня, Адольфа, змием, а со змием и пикироваться нечего.
За чаем разговоры были о незначительном, в основном же мы обсуждали общих знакомых, приближенных ко двору. Собирали мы совсем не сплетни, напротив, даже сердечно волновались. Евдокия не раз упомянула в речи Альберта с тем, чтобы выказать озабоченность им. «Додо переживает, что у г-на Керр рано или поздно нервы совсем расстроятся, уж больно подавленный он вернулся с Кавказа. Поговорили бы вы с ним, милый князь», – говорила она с придыханием, будто жеманясь перед кем-то. Этим кем-то был, как я понял позже, портрет Петра Великого, взирающего со стены. Дуня все время косилась на него так, будто тот был среди нас покорным ее слушателем.
Когда пришла пора прощаться, я предложил Леманн свой экипаж. Девушка заметно волновалась ехать со мной в одной карете, стеснялась части города, в которой живет, была зажата до последнего и старалась отвлечь меня темами, которые сама без особого интереса заводила, но притом говорила весьма оживленно, почти кричала, лишь бы я глядел прямо на нее, а не в окно. Но у доходного дома своего она все-таки осмелела и сконфуженно предложила мне зайти к ней в гости. Естественно, я отказался и тотчас заметил, как Соня облегченно выдохнула.
Домой отправился далеко не сразу, сперва навестил собор, где теперь поставил только одну свечу. Не знал, за кого прошу, за себя или других, кто дорог был мне, но ставил Николаю Чудотворцу. Сперва молитва являлась сумбурщиной, скопищем бессвязных между собою обрывков фраз, слов, междометий. Мозги каменели, я не мог порядочно сообразить. Но скоро мне вспомнилась Мария. Вина за то, что я мечтал ее придушить, что поджог ей дом, мешалась с желанием снова поджечь дом и придушить ее, чувства делили меня на части. Первая часть, которая вину ощущала, со страхом сознавала, что она ничтожна, мала по сравнению с той частью, которая жаждала прикончить. То я молился за то, чтоб бесы расправы оставили меня, то молился за справедливость, полагая себя невиновным, а мадам де Вьен заслуживающей наказания, то корил себя за мысли эти, а Николай Чудотворец все глядел на меня да глядел, не понимая, что за ужас происходит в моей голове.
На Английской не было решительно никого, даже Иван куда-то пропал, поэтому готовить меня ко сну пришлось другим слугам. Перед отходом в царство Морфея прочитал газету, которая оставалась с самого утра на прежнем своем месте. Дело о разрыве отношений подалось огласке с невероятною быстротой и скандальностью, каждая страница была исписана поджогом, даже мастерская часов написала: «продаем огнестойкие часы противу ревнивых любовников».
– Ваше сиятельство, вы! А я уж испугалася! – появилась на мой смех Варвара. – Папенька, то есть Иван Ефстафьевич, ушел с его сиятельством Эдмондом де Вьеном еще утром, когда вы уехали. К нам приходили князья Аранчевские и Растопшины. Александра Виссарионовна долго плакала, что-то просила… уж не знаю, что случилося. Но как явилися князья Растопшины, так сразу его сиятельство Эдмонд де Вьен и мой батюшка вышли.
– Спасибо, Варвара Ивановна, что рассказали. Больше никто не приходил, не искал меня?
– Приходил, ваше сиятельство. Князь Михаил Львович просил передать, что ждет вас у себя к завтрему на… как его, Хосподя, этот!.. На ланч! Говорил, чтоб я непременно упросила вас явиться, – запинаясь и волнуясь, выдала слуга.
– Ясно. Завтра станет требовать меня к себе, скажите, мол, барин отказался и ответил, что и без таких дураков, как он, дел по горло. Слово в слово передайте, Варвара Ивановна. Ну все, ступайте.
9 Décembre 1824
Долгожданный четверг начался со спешного завтрака. Из-за того, что поздно лег спать, проспал обычное время подъема. Пока живо намазывал малиновое повидло на хлеб и спешно заливал в себя кофе, официанты беспрестанно дивились на меня и часто хлопали глазами. Едва пережевав завтрак, я подскочил с места и, небрежно скомкав салфетку, которой обтер руки, полетел на Миллионную, оказавшись на месте без пяти час. Иван так и не вернулся домой на Английскую, так что с собою пришлось брать других слуг.
Не успел отдать распоряжение, что по приезде гостьи должно поставить чай, на пороге появилась Соня, содрогаясь предо мною, как осиновый лист. Мне сразу стало очевидным усердие княжны, с которым она готовилась к приему: волосы ее были бережно уложены в парадную прическу, платье сверкало бальным видом, а дорогие перчатки, шитые не по Сониной ручке, были куплены специально для сегодняшнего дня. Несмотря на то, что Леманн видом своим хотела пустить мне пыли в глаза, она сама этого наряда стыдилась, но стыдилась не потому, что он был плох, а потому что знала – я сведу о месте, где она живет, а места этого она стеснялась, оно не было не то что плохим, оно считалось в кругах моих дальней окраиной, и она это отлично понимала. Следовательно, София также сознавала, я догадался о том, что платье ее единственное нарядное или купленное на последние деньги – одно нарядное и купленное на последние деньги, что не соответствует оно тому месту, где она проживает. «Остатки наскребла, лишь бы сюда приехать, лишь бы понравиться! Скажите мне, что вы не заметили вчера того, где я живу, скажите, что вы не заметили бедности, в которую я опускаюсь», – говорило ее лицо, иногда схватываемое конвульсивной дрожью.
Чтобы понизить уровень волнения княжны и смягчить обстановку, я предложил перейти в портретный кабинет, где угощал девушку муссом из шампанского и чаем. Около получаса я болтал без умолку, слова мои спутывались и переставлялись местами, фразы были ни на что не похожи, так что София перебила меня и все время ясно говорила вперед. Соображал я туго, только слушал да удивлялся. Было мгновение, когда я усомнился в том, что Леманн действительно нравится все то, о чем она говорит, ибо все, о чем она бы ни заговаривала, напрямую касалось моих интересов и с ними совпадало даже в мелочах. Девушка читала меня, как какую-нибудь книгу, притом давно заученную наизусть.
Кончив с чаем, мы с Соней перешли в галерею, где прежнее напряжение, казалось, чудом покинуло наше общение, но в рабочем кабинете Леманн приняла прежний скованный вид и, обняв себя руками, наблюдала за тем, как я доставал кисти и выдавливал краски к написанию портрета.
– Софи, позвольте мне подготовить вас к рисунку, – тихо произнес я, приближаясь к девушке. – Для этого мне нужно будет провести с вами небольшие манипуляции. Разрешите ли мне притронуться к вам?
– Да… – осипла Леманн, напрягаясь телом, как скрипичная струна.
Струна эта билась током. Стоило мне накрыть девушку блестящим атласом жемчужного цвета, оформить драпировку, как показалась искорка и шарахнула меня. Правую кисть девушки, которую насилу пришлось расслаблять, я приложил к ее вздымающейся груди, где Соня должна была сдерживать атлас в кулачке. Левую руку Софи, тоже ударившую меня электричеством, я уместил на ее колене. Наэлектризовавшиеся плечи, которые по моему замыслу требовалось слегка оголить, тоже щипнули меня, да так, что на пальцы пришлось задуть. Осторожно стянув рукавчики платья, я заметил, что девушка вдвое заволновалась и, подняв голову, испытующе поглядела на меня. Глаза ее слезились, она вдруг испугалась.
– Все будет хорошо… – прошептал я, приступая разбирать на локоны прическу Софи, вынимая из ее шелковых волос железные спицы.
Расположив пряди княжны сзади и немного спереди, я наклонился к ее побледневшему челу. Легким движением развернув личико Сони в нужное мне положение, присобрав волнистую прядку медных волос за ухо с жемчужной сережкой, я удалился к мольберту. В тот момент Леманн выглядела точно ребенок, потерявший маму в толпе прохожих. Вытянув шею, она глядела на меня растерянными глазами, будто бы одновременно и тщась разглядеть во мне спасение, и страшась углядеть свою погибель.
– Софи, милая, нечего опасаться, я не наврежу, – вздохнув, успокоил я, приступая к работе.
Но, дневник, перед тобою буду честен: все вышеописанное я делал намеренно. Во-первых, мне хотелось ошеломить девушку, стянуть с нее маскарадную маску, во-вторых, мне должно было проверить Соню, понять, чего она хочет. Иногда мне казалось, что Софи как будто влюблена в меня, поэтому должен был для себя яснее понять ее намерения. К тому же подозрительно, что, зная меня всего ничего, девушка согласилась приехать ко мне домой еще и одна, без родителей, сестер, братьев или компаньонок. Пока я зарывался в мыслях, пытаясь понять и собственные чувства, и чувства Леманн, из-под моей руки сам собою вышел качественный эскиз.
– А почему этот особняк? Видела в газете, что вы его продали, – проявилась девушка, отвлекая тем самым и себя, и меня от неясных чувств.
– Нет, все сплетни. Его не продавал, – отвечал я.
– Вы не подумайте только, что следила за вами, совсем нет. Случайно увидела в газете, а сейчас, когда приехала к вам, опознала его по виду и…
– Не оправдывайтесь, Софи, это лишнее, – остановил я. – Кстати, предлагаю встречаться по субботам, воскресеньям и вторникам. Как вам, нравится? Вы свободны, сможете приходить сюда для портретов? Обычно пишу быстро, больше недели картина не займет.
– Ах, замечательно! Только не смогу в это воскресенье, – живо ответила Леманн. – Мама приготовила мне сюрприз. Она не сказала, куда мы пойдем, но заявила, что готовиться нужно, как на бал. Еще она точно заверила, что мы не в театр идем, но à la parade du panache (на парад щегольства). Так что я буду собираться уже с вечера субботы.
– Интересно, с удовольствием бы посмотрел на этот la parade du panache, – расхохотался я.
– Но вы можете прийти ко мне утром в субботу. Мама приглашает вас к нам, заодно посмотрите мои картины. Но я вас, конечно, совсем не принуждаю. Ежели вы не хотите или не можете, то скажите мне прямо, это не обидно.
– Приду обязательно. Во сколько? К слову, а Евдокия Антоновна будет с вами на la parade du panache?
– Приходите к обеду. И нет, Дуни не будет. Я звала ее с нами, но она огрызнулась и заявила, что будет занята, что в воскресенье у них какой-то важнейший выход, чуть ли не встреча с императором какого-нибудь государства. Туда и великие князья пойдут, и Додо. Все уже готовятся.
Следующее время мы с Софией обсуждали философию прошлого и настоящего, не на шутку сцепившись. Нет, мы не спорили, но много рассуждали и старались переосмыслить некоторые высказывания. Иногда Соня вставала и ходила по комнате, я тоже разминал руки и ноги, а порою мы прерывались на кофе или игру в шахматы. Леманн не умела играть, поэтому я постарался ее научить и пообещал ей экзамен в следующую нашу встречу. Таким образом, ни я, ни девушка не заметили, как время подскочило к девяти часам, пришлось вскорости расстаться.
На Английской сразу же сел за ужин, но насладиться им так и не успел в должной мере. Откуда ни возьмись явился Баринов и, усевшись со мною за стол, вызвал к нам Варвару. Бедная служанка, выйдя на подкашивающихся от страха ногах, даже не могла стоять на месте, ей нужна была опора.
– Ну давай, повторяй речь, курица.
– Хозяин-батюшка, я слово в слово… – начала Варвара Ивановна.
– А ну! Ответила! – вскрикнул Миша, ударив по столу кулаком.
– Барин отказался на ланч. И без таких дураков, как вы, у него дел по горло – вот что я сказала…
Тотчас из меня извергся смех.
– Смешно тебе, подруга? Вижу, ты надоумил ее! – проскрежетал Баринов, после чего рявкнул на Варвару: – Прочь пошла, курица!
– Слушайте, вы мало того что… – только начал я, когда выбежала Варвара, но Мишель меня обрубил на слове и завопил:
– Мало того что?! Дурак-то ты у нас после того, что произошло! Олень! Давно говорил, что надо тебя в зоопарк сдать, чтоб ты там крысиные мутки устраивал, а не среди общества! Мне к черту баба твоя не нужна, еще и брюхатая! Или ты, чай, на меня своих карапузов повесить решил?! Так мне в твоих детях нужды нет! Ты какого черта дом-то поджог, оленина, совсем мозгов нет, что ли? Я к ма-даме твоей приходил, чтоб исповедаться, а ты ураганом влетел, ни шуток с тобой не пошутить, ни слова сказать! Поджог устроил, олень! Чуть не сгорели из-за тебя! – докричался тот, подзывая слугу: – Курица, чай липовый неси!
– Не вижу причин вам верить.
– Говорю ж, олень ты, Андрюха, – звякая ложечкой, доедая сливовое варенье, выдал князь. – К тому же, у тебя нет причин мне не верить. Ежели ты сейчас станешь опираться на письмо Бонифации, то вдвойне оленем будешь. Эта девочка – та еще змеина, давно ее изучил… Где чай мой, черт бы вас?! Эй там, курица, где чай?!
– Не смейте оскорблять Татьяну. Вы ее не знали.
– А ты узнал, что ли? Интересненькие подробности, однако. Ты говорил, что знаешь про заговор. Я поприкинул и понял, что Бонифация оставила тебе, должно быть, записулю перед кончиной-то?
– Не ваше дело.
– Оставила, значит. Дай почитать? Хоть сам узнаю чего.
– Нет.
– Ломаешься излишне, подруга, – усмехнулся Баринов, приступая к липовому чаю. – Ну хорошо, ломайся на здоровье. А я пока тебе расскажу кое-что… Курица, печенья с брусникой принеси!
– Погляжу, вы себя как дома чувствуете. Варвара Ивановна, не несите ничего, гость уже уходит!
– Всегда думал, что оленя не просто так благородным называют, оказывается, просто так. Ты у нас жадный олень – новый вид, получается. Ареал обитания какой у вас, петербургские просторы? – издевался Баринов, опять завопив слуге: – Ежели не принесешь, высеку, курица! И мармелада тоже неси, слышишь там?!.. Ну так вот, давай тебе сказочку расскажу, подруга. Пока ты жил себе припеваючи во Франции, Кощей твой перешел дорогу Уткиным, Девоян и Швецовым, изъяв у них якобы свои земли в счет какого-то там долга, выдуманного на скорую руку. У вторых и третьих долг был на миллион рублей, а у первых на пятьдесят тысяч. Изъял с Забельским и Василецким путем обмана, манипуляцией через отлично составленные бумажки. Армяшка показывал мне эти документы, и, признаться, я даже не сразу понял, что же меня в них смущает. А эти бумажки, в свою очередь, были почти каторжным договором. В них Кощей твой изымал не только земли, но и души крестьян на триста лет работы. Однако же до Кощея твоего мне нет нужды, я заинтересовался совершенно другим, несостыковками в Уткинской родословной. Когда пошла проверка документов, а Уткины, Швецовы и армяшки обратились к моему папаше за помощью, я узнал любопытнейшую вещь. Анна Сергеевна выдавала себя в документах за Крушинскую. Не поверишь, подруга, ежели скажу, но Крушинские – наши пятиюродные родственники, в общем, седьмая вода на киселе, конечно, но мы все-таки когда-то общались, рязанские своих не бросают. Так я докопал до Марфы Емельяновны, а докопал допросами, стоило лишь найти бывших слуг в доме Крушинских, которых я, как ты понимаешь, нашел. Однажды как-то обмолвился с Бонифацией, назвав Анну Сергеевну Марфой Емельяновной, на что та заметно встрепенулась и, спрятав утячьи глазенки, побежала докладывать все своей мамаше. Возмездие Марфы не заставило себя долго ждать, она решилась отравить меня уже на следующий же день, точнее, даже не она сама, а как ты думаешь, кто? Правильно, Бонифация! Так испугалась за мамашку за свою, что травить меня вздумала. Смекаешь, нет, какие пироги? Я своими собственными глазами видел, как эта змея выливает в мой чай флакончик яду. Этот чай потом неосторожно выпила Мария и чуть не откинулась. К слову, тогда она только вернулась от тебя из Франции, была с пузом, так что посредством этого яда она и карапуза вашего потеряла. Короче, запутался, чего хотел сказать-то? А! Они, эти пострадавшие, женить тебя хотели на Бонифацие. Сначала я был ни сном ни духом о плане, но когда меня попросили свести тебя с уточкой, то мигом обо всем догадался. Потом еще и армяшка растрепала. Кстати, эта крысятина ляпнет о Твардовской кому-нибудь, давай сдадим ее в тюрьму, пока не поздно?
– Идите к черту, – тяжело вздохнул я, морщась. – В тюрьму надо вас посадить, а не армяна. Вы меня отравили, вы придумали этот план с уточкой, Мари с вами мне изменила, она носит плод ваших заслуг, наверняка знаю это!.. Вы во всем виноваты, вы испортили мне жизнь! Не верю вам, никогда не поверю. И вообще, уходите из моего дома…
– Ну и дурак! – даже не помышляя вставать, брякнул Миша, вознося руки к небесам: – Божечка, почему он такой тупенький? Как ему еще объяснить, ведь и так с ним как с ребенком говорю, куда еще проще-то? Оленюшка Девьенушка, у тебя с памятью плохо? Объяснял же, что ты бы не умер от глюкоина.
– Сказал же, что не верю вам.
– Зря. Ложь – это грех. Не могу врать еще с детства, – объяснил Баринов, вытаскивая из-под рубашки серебряный крест на толстой цепи. – Вот, его мне подарила нянюшка, когда я был совсем мальчишкой. Бог оберегает меня, и лгать не могу при нем.
– Прелюбодеяние и чревоугодие тоже грехи, только вас это почему-то не смущает.
– Разве я чревоугодствую? Отнюдь! Или разве прелюбодейничаю? Да никогда! Ты меня еще в убийстве обвини, подруга. Как скажешь что-нибудь, хоть петлю на голову надевай!
– Думаю, у В* и Басицкого, у жителей села, где вы развраты устроили, другое мнение насчет прелюбодеяний.
– Ни черта ты пронюхал, блин гороховый! Начнем с того, что не нужно глядеть однобоко. Та девчонка из села сама лезла, сама ко мне приперлась посреди ночи. А камелии в домах – другое, не я же их просил опускаться.
– Мастерски вывернули, браво.
– Нет, с тобой бесполезно говорить. Дай лучше письмо Тани почитать, я же не уйду отсюда, пока не увижу.
Делать было нечего, упорствовать против Миши было бесполезно. Решительный вид его, устроившийся за столом, сметающий все на своем пути, осушивший вот уже весь чайник чая и два бокала вина, только подтверждал наглое намерение слоняться за мною всюду, пока я не сдамся и не покажу записку. Скоро письмо было у Баринова в руках. Прочитывая его, князь заливался безудержным смехом. Покончив, Миша кинул записку мне на стол и, замотав головою, еще долго улыбался.
– Какая, однако, хитрая змея! – вывел тот, приступая доедать ужин. – Существует, конечно, и правда в ее рассказе, но намек на романтику между мною и твоей Аранчевской – бредятина глупой уточки. Многое ты не знаешь. Думал, Бонифация все-таки доложила тебе, кто отравитель, но нет. А Уткина действительно не при делах.
Пока на столе пустело, я сидел и не шевелился. Признание Мишеля поразило меня, и я пытался сообразить, кто же тогда отравил. Закончив с трапезой, Баринов потянулся, погладил живот, потер кулаками глаза и встал из-за стола, кряхтя и ворча, что ему не налили чего покрепче, что я жадный и так далее.
Уже внизу, когда провожал Мишу, который усердно обматывался шарфом, я получил приглашение на дачу завтра же. Баринов обещал заехать за мною в пять утра. Что любопытно, князя даже не интересовало, согласен ли я, предложение свое он высказал так, словно мы еще месяц назад решили с визитом, и он как бы снисходит до меня и напоминает.
– Мишель, ты знаешь, кто отравил, ты глюкоин ей давал. Кто она? – неуверенно прорезался я, но ответа не получил.
– О! Черт старый пришел! Где шлялся? – увидав вернувшегося Ивана, захохотал Баринов, хлопнув в ладоши. – О-о-о как напыжился! Лицо прямо говорит: «вот я тебя копытом да по лбу!» Ладно! Мрачные вы какие-то, черти. Goodbye и друзей не забывай, подруга. На дачу тоже не забывай! Чао-какао.
– Ваше сиятельство, не намерен терпеть к себе столь неуважительное отношение! – запыхтел старик, стоило Мише выйти за двери.
– Так вы бы ему и высказали, Иван Ефстафьевич. Меня, значит, не боитесь, с претензиями обращаетесь, а с Михаилом Львовичем и слова не говорите, только обиженного из себя делаете. Расскажите, где вы были? Без вас совсем пропадаю.
– Вижу, что вы пропадаете совсем. Сначала Эдмонд де Вьен упросил меня помочь княгине Александре Виссарионовне поухаживать за Марией Константиновной. После пожара, который вы устроили, ваше сиятельство, с мадам де Вьен случилась горячка. Благо, что ребеночка не потеряла. Затем я помогал князю де Вьену руководить слугами, присматривать за подготовкой к воскресенью, проверял продукты на кухне.
– Разве отец собирается что-то устраивать? А меня не пригласили.
– Пригласили, ваше сиятельство! Самолично положил конверт с золотой печатью к вам на стол еще во вторник. Другой вопрос – почему вы не замечаете происходящего вокруг?
– Не может быть, его там нет, – нахмурился я и, заторопившись в кабинет, мигом подобрался к столу.
Пригласительное действительно лежало на бумагах, я еще изумился, как мог не заметить его, ежели он был на самом видном месте?
13 Décembre 1824
Десятое провел у Баринова на даче. Погода выдалась мягкой: солнце грело, птички игриво щебетали. Думал, что меня не позовут охотиться, полагал, что просижу на террасе с кофе в руках, читая книжку, но Мишель буквально стащил меня за ногу и поволок за собою по коридорам. Не могу привыкнуть к его шуточкам, к его манерам, но противиться и тогда не стал, пришлось покориться.
Пока следовал за Бариновым до конюшни, наблюдал за его неровной, покачивающейся походкой. Шаги Мишеля казались мне настойчивыми, точно подготавливающимся к некому важному предприятию. Прочие, то есть Алекс, Паша и Артур, шли позади и злобно взглядывали на мою фигуру. Швед и Девоян были без ружей, но волокли за собою заляпанные кровью мешки и грязные веревки. Когда вывели лошадей и дюжину охотничьих собак, Баринов приказал мне сесть первым, а сам, прихватив с собою два ружья, устроился позади меня на слегка отдаленном расстоянии, откуда мог свободно наблюдать за мною, за волнением, что, дойдя до определенной точки развития, принялось нервно передергивать мое тело. Я страшился, бросаясь из холода в жар, обливаясь ручьями пота, до самых тех пор, пока князь не просил меня спешиться, тогда я вообще чуть не умер от страха. Встав строго напротив, Мишель оценил меня взглядом и, ухмыльнувшись, снял с плеча одно из ружей. Твердо обхватив его руками, припав к прикладу, Баринов нацелился на меня.
– Так и думал, – выдал Мишель, переводя взгляд с ружья на мое лицо.
– Ч-что вы д-думали? – запинаясь, вопросил я, ощущая, как конечности мои обмякли и в груди замерло сердце, готовое принять безжалостную пулю.
– Прицел сбит, – сухо отозвался Баринов. – Оно и немудрено, ружье старо как мир… еще моего деда помнит, представляешь, подруга? После десятого выстрела у ружья уже косится ствол, траектория пули меняется, так что учти это, олень, когда стрелять в сородичей будешь, целься вбок. Лови!
Еле ухватив трясущимися руками подкинутое ружье, я перемахнул им через плечо и уставился на Мишеля любопытными, выжидающими глазами.
– Чего? – насупился Баринов.
– Думал, вы меня застрелите, – отозвался я, на что Миша лишь рассмеялся и схватился за живот.
– Ну ты и зоопарк! – прекращая хохотать, выдал князь. – Ничему тебя жизнь не учит. Бедный ты мой слепыш, совсем маленький еще. Не мудрено, что тебя вокруг пальца обвели!
После этого разговора мы с Мишей принялись бродить по лесу в поисках добычи. Мое присутствие раздражало Баринова, я постоянно хотел прервать тишину, заговорить, а тот шипел на меня и грозил кулаком. Долго мы ходили безрезультатно, собаки сбивались со следов и разбредались кто куда, Алекс бегал мимо нас с ружьем, но не за охотой, а просто резвился, как малое дитя, прыгал по снегу, падал в него, выделывал ангелов и хохотал. В конце концов Мишель отделился от нас, тогда-то охота и пошла. Баринов подстрелил оленя, загнанного уже вспотевшими собаками. Тогда Паша и Артур, словно верные псы, прибежали по первому же свисту Миши, чтобы утащить животину в дом, но затем так и не возвратились, поэтому оставшуюся дичь пришлось тащить мне. Миша использовал меня как тяговую силу.
Вернувшись с охоты, у нас был Державинский кабанчик, Бариновский олень, и мой заяц. Пока готовились кушанья, Мишель отвел меня в охотничью галерею, наказав Артуру, Паше и Алексу устроить мне знакомство с коллекцией. Каких животных только не было среди чучел, встретились даже три громадных медведя и ирбис, также я насчитал четыре гигантских лося и восемь рысей. Что примечательно, у всех животных был зашит левый глаз.
– Господа, все эти звери – добыча Мишеля? – вопросил я у ребят, пока те, находясь в отдалении от меня, насмехались над чучелом медвежонка, указывая на него пальцем.
– Нет, вот этого медвежонка поймал Лев Константинович. Видите, у чучела все глаза на месте? Вот, значит, это не Мишка, – нехотя ответил Шведов, тогда как Девоян презрительно скорчился, а Державин от чего-то пытался не засмеяться.
– И всегда ли Баринов был столь меток?
– Да. Так что, когда Миша из вас не сделал чучела после дуэли, я даже удивился. Причем неприятно удивился, – с омерзением ответил Артур и, минуя меня, скрылся вместе с остальными в следующую комнату.
Долго я рассматривал животных, ружья разных видов и размеров, ножички и сабли, пока меня не настигло внезапное озарение: «значит, Баринов пожалел меня, когда не убил на дуэли? А ведь я думал, что он лгал мне, говоря о меткости своей! Теперь же вижу, что меткость его и впрямь непревзойденная. То есть и все остальное, что он рассказывал, вполне может быть правдой?» Тут в охотничью галерею вошел Мишель и, по-братски обнимая меня за шею, горделиво вопросил:
– Ну как моя добыча? Это все я поймал, кроме медвежонка. Когда кормил заблудившегося малыша с руки, отец застрелил его в спину. А вон там видел ирбиса?! Это я поймал, когда был совсем мальчишкой! Ну что ты все молчишь, тебя пугают чучела? Скажи что-нибудь!
– Как же вы промахнулись на дуэли? – вопросил я, смело взглядывая на Баринова, на что не получил решительно никакого ответа, кроме самодовольной, хитрой ухмылки.
Застолье звенело разговорами, в которых я мало участвовал, от чего ощущал себя одиноко и сжато. Да, мог бы сам заговорить, встрять, но прекрасно понимал, что в их дружеском кружке я всегда был и буду лишним. Заметив мое напряжение, Мишель начал рассказывать историю про ирбиса, постоянно обращаясь ко мне:
– Тогда остался один-одинешенек, Андрюха! Сторожил ружья, место привала, ходил вокруг да около и рвал траву, заплетая из нее косички. Вдруг вижу: крадется ко мне эта ушлая кошатина! Недолго думая, нацелился на нее. Кошка сейчас же кинулась на меня, но я выстрелил, и осталась она без глаза! Вот как, Андрюха. Представляешь, что было бы, ежели эта кошатина напала бы на меня? Сожрала бы!
– Не люблю я эти истории, Мишечка, – неуверенно возникла Елена Владимировна. – Ты же знаешь, сыночек, я так переживаю за тебя, когда ты выбираешься на охоту.
– Лен, ну прекратите, – вставил Лев Константинович. – Он же все-таки мужчина.
– Я тоже мужчина, но охоту не люблю, – выдал Гавриила Васильевич. – У нас это семейное, Пашка тоже не охотник, и слава Богу! А то, как Мишка говорит, сожрали бы его уже давно.
– О! Адольф постоянно болтал! – разрубая дружеский круг вновь, захохотал Мишель, поднимая случай сегодняшнего дня на смех. – Говорит и говорит, бубнит и бубнит, совсем не глядит по сторонам! Я на добычу крадусь, а он как начнет болтать! Всех животных мне распугал!
– Да, побеседовать люблю, – подтвердил я, тоже начиная смеяться.
Поздно вечером у нас была баня. Пока мы пили пиво, Артур все сетовал на то, что ему не хватает девочек, что горячего пара ему недостаточно и температуры, постоянно сравнивал хамам с русской баней и обижался на то, что сегодня ему не досталось порядочного ружья, мол, именно из-за этого он не вышел охотиться сегодня. «Миша просто завидует, что я лучше охотник, чем он, поэтому и ружья не дал. Нашел кому дать – де Вьену, он же совсем стрелять не умеет!» – бахвалился армян, но отнюдь не из-за того, что охота не состоялась. После смерти Твардовского в Артуре произошла заметная перемена, и как раз из-за этой-то перемены он говорил слишком громко, слишком вычурно, слишком размашисто, слишком да слишком всего, лишь бы погасить то скребущее на душе, что не давало ему покоя и только разрасталось в груди. И все-таки ворчал он настолько много, что осточертел ребятам. Схватив Девояна, Алекс, швед и Миша выбросили его в бассейн с холодной водой. Армян так обиделся, что разбранился, оделся и вышел из бани, захватив с собою ящик пива.
Так как все гостевые комнаты были заняты Девоянами, Державиными и Шведовыми, я расположился у Мишеля. Спали мы на одной кровати. Засыпал я плохо. Мне все мерещилось, что Баринов выжидает, когда усну, дабы придушить подушкой или зарезать, чтоб я никому не рассказал о Твардовском. Повернувшись на Мишеля, я едва приоткрыл глаза, желая проверить, спит он или нет. Князь глядел на меня сумасшедше, безумно улыбаясь.
– Всегда мечтал дружить с тобой, подруга. Все детство проходил за тобой, пытаясь покорить, но ты словно и не замечал меня, – вздохнул Баринов, перекладываясь на спину.
– Ты обзывал меня цаплей и постоянно дразнил – вот что я помню. Не любил находиться рядом с тобою, ты задирался. Однажды, помнишь, ты обмазал медом мои любимые туфли, а я надел и прилип? Откуда мне было знать, скажи, что ты хотел подружиться? – тихо ответил я. – Еще ничего не потерянно. К тому же, с недавних пор мы друзья на крови, помни про это.
– Это ты помни. Я-то ничего не забываю… – отметил Мишель и развернулся, стащив за собою большую часть одеяла, после чего сразу оборотился назад и произнес: – Ну говорил же я, как в воду глядел, что и кровать у нас с тобой общая! Ой, дурак ты, подруга, ой, олень! Смотри мне, дачу мою не сожги.
Отвернувшись от Баринова, я пытался привлечь сон: всякое фантазировал, чтоб скорее уснуть, воображал себя знаменитым художником, мечтал о завтрашней встрече с Соней, но где-то через час Миша принялся ковырять мою спину ногтем.
– Чего придуряешься-то? Знаю же, что ты не спишь, – выдал он. – А ну подымайся, сочинения свои покажу тебе, пиеску и костюм петрушки, который для Морилье сшил! Пойдем-пойдем, не валяйся, дубина!
Скоро я уже слушал Бариновские сочинения, которые, к слову говоря, вышли у него замечательными. Потом Миша показывал мне костюм петрушки и зачитывал пьесу, получившуюся у него почти шекспировской. Сомнений в том, что Баринов одарен, у меня не было, так же как и в том, что он не совсем адекватен. Та разъедающая плесень сумасшествия, охватившая Артура, была и в нас, только в меньшей степени. Все мы вспоминали труп Даниила, все мы винили себя, все мы были травмированы этим событием, только кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. «Альберт вовсе воевал, там еще хуже, там еще больше смертей. И ничего, не сошел ведь с ума, крепко спит. Пьет, правда, но пьет даже не от того, не от крови и трупов, а от одиночества», – каждый раз успокаивал я себя перед сном. В ночь на даче я решил обсудить это с Мишей, но стоило заговорить о Дане, как Баринов омрачился и, дернувшись к самому краю кровати, показательно замолк, вытворив из себя спящего.
Уже на утро мы с Мишелем проснулись в обнимку. Прошлый разговор, мысли о Твардовском оставили нас, как бывает всяким утром – плохое забывается до следующей ночи.
Отзавтракав, Баринов решил отвезти меня в город, дорогой не давая мне покою. Мишелю было уж больно любопытно, чем я собираюсь заниматься сегодня, кроме подготовки к «Кощееву воскресенью» в Шувиле. Разумеется, я ни слова не сказал Мише о Софи, но тот, видно, подозревал, что от него нечто скрывают. То и дело Баринов задавал мне практически одни и те же вопросы, входя в мое доверие с разных сторон, точно стратег, высчитывающий удобный план для нападения на вражескую батарею.
В два часа приехал к Соне. К моему приезду был накрыт примечательный стол. Мать Леманн, Ксения Алексеевна, с виду была суровою немкой с толстыми седыми волосами, но стоило разговориться с нею, я узнал, что она довольно простодушный, открытый человек. За обедом мы беседовали только о картинах, София задавала мне самые обычные вопросы и часто ставила меня в пример, возвышая в глазах своей матери.
Вскоре мы вышли в коридор, он же был галереей, где располагалась коллекция картин, видно, писаных Софией. То были картинки бессюжетные, например, среди них была змея с раскрытой пастью, висели бесчисленные портреты каких-то гусар, наброски лошадей, широкие поля, церкви, деревья, так что я даже усомнился, может ли Соня написать что-то потяжелее, но так было лишь до времени. Скоро передо мною раскрылись двери мастерской, где все стены пестрили смысловыми работами. Где-то виднелись кровопролитные баталии, причем писанные слишком реалистично, где-то вновь я видел военных. Было среди картин и полотно, наиболее любимое Леманн, – «Сражение при Дрездене». На нем она специально остановилась и ждала каких-то особенных комплиментов. В других художествах я лицезрел портреты известных поэтов, музыкантов, художников, свое лицо и даже профиль, похожий на Баринова. Еще заметил недавно начатую работу, поразившую меня в большей степени, на ней была изображена гладящая кролика Татьяна, выглядывающая из окна.
В общем и целом, картин было много, всех не упомнишь, но что хотелось бы отдельно заметить, так то, что работы являлись необыкновенно реалистичными, они словно жили своей жизнью внутри себя, продолжали существовать, хоть и безмолвно. Всякое полотно захватывало меня и погружало в свой мир. Глядя на баталии, я четко слышал крики, пушечные выстрелы, хлопки ружей и лошадиный гогот, чувствовал запах пороха; наблюдая за военными, улавливал их разговоры, ощущал вкус табака и запах пота солдатской роты; созерцая Таню, ощущал, как пальцы девочки скользят по мягкой шерстке кролика, как шерстка эта щекочется. К чему бы я ни подходил, у всего, что создала София, была душа. «Гениально! – подумала моя не на шутку разболевшаяся голова. – Как много жизней и судеб, все шумит и говорит со мною, давит на меня весом истории. Как Соня справляется со своей гениальностью, как она живет среди этих картин?» Осмотревшись внимательнее, я увидал на крючке ментик гусарского полка и панталоны, внизу стояли сапоги, совсем не новые, но в хорошем состоянии.
– У вас есть брат? – вопросил я, указывая на военную форму.
– Это мое, – ответила Соня и, заметив, что я удивился, объяснилась: – Вы знаете, недавно слышала разговор двух писателей… ходила в литературный кружок… Они, литераторы эти, говорили, что писатель – тот же актер, только актер играет одну роль за вечер, а писатель сразу несколько ролей, глядя на мир глазами своих персонажей. И я согласна с теми господами. Писателю свойственно раздвоение, даже раздесятирение личности гораздо больше, чем актеру, хотя и актер, нельзя сказать, что профан. Чтоб сыграть другого, нужно войти в тело другого, а многим людям вообще не под силу поставить себя на место другого человека. Так и с художником, считаю. Когда пишешь человека, невольно вживаешься в него, начинаешь его лучше понимать, потому как принимаешься глядеть на мир его глазами. Разумеется, можно выдвинуть мне в опровержение то, что мы глядим глазами позирующего из своих предубеждений на его же счет. В этом, возможно, есть какая-то правда, но мне все-таки ближе другое воззрение. Только настоящий художник способен прочувствовать своего позирующего, обличить его душу, лишь настоящий писатель способен изменить роль, развернуть перед нами своего персонажа так, как будто бы он про себя пишет, а не про кого-то другого, не про выдуманного человека, только настоящий актер способен преподнести нам сценическое воплощение в полном объеме, с характером, чтоб мы поверили в правдивость игры. Обычный актер лишь играет, причем дилетантски, неумело, обычный писатель лишь марает чернилами лист, и марает так, на скорую руку, для досуга, а обычный художник – маляр. Настоящий же творец живет в своем творении, а не вне его. Я пишу то, что интересно моей душе, я живу тем, что пишу; сплю и вижу во сне жизни наших офицеров, полковых командиров, генералов, особенно тех, кого уже нет в живых. Этот ментик – воплощение моей души, он помогает мне забыть о насущном, творить прошлое. Надевая его, я с ним сливаюсь в одну историю, и история эта неотделима от меня. По-другому жить не умею, по-другому я умру.
– Теперь понимаю, почему ваши произведения столь реалистичны, вы пишете их глазами души, воплощая то, что видела она.
– Как рада, что вы меня понимаете! Именно так и есть! – в страстях перебила Леманн, глаза ее засверкали и, кажется, стали даже вдвое ярче обычного своего цвета.
– Глядя на картины мастеров прошлого времени, вижу мастерски исполненную работу, не более того. В ваших же творениях наблюдаю душу, причем отдельно существующую. В жизни повидал немало батальных картин, но то просто рисунки, у вас – окно в прошлое. И вот что, София, хотел бы купить несколько ваших работ, Эдмонд де Вьен устраивает вечер в Chouville. За сколько вы продадите?
– Ой… не знаю, ежели честно… заберите просто так, – застеснялась девушка. – Никогда не продавала, да и не показывала никому.
– Как это не показывали? Ладно, это мы исправим, начнем с оценки. Во сколько вы оцениваете свои работы?
– Г-н де Вьен, пожалуйста… Я не знаю, не думала об этом… Не напрашиваюсь на похвалу, вы не подумайте… Но правда не знаю! Может, в рублей десять?
– Ясно. Оценю профессиональным взглядом, – подхватил я, зачиная рассматривать работы пристальнее, но не их написанное содержание, потому как оно и без рассматривания было безупречным, а рамы, качество полотна и краски, которыми писала Соня. – Итак, София, вижу, вы пишете дорогими красками, используете только качественные материалы. За три больших картины плачу вам четыре тысячи. Так же купил бы и маленькие работы, тоже батальные, но не для себя и не на выставку, а на продажу, с вашего позволения, конечно.
Скоро пришлось вернуться на Английскую за деньгами и лакеями, которые впоследствии погрузили выкупленное мною и увезли домой. Ксения Алексеевна была рада грандиозной покупке и весьма подвижна до суетливости, чего нельзя сказать о Соне. Девушка выглядела потерянно и даже как будто напуганно, не сказала мне ни одного слова, только округляла глаза и вытягивалась, а приняв плату, вовсе помутнела и заплакала.
