Разведывательные службы мира: история, структура, миссии
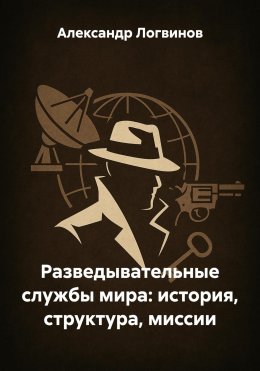
Введение
Шпионаж часто называют "второй древнейшей профессией". И действительно, разведчики и тайные агенты существуют столько же, сколько существуют государства и ведутся войны. От античных империй до цифровой эпохи правители стремились знать планы врагов и конкурентов, опираясь на умелых лазутчиков и сложные шпионские сети. Образы шпионов – людей в плащах и шляпах с миниатюрными камерами и секретными радиопередатчиками – прочно вошли в массовую культуру. Однако за романтикой кино и литературы скрывается реальность: разведка была и остается одним из ключевых инструментов государственной власти, влияя на исход войн, ход дипломатии и внутреннюю безопасность стран.
Настоящая книга задумана как научно-популярное издание для широкого круга читателей. Ее цель – помочь понять, что собой представляют разведывательные службы, как они устроены и какие задачи выполняют. Во введении мы рассмотрим базовые понятия и направления деятельности разведки, классификацию спецслужб, а также затронем этические дилеммы и культурные образы, связанные с миром разведки. Вся книга иллюстрирует эти концепции конкретными примерами из истории и современности, помогая читателю составить целостное представление об эволюции и роли разведки в мире.
Понятие разведки
Определение и роль в государственном управлении
В самом общем смысле разведка – это деятельность по сбору и анализу сведений о противниках, конкурентах или иных объектах, представляющих интерес для государства, с целью обеспечения национальной безопасности и получения стратегических преимуществ. Результаты разведывательной работы позволяют руководству страны принимать обоснованные решения в области обороны, внешней политики и внутреннего управления. Разведка традиционно называется «глазами и ушами» государства: без достоверной информации правительство подобно слепому, уязвимому перед внезапными угрозами. Полученные разведданные могут предупредить о готовящемся военном нападении, террористическом заговоре или политическом кризисе, что даёт шанс принять превентивные меры. Таким образом, спецслужбы играют важнейшую роль в системе государственного управления, обеспечивая лидеров знанием обстановки и рекомендациями на основе скрытых источников информации.
Разведка реализуется как через открытые, так и через секретные методы. Открытые источники – например, материалы СМИ, отчёты, статистика, данные из интернета – служат ценным ресурсом (так называемый OSINT, от Open Source Intelligence). Вместе с тем значительная часть разведдеятельности засекречена и выходит за рамки общедоступных данных. Специальные службы проводят тайные операции, включающие вербовку агентов, скрытое наблюдение, перехват коммуникаций и хищение секретов – всё то, что в международной практике называют шпионажем. Если открытая информация добывается легально, то шпионаж почти всегда противоречит закону (иностранные агенты действуют нелегально) – однако фактически практикуется повсеместно. Балансируя между легальными и нелегальными методами, разведка добывает сведения, которые невозможно получить иными путями.
Разведка как инструмент политики и безопасности
Помимо информирования руководства, разведка выступает активным инструментом государственной политики. Крупные державы нередко прибегают к возможностям своих спецслужб для тайного влияния на мировые события. Разведывательные службы могут участвовать в скрытой дипломатии и закулисном противоборстве: вести тайные переговоры, поддерживать союзные режимы или, наоборот, дестабилизировать правительства противников. История ХХ века изобилует эпизодами, когда спецслужбы организовывали перевороты либо финансировали вооружённые движения за рубежом, действуя в своих национальных интересах. В годы «холодной войны» ЦРУ и КГБ вели невидимый фронт по всему земному шару – от Латинской Америки до Африки и Азии – стремясь расширить влияние своих держав.
Не менее значима разведка и для обеспечения безопасности внутри страны. Она проявляется через контрразведывательные и антитеррористические меры – от разоблачения иностранных агентов на национальной территории до предотвращения террористических актов и кибератак. Лидеры всех ведущих государств мира подчёркивают необходимость сильной и эффективной разведки. Так, в стратегии национальной безопасности США отмечалось, что «сильная разведка необходима для защиты государства, позволяя предупреждать угрозы национальной безопасности, поддерживать руководство в преодолении этих угроз и находить возможности для продвижения национальных интересов дипломатическими средствами». Иначе говоря, правительство, лишённое своевременных разведданных, рискует принимать решения вслепую. Поэтому спецслужбы интегрированы в структуру власти и напрямую влияют на разработку внешней и оборонной политики, работая в тесной связке с армией, дипломатическим корпусом и правоохранительными органами.
Основные направления работы
Деятельность современных спецслужб разнообразна, но её можно условно разделить на несколько основных направлений:
Внешняя разведка. Сбор информации за пределами своей страны о планах, возможностях и слабостях иностранных государств, организаций или отдельных лиц. Внешняя разведка работает на опережение, добывая секретные сведения о военном потенциале, политических намерениях, экономических и научно-технических достижениях зарубежных держав. Такие службы, как СВР (Россия) или CIA (ЦРУ США), специализируются именно на работе за рубежом. Их агенты и аналитики пытаются пролить свет на то, что скрыто за границей: от подготовки военных акций до разработки новейших видов вооружений. Иногда задачи внешней разведки включают и проведение специальных операций – например, тайную поддержку союзников, информационные кампании или точечные акции против террористических лидеров за рубежом.
Внутренняя разведка и контрразведка. Обеспечение безопасности внутри страны путём выявления шпионов, террористов и иных угроз национальной безопасности. Термин «внутренняя разведка» в российской практике обычно не употребляется – вместо него говорят о контрразведке и оперативно-разыскной деятельности, однако суть остаётся той же: специальные службы работают на собственной территории, чтобы пресечь внешнее вмешательство и пресечь их подпольную деятельность. Например, британская MI5 и российская ФСБ противодействуют иностранным разведчикам и террористическим ячейкам, действующим в стране. Они отслеживают подозрительные контакты, разоблачают шпионские сети и предотвращают утечки секретной информации. В мирное время внутренняя безопасность тесно связана с профилактикой терроризма и экстремизма.
Военная разведка. Сбор данных военного характера, осуществляемый специализированными подразделениями вооружённых сил. Военная разведка нацелена на сведения о вооружениях, дислокации войск, планах и тактике потенциального противника. Она подразделяется на стратегическую (о долгосрочных военных возможностях государств, военно-промышленном потенциале, стратегических намерениях) и тактическую (непосредственно на поле боя: о перемещениях частей, укреплениях, целях для удара). Военную разведку ведут как специальные службы в структурах министерств обороны (пример – ГРУ в России или РУМО/DIA в США), так и разведывательные подразделения непосредственно на фронте. История показывает, что успех военных операций во многом зависит от качества разведданных: достаточно вспомнить, как своевременное вскрытие замыслов противника или взлом его шифров коренным образом меняли ход военных кампаний.
Техническая разведка. Получение информации с помощью технических средств и технологий, без непосредственного участия человека. В эту категорию входят прежде всего SIGINT (Signals Intelligence – радиоэлектронная разведка), IMINT (Imagery Intelligence – разведка с использованием изображений, например аэрокосмическая съемка) и уже упомянутая OSINT (разведка на основе открытых источников). Радиоэлектронная разведка подразумевает перехват переговоров, радио- и интернет-трафика, анализ электромагнитных сигналов – этим занимаются, например, американское АНБ (Агентство национальной безопасности) и британский Центр правительственной связи (GCHQ). Спутниковая и воздушная фоторазведка предоставляет изображения объектов: позиций войск, военных баз, пусковых шахт ракет и т.д., давая информацию о том, что невозможно наблюдать напрямую. Разведка открытых источников стала особенно актуальна в XXI веке: аналитики изучают СМИ, соцсети, научные публикации, коммерческие базы данных – любой доступный материал, позволяющий выявить скрытые связи и предсказать тенденции. Техническая разведка стремительно развивается благодаря прогрессу электроники и информатики. Современные компьютеры обрабатывают колоссальные массивы данных, находя «иголки в стоге сена», а спутники и беспилотники сделали то, что ранее скрывалось за семью печатями, видимым с орбиты.
Классификация спецслужб
В разных странах структура разведывательных органов сложилась по-разному. В целом модели можно разделить на две основные:
Универсальные службы. Это спецслужбы «широкого профиля», совмещающие в себе сразу несколько функций – внешнюю разведку, контрразведку, а порой и полицейские задачи. Классическим примером была советская КГБ, которая одновременно курировала внешнюю агентурную сеть, внутреннюю государственную безопасность и военную разведку (через подчинённое ГРУ). Подобный подход централизует разведдеятельность в одном мощном ведомстве. В наши дни пример универсальной службы – китайское Министерство государственной безопасности (MSS), ведущее как внешнюю разведку, так и контрразведку внутри страны. Преимущества такой модели – единое руководство, быстрая координация и обмен информацией между подразделениями. Универсальная служба может гибко перебрасывать ресурсы туда, где возникает наибольшая угроза. Однако есть и минусы: чрезмерная концентрация власти в одном органе чревата злоупотреблениями, а отсутствие конкуренции затрудняет объективную оценку данных. В авторитарных государствах универсальные спецслужбы порой превращаются в инструмент политических репрессий, поскольку не имеют внешних сдержек и противовесов.
Службы с чётким разделением функций. В этой модели за разные аспекты безопасности отвечают отдельные независимые ведомства. Например, в США разведывательное сообщество включает более десятка организаций: CIA занимается зарубежной разведкой, FBI – контрразведкой и борьбой с угрозами внутри страны, NSA – электронной разведкой, DIA – военной и т.д. Похожий принцип действует в Великобритании (MI6 ведает внешней разведкой, MI5 – внутренней безопасностью, GCHQ – перехватом коммуникаций) и во многих других государствах. Разделение функций позволяет каждой службе развивать глубокую экспертизу в своей области и снижает риск концентрации чрезмерной власти. Кроме того, в демократических странах такой подход упрощает гражданский и парламентский контроль: разные ведомства отчитываются перед разными комитетами и министерствами, сложнее скрыть несанкционированные операции. В то же время возникает задача чёткой координации между службами, иначе важная информация может распылиться по ведомствам и не сложиться в общую картину. Известны случаи, когда соперничество и недостаток обмена данными приводили к провалам.
Этические и правовые аспекты
Деятельность спецслужб зачастую поднимает сложные этические и юридические вопросы. Обеспечивая безопасность государства, разведка нередко балансирует на грани дозволенного, а иногда переступает через законы и нормы – как национальные, так и международные.
Проблема слежки за гражданами. Как уберечь общество от угроз и при этом не нарушить права и свободы самих граждан? Этот вопрос стал особенно острым в XXI веке. Современные технологии позволяют спецслужбам собирать данные о коммуникациях миллионов людей: фиксируются телефонные звонки, электронная переписка, перемещения. После разоблачений Эдварда Сноудена в 2013 году широкий резонанс вызвали сведения о масштабной программе электронного слежения АНБ, затрагивавшей и обычных граждан. В демократических странах подобные действия ведут к дебатам о приватности и гражданских свободах: общество требует прозрачности и отчетности от разведорганов, создания механизмов надзора (через парламент, суды, независимые комиссии). С другой стороны, спецслужбы оправдывают массовую слежку необходимостью борьбы с терроризмом и преступностью, утверждая, что без мониторинга невозможно предотвратить атаки. В авторитарных государствах контроль за гражданами со стороны органов безопасности часто носит тотальный характер: отслеживаются политические оппоненты, журналисты, активисты. Здесь этическая проблема стоит ещё острее – разведка превращается в инструмент подавления и страха, который общество опасается не меньше, чем внешних врагов.
Международное право и разведка. На удивление, шпионаж формально не запрещён и не регламентирован унифицированными нормами международного права. Хотя деятельность дипломатов и военных ограничена международными конвенциями, работа шпионов эти правила прямо не касается. Действия разведчика на чужой территории по определению нелегальны – в случае провала агента ждёт арест и суд, и международное право не защищает его, как защищает, например, военнопленного. Тем не менее страны негласно признают существование разведки как явления: шпионов ловят и обменивают, стараясь не доводить дело до крайностей. Международное право затрагивает разведку лишь косвенно – например, устанавливая принцип невмешательства во внутренние дела государств, нарушение которого может рассматриваться как недружественная операция спецслужб. Шпионские скандалы нередко приводят к дипломатическим конфликтам: высылаются подозреваемые «дипломаты», публикуются ноты протеста. Ещё сложнее обстоит дело с кибершпионажем и слежкой в глобальном интернете – здесь нет чётких границ юрисдикций, и государства регулярно обвиняют друг друга в хакерских атаках и краже данных, не имея действенных правовых механизмов пресечения. Таким образом, разведка существует в полулегальной «серой зоне» международных отношений, и каждое государство само определяет для себя степень допустимого риска и агрессивности в тайных операциях.
Образ разведчика в культуре
Тайный мир разведки всегда привлекал внимание общества, обрастая легендами и мифами. Образ разведчика стал частью массовой культуры и государственной пропаганды, порой сильно расходясь с реальностью.
Кино и литература: мифы и реальность. Со страниц романов и экранов фильмов разведчик предстаёт сверхчеловеком: элегантным героем с лицензией на убийство (вспомним Джеймса Бонда) или гениальным аналитиком, разгадывающим заговоры играючи. Голливуд и популярная литература создали целый пласт шпионского жанра, где опасности и приключения следуют одно за другим. В России культовым персонажем стал Штирлиц – образ советского разведчика, действующего в тылу врага (сериал «Семнадцать мгновений весны»). Эти герои романтизируют профессию, тогда как реальная служба разведчика далека от гламура. В действительности большая часть работы – это кропотливый сбор и анализ информации, долгие многоходовые операции под прикрытием, жизнь в постоянной конспирации. Настоящий разведчик скорее старается не выделяться, чем блистать эффектными трюками. Тем не менее благодаря книгам и фильмам у общественности сложился стойкий стереотип, в котором правда перемешана с вымыслом.
Пропаганда и формирование образа героя. Государства активно участвуют в создании позитивного образа своих разведчиков. О тайных операциях часто рассказывают уже после их рассекречивания – через документальные фильмы, мемуары ветеранов, официальные истории, призванные показать разведслужбы как щит Родины и невидимый авангард безопасности. В СССР и современной России чествование работников органов безопасности сопровождалось рассказами о выдающихся операциях и агентах, что формировало ореол героизма вокруг профессии. В других странах аналогично: например, успешные действия американских спецслужб (ликвидация Усамы бен Ладена, предотвращение крупных терактов) преподносятся как подвиги, повышающие национальную гордость. Однако пропаганда обычно умалчивает об ошибках и тёмных сторонах – проваленных миссиях, злоупотреблениях, неэтичных методах. Формируемый образ «рыцарей плаща и кинжала» служит не только для поднятия патриотического духа, но и для привлечения новых кадров в спецслужбы, легитимации самой идеи тайной деятельности во имя государства.
Таким образом, разведка – явление сложное и противоречивое, сочетающее высокую миссию по защите общества с морально неоднозначными методами. В XXI веке значение разведслужб не снижается, а лишь трансформируется: помимо традиционных задач, им приходится отвечать на вызовы цифровой эпохи – кибератаки, информационные войны, применение искусственного интеллекта в анализе данных. В следующих главах данной книги читатель найдёт исторический обзор становления крупнейших разведслужб мира (от КГБ и OSS до современных ЦРУ, MI6, «Моссад» и других), узнает об их структуре и известных операциях, сравнит различные модели (англосаксонское разделение функций и универсальные службы) и заглянет в будущее разведки. Конкретные примеры тайных миссий, повлиявших на ход истории, и общие тенденции развития разведдеятельности помогут получить более ясное представление о том, как невидимая работа спецслужб влияет на жизнь государств и на баланс безопасности и свободы в современном мире.
Часть
I
. Разведывательные службы мира: история, структура, миссии
Введение.
Первая часть книги посвящена становлению и деятельности четырех исторически значимых разведывательных служб XX века: советского КГБ, американского OSS, французского Deuxième Bureau (Второго бюро) и немецкого Абвера. Эти структуры возникли в разном геополитическом контексте и преследовали различные цели – от защиты государственной безопасности до ведения подпольных операций за рубежом. Рассмотрим историю создания каждой службы, их организационную структуру, основные задачи и методы работы, наиболее известные операции, а также причины трансформации или ликвидации этих организаций. Заключительный раздел содержит сравнительный анализ влияния указанных служб на последующее развитие мировых спецслужб – их структурное наследие, а также уроки, извлеченные из их успехов и провалов.
КГБ СССР
Создание и структура
Создание КГБ. После смерти Сталина в 1953 году руководство СССР решило реорганизовать систему госбезопасности. В марте 1954 года был образован Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР (КГБ) как «меч и щит» правящей Коммунистической партии. Первым председателем КГБ стал Иван Серов – бывший заместитель наркома внутренних дел Берии, принимавший участие в его отстранении. Создание КГБ означало объединение функций политического сыска, внешней разведки и контрразведки под жестким партийным контролем, чтобы предотвратить злоупотребления, подобные эпохе Берии.
Предшественники. КГБ стал последней инкарнацией советских органов безопасности, берущих начало от созданной в 1917 году ВЧК (Чрезвычайной комиссии) во главе с Феликсом Дзержинским. ВЧК проводила «красный террор» против врагов революции и, по оценкам историков, несет ответственность за казнь более 140 тысяч человек. В 1920-е и 1930-е годы советская госбезопасность претерпела несколько реорганизаций: ВЧК была преобразована в ОГПУ, затем в НКВД, МГБ и, наконец, после чистки Берии – в КГБ. Каждый этап сопровождался расширением функций – от подавления внутренней оппозиции до организации массовых репрессий (как во времена Большого террора 1937–1938 годов) и ведения разведывательных операций за рубежом, включая шпионаж в ядерных проектах США и Великобритании.
Структура и отделы. Точная внутренняя структура КГБ долгое время держалась в секрете. По оценкам, в КГБ насчитывалось около 20 главных управлений (так называемых главков). Каждое из них отвечало за определенное направление работы. Основные подразделения включали:
1-е Главное управление – внешняя разведка, тайные операции за рубежом и анализ полученных данных;
2-е Главное управление – контрразведка внутри страны, политический надзор за гражданами СССР и иностранцами на советской территории;
3-е Главное управление – военная контрразведка, наблюдение за армией и флотом с целью предотвращения нелояльности;
5-е Главное управление (создано в 1967 г.) – борьба с идеологическими диверсиями и инакомыслием, курировало цензуру и преследование dissident (диссидентов) (например, религиозных общин, интеллигенции, национальных меньшинств);
7-е управление – наружное наблюдение и слежка, технические операции по прослушке как советских граждан, так и иностранцев;
8-е управление – шифровально-дешифровальная служба и перехват иностранных коммуникаций (радио, телеграф);
9-е управление – охрана высшего руководства партии и правительства, кремлевская стража;
16-е управление – обеспечение правительственной связи (спецсвязи) и средств коммуникации для госучреждений;
Пограничные войска КГБ, выделенные в отдельную структуру, охраняли границы СССР.
Помимо главных управлений, в КГБ имелось множество вспомогательных подразделений: отдел кадров, секретариат, технические службы, финансовый отдел, архивы и т. д.. При КГБ действовала сеть учебных заведений для подготовки собственных кадров – специальные школы и академии, где будущие разведчики и контрразведчики проходили профессиональную подготовку. Таким образом, КГБ представлял собой огромную бюрократическую систему: по некоторым данным, к концу 1980-х его штат превышал 480 тысяч человек (включая около 200 тысяч пограничников).
Основные задачи и методы
Функции КГБ. КГБ сочетал в себе функции как внешней разведки, так и внутренней безопасности. Официально его задачи определялись в четырех направлениях:
борьба с иностранными шпионами и агентами, недопущение разведдеятельности против СССР;
выявление и расследование политических и экономических преступлений внутри страны (то есть пресечение антисоветской деятельности, экономических диверсий и пр.);
охрана государственной границы СССР (пограничная служба);
защита государственных тайн (контроль за режимом секретности и предотвращение утечек информации).
Кроме того, КГБ занимался «профилактическими» мерами, призванными устранять причины как политических, так и уголовных преступлений. Фактически это означало тотальную слежку за потенциально нелояльными элементами и подавление любых «неправильных» настроений среди населения. К концу 1960-х в КГБ было создано специальное управление по наблюдению за диссидентами в среде творческой интеллигенции и верующих. В 1970–1980-е комитет активно преследовал правозащитников, религиозных активистов, выдавал ордера на арест, подвергал опальных граждан тюремному заключению или ссылке. Среди наиболее известных жертв политического преследования КГБ – лауреаты Нобелевской премии писатель Александр Солженицын и академик Андрей Сахаров.
Методы работы. На внешнем фронте КГБ постепенно развернул широкую разведсеть по всему миру, превратившись в крупнейшую разведслужбу планеты. За годы холодной войны советским разведчикам удалось внедриться практически во все крупные западные спецслужбы и правительственные структуры. Использовались разнообразные оперативные прикрытия: одни агенты работали под видом дипломатов, журналистов, бизнесменов, другие – тайно вербовали осведомителей или крали технологии. Среди достижений КГБ – масштабное промышленное шпионаж и добыча научно-технических секретов, позволившие СССР форсировать создание атомного оружия, современных подлодок, самолетов и ракет на основе западных разработок. Параллельно велись «активные мероприятия» по дезинформации и пропаганде. Например, в 1980-е КГБ распространял фейк о том, что вирус СПИД был якобы создан в американской военной лаборатории – операция «Денвер» преследовала цель дискредитировать США на международной арене и посеять раздор внутри них.
На внутренней арене методы КГБ включали тотальное наблюдение (наружное и техническое), создание сети осведомителей по всей стране (число секретных агентов исчислялось миллионами), прослушивание телефонных разговоров, перлюстрацию почты, внедрение провокаторов в диссидентские круги. КГБ славился безжалостностью: аресты, допросы, психологическое давление, отправка неугодных в психиатрические лечебницы, показательные судебные процессы – всё это было частью арсенала в борьбе за безопасность режима. Недаром название Комитета госбезопасности стало в мировом общественном мнении синонимом тайной полиции и шпионской сети, действовавшей в интересах тоталитарного государства.
Известные операции и агенты
За десятилетия работы КГБ провел множество операций как за рубежом, так и внутри страны. Некоторые из них стали широко известны благодаря своей дерзости или влиянию на ход истории.
Дело Пенковского (1961–1962). Олег Пеньковский, полковник ГРУ (военной разведки) СССР, в 1961 году тайно предложил свои услуги западным спецслужбам и начал передавать секретную информацию США и Великобритании. В течение полутора лет он передал огромное количество данных о советских ракетных вооружениях, раскрыв, в частности, недостатки советских ядерных ракет и детали размещения ракет на Кубе. Эти сведения сыграли решающую роль во время Карибского кризиса 1962 года: американское руководство узнало о ядерном слабом месте СССР и смогло уверенно противостоять Хрущеву. Пеньковский стал самым высокопоставленным советским военным, работавшим на Запад, и, по оценкам, одним из людей, повлиявших на исход холодной войны. Однако в октябре 1962 года КГБ сумел вычислить «крота» и арестовал Пеньковского; в 1963 году его судили за измену и казнили. Дело Пеньковского стало громкой победой советской контрразведки и предупреждением для потенциальных перебежчиков.
Разведсеть Рихарда Зорге (1930-е – 1941). Хотя формально Зорге действовал до создания КГБ (в период НКВД), его часто упоминают как легендарного советского разведчика. Рихард Зорге был немецким коммунистом, работавшим журналистом в Японии. Под прикрытием корреспондента он возглавил в Токио успешную шпионскую сеть, добывавшую ценнейшие сведения для СССР. Весной 1941 года Зорге сумел сообщить советскому командованию точную дату готовящегося нападения Германии на СССР – июнь 1941 г. – однако Сталин проигнорировал это предупреждение. Зато другой доклад Зорге, отправленный в августе 1941 года, имел огромные последствия: разведчик выяснил, что Япония не планирует нападать на Советский Союз, а выберет южное направление для экспансии. Эта информация позволила советскому командованию перебросить десятки дивизий с Дальнего Востока под Москву, что сыграло решающую роль в контрнаступлении против Гитлера зимой 1941 года. В октябре 1941-го Зорге был раскрыт японской контрразведкой и арестован вместе с сообщниками. Три года он провел в тюрьме и был казнен в ноябре 1944 года. Спустя 20 лет, в 1964 году, Зорге был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Его подвиг наглядно продемонстрировал важность агентурной разведки: своевременно добытые Зорге сведения, по сути, спасли Москву от захвата нацистами.
Другие операции. КГБ успешно внедрял своих агентов влияния за рубежом. Так, в 1930–1950-е годы западные спецслужбы были потрясены раскрытием группы «Кембриджской пятерки» – высокопоставленных британских разведчиков (Ким Филби, Дональд Маклин, Гай Бёрджесс и др.), которые многие годы тайно работали на советскую разведку. Эти агенты, завербованные еще НКВД, передали Москве огромные массивы секретной информации о планах Британии и США в годы Второй мировой и начала холодной войны, включая атомные секреты, чем помогли СССР ускорить разработку ядерного оружия. КГБ также провел ряд громких операций по дезинформации. К примеру, операция «Инфекция» в 1980-х (она же «операция Денвер») пыталась убедить мир в том, что вирус HIV/СПИД создан американцами как биологическое оружие. Через подставные издания в странах Азии и Африки КГБ распространял эту ложь, что наносило ущерб репутации США и сеяло недоверие.
Подготовка кадров
Для обеспечения столь широкого спектра операций КГБ нуждался в высококлассных кадрах. Подбору и обучению сотрудников уделялось большое внимание. Вербовка зачастую проводилась еще в вузах: перспективных молодых людей из числа партийно благонадежных, владеющих иностранными языками или техническими навыками, приглашали на работу в органы. Считалось престижным попасть в высшую школу КГБ – например, в знаменитый Краснознаменный институт (в 1980-е носил имя Ю. В. Андропова), где готовили оперативников внешней разведки. Существовали и другие учебные центры для подготовки контрразведчиков, следователей, радиошифровальщиков и пограничников – целая сеть специальных учебных заведений КГБ.
Обучение включало как идеологическую подготовку (офицеры КГБ должны были быть убежденными коммунистами), так и практические дисциплины: оперативное дело, методика вербовки, техники слежки, конспирация, работа с агентурой, владение оружием и приемами рукопашного боя, радиодело, криптография. В ходе учебы стажеры изучали иностранные языки, страны потенциального противника, психологию. Важнейшим качеством чекиста считалась преданность партии и государству, поэтому при КГБ существовали партийные комитеты – органы политического контроля за личным составом. Они следили за благонадежностью сотрудников, проводили регулярные политзанятия.
Уже на службе кадровый состав периодически проходил переподготовку, многие получали второе высшее образование (например, переводчики, инженеры) для расширения профессионального кругозора. За провинности существовала своя система взысканий, вплоть до увольнения или уголовного наказания, поскольку от офицеров органов требовалась безукоризненная дисциплина и секретность. Такой тщательный отбор и закрытая корпоративная культура сформировали в КГБ особую элиту силовиков, обладающих обширными связями. Недаром спустя годы именно выходцы из КГБ («чекисты») составили ядро правящей бюрократии постсоветской России.
Причины распада и трансформация
КГБ в период перестройки. В 1985 году к власти в СССР пришел Михаил Горбачев, провозгласивший курс на реформы (перестройку) и открытость (гласность). Эти изменения неизбежно затронули и органы госбезопасности, хоть Горбачев и ценил их вклад во внешнюю разведку. КГБ оказался в двусмысленном положении: с одной стороны, он продолжал выполнять привычную роль «охранителя режима», с другой – политические реформы подрывали его полномочия. В конце 1980-х ослабление цензуры и рост независимой активности граждан заставили КГБ смягчить откровенно репрессивные методы. Тем не менее консервативная часть руководства КГБ была недовольна курсом Горбачева.
В августе 1991 года произошел путч ГКЧП – попытка государственного переворота с целью остановить распад СССР. Одним из главных заговорщиков стал председатель КГБ Владимир Крючков. Руководство Комитета участвовало в организации введения чрезвычайного положения. Путч провалился, и после этих событий репутация КГБ была подорвана окончательно. Стало очевидно, что сама структура слишком громоздка и лояльна старому режиму, чтобы вписаться в новые реалии.
Роспуск КГБ. В период распада СССР (осень 1991 года) президент РСФСР Борис Ельцин инициировал коренную реформу органов безопасности. КГБ СССР был упразднен, а на его базе созданы отдельные ведомства: Федеральная служба безопасности (ФСБ) для внутренних функций, Служба внешней разведки (СВР) для зарубежной разведки, а также ряд самостоятельных служб – например, Федеральная пограничная служба и Управление охраны высоких должностных лиц. В союзных республиках на основе местных управлений КГБ возникли собственные спецслужбы. Так завершилась история Комитета госбезопасности.
Наследие. В постсоветский период многие высокопоставленные кадры КГБ продолжили карьеру в новых структурах. Ни само ведомство, ни его сотрудники не понесли наказания за прошлые репрессии. Более того, как отмечают исследователи, культура КГБ – с ее разветвленной агентурой, засекреченностью и влиянием на политику – во многом сохранилась в России. Бывший офицер КГБ Владимир Путин, став президентом, прямо заявил: «Не бывает бывших чекистов». Многие черты современной российской власти (опора на силовые органы, недоверие к оппозиции, активная разведдеятельность за рубежом) восходят к наследию КГБ. Одновременно опыт КГБ стал и уроком: считается, что Комитет, обладая огромной мощью, не сумел предотвратить крах советской системы. Исследования указывают, что КГБ страдал от той же бюрократической неэффективности и коррупции, что и прочие институты СССР, а главное – от недостатка объективного анализа обстановки. Он не смог вовремя распознать нарастающий кризис в экономике и обществе. Этот исторический провал подчеркнул, что даже самая могущественная спецслужба бессильна, если парализован политической конъюнктурой и не в состоянии трезво оценивать реальность.
OSS США
Возникновение во Второй мировой
Предыстория. Вплоть до начала 1940-х годов Соединенные Штаты не имели единого центрального разведывательного органа. Разведывательная информация собиралась разрозненно различными департаментами – военной разведкой армии (MID), Управлением военно-морской разведки (ONI), дипломатами в Госдепартаменте, а контрразведкой занималось ФБР. Эта система оказалась неэффективной: отсутствовала координация, ведомства конкурировали между собой. После внезапного удара японцев по Перл-Харбору в 1941 году президент Франклин Рузвельт убедился в необходимости реформ. Еще в июле 1941 года он поручил герою Первой мировой войны генералу Уильяму Доновану создать новую структуру – Координатора информации (COI). Донован, прозванный «Диким Биллом», получил широкие полномочия собирать и анализировать сведения для руководства страны.
Создание OSS. 13 июня 1942 года по указу Рузвельта на базе COI было образовано Управление стратегических служб (Office of Strategic Services, OSS). Эта организация подчинялась Объединенному комитету начальников штабов (то есть военному командованию) и стала первой в истории США централизованной службой внешней разведки и спецопераций. Донован во главе OSS стремился воплотить свою концепцию «национального разведцентра», который объединял бы под одной эгидой все направления: сбор разведданных (шпионаж), анализ информации, проведение диверсий и подпольных операций, контрразведку и даже научно-технические разработки специального назначения. Фактически OSS стал прообразом современной ЦРУ по функциям.
Структура организации. Внутри OSS выделились два крупных блока. Первый – разведывательно-аналитический («Intelligence Services») – включал несколько отделов:
Secret Intelligence (SI) – собственно разведка: вербовка агентов за границей, добыча секретных сведений;
X-2 – контрразведка: выявление и нейтрализация вражеских агентов, а также работа с ультра-секретной перехваченной информацией (ULTRA);
Research & Analysis (R&A) – исследование и анализ: обрабатывал поток сведений, поступающих от SI, и открытых источников для подготовки отчетов руководству.
Отдел R&A стал гордостью OSS: Донован привлек туда около 900 выдающихся ученых – историков, экономистов, географов, социологов, юристов. Эти эксперты из лучших университетов (среди них Артур Шлезингер-мл., Уолт Ростоу, Герберт Маркузе, Ральф Банч и др.) анализировали военную экономику врага, эффективность бомбардировок, политическую ситуацию в разных странах. Их доклады влияли на стратегию союзников и заложили основу американской аналитической школы разведки, доказав ценность обработки открытой информации.
Второй блок OSS – оперативный, или подразделения стратегических услуг («Strategic Services Operations») – отвечал за практическое ведение неконвенциональной войны. Главным отделом здесь был:
Special Operations (SO) – специальныe операции, создан по образцу британского Управления специальных операций (SOE). Отдел SO занимался организацией партизанского движения, диверсиями, саботажем в тылу врага. Он готовил небольшие команды бойцов для заброски в тыл противника, снабжал их оружием и инструкциями.
Также в OSS существовали отделы психологической войны (Morale Operations – пропаганда и дезинформация врага), технический отдел (разработка шпионских гаджетов, оружия, например, пистолетов-ручек, взрывчатки, маскировочных средств), и вспомогательные службы (школы подготовки, финансовый, административный отделы и т. д.).
Численность OSS быстро росла: если в начале войны это была небольшая группа энтузиастов, то к концу 1944 года в OSS служило около 13 000 человек, из них порядка 7,5 тысяч – за пределами США. Примечательно, что около 35 % персонала составляли женщины, занимавшие должности аналитиков, радистов, шифровальщиц и даже полевых агентов. OSS укомплектовалась людьми самых разных профессий и социального положения – от университетских профессоров до шеф-повара (будущая знаменитость Джулия Чайлд) и чемпионов спорта. Присутствие большого числа выпускников элитных вузов и представителей высшего общества породило саркастичное прозвище «Oh, So Social» («Ах, какие светские») для обозначения OSS.
Методы и операции
Подготовка агентов. OSS с нуля разработала систему обучения разведчиков и диверсантов, переняв многое у союзников (прежде всего британцев). Кандидатов отбирали из добровольцев армии, флота и морской пехоты, а также гражданских специалистов (особенно ценились владение языками и знание других стран). Курсанты проходили жесткую тренировку: их обучали стрельбе, рукопашному бою, подрывному делу (в том числе использованию новейших пластичных взрывчаток), парашютным прыжкам, ориентированию на местности, конспирации, радиоделу и методам шпионажа. Существовали секретные учебные центры на территории США и в Англии, где британские инструкторы передавали свой опыт. Например, будущих оперативников OSS обучали приемам британской школы SOE: как организовать саботаж на заводе, взорвать мост, наладить связь с подпольем.
Партизанские отряды и диверсии. OSS сформировала особые боевые единицы – Operational Groups («оперативные группы») – из 15–30 бойцов каждая, для действий в тылу врага в форме армии США (чтобы в случае захвата их считали военнопленными, а не казнили как шпионов). Эти группы забрасывались по воздуху или морем в районы боевых действий. Они сражались в тесном контакте с местными партизанами и силами Сопротивления в Европе и Азии. Так, в оккупированной Франции OSS совместно с британцами создала отряды «Джедбург» (Jedburgh teams) – небольшие смешанные группы из офицера OSS, офицера SOE и радиста, часто с добавлением французского бойца. Летом 1944 года более 90 таких команд были сброшены с парашютами во Францию перед высадкой союзников в Нормандии. «Джедбурги» координировали снабжение французских маки оружием, проводили разведку и устраивали диверсии против немцев, дезорганизуя их тылы во время операции «Оверлорд».
В Азии прославилась Детachment 101 OSS – спецподразделение, действовавшее в Бирме. Начиная с 1943 года, отряд 101 наладил сотрудничество с горным народом качинов: инструкторы OSS обучили и вооружили около 11 000 качинских партизан. Эти нерегулярные силы отлично знали джунгли и, при поддержке американских офицеров, собирали разведданные о японских войсках, наводили авиацию на цели, подрывали мосты и коммуникации, спасали сбитых летчиков союзников. К 1945 году усилиями Detachment 101 была практически очищена от японцев северная Бирма; при этом соотношение потерь составляло всего 27 американцев на 15 000 уничтоженных врагов – выдающийся результат для партизанской войны.
OSS также проводила операции в Китае, Малайе, на Филиппинах, поддерживая местные анти-японские движения. В Таиланде OSS организовала подполье «Свободный Таиланд»: из числа тайских студентов, обучавшихся в США, завербовали и подготовили агентов, которых забрасывали на родину для подпольной борьбы с японскими оккупантами. Эти эмиссары установили связь с тайским сопротивлением, передавали разведданные о японских войсках и готовили почву для мирной сдачи японского гарнизона в 1945 году.
Разведка и анализ. Наряду с боевыми операциями, OSS уделяла большое внимание разведывательному сбору информации. По всему миру офицеры SI устанавливали тайные резидентуры. Например, в нейтральной Швейцарии агентом OSS был Аллен Даллес (будущий директор ЦРУ), который вел переговоры с представителями немецкой оппозиции и добывал ценные сведения о нацистской Германии. В Испании, Португалии, Швеции – других нейтральных странах – работали представители OSS под дипломатическим прикрытием. Контрразведывательный отдел X-2 тесно взаимодействовал с британской MI5 и MI6, используя засекреченные данные радиоразведки ULTRA. Получая дешифрованные перехваты немецких сообщений, X-2 мог выявлять вражеских агентов и играть противнику дезинформацию. Именно X-2 курировало знаменитую «систему двойного креста» (Double-Cross System), в рамках которой британская контрразведка перехватила практически всех немецких шпионов, заброшенных в Великобританию, и превратила их в канал дезинформации для нацистов. С осени 1940 года по март 1941 года немецкая разведка пыталась забросить более 20 агентов в Англию – всех их британцы либо арестовали, либо убедили добровольно сдаться; ни один настоящий германский агент не остался на свободе. Затем, в сотрудничестве с OSS, двойные агенты снабжали немецкое командование тщательно продуманной ложной информацией (например, о мнимой готовящейся высадке союзников в Па-де-Кале вместо Нормандии), что сыграло ключевую роль в успехе операций «Оверлорд» и «Фортитьюд» (стратегической дезинформации перед D-Day).
Пропаганда и технологии. В OSS существовал отдел Morale Operations (МО), занимавшийся психологической войной. Он распространял в странах Оси поддельные листовки, подрывные радиопередачи, слухи с целью посеять панику и раздор. Одновременно технические специалисты OSS изобрели множество хитроумных гаджетов: миниатюрные фотоаппараты, «смертельную помаду», бесшумные пистолеты, устройства для незаметной передачи сообщений и т. п.. Многие из этих новшеств были заимствованы или доработаны на основе британских образцов, так как Донован тесно сотрудничал с Уинстоном Черчиллем и руководством британской разведки. Известно, что при создании OSS британцы поделились своим опытом и даже направили специалистов (включая легендарного агента Сидни Рейли, если верить некоторым источникам) для помощи американцам. OSS, в свою очередь, экспериментировало с новыми идеями – например, задействовало голливудских кинематографистов для постановки правдоподобных инсценировок диверсий, или привлекало психологов для разработки методов допроса.
Расформирование OSS. После победы над Германией и Японией будущее OSS оказалось под вопросом. Осенью 1945 года новый президент Гарри Трумэн, столкнувшись с недовольством военных и ФБР, принял решение упразднить OSS. 1 октября 1945 года Управление стратегических служб официально прекратило существование. Его аналитическое подразделение R&A было передано Государственному департаменту, а оперативные части (SI и X-2) – Военному департаменту, под эгиду временной Стратегической службы (SSU). Однако уже вскоре, в январе 1946 года, было создано Центральное разведывательное управление (ЦРУ) как постоянная цивильная разведслужба США, а в сентябре 1947 года ЦРУ получило законодательное оформление. Примечательно, что приблизительно треть сотрудников новообразованного ЦРУ составляли ветераны OSS. Более того, четверо из первых директоров ЦРУ в 1950–70-е годы служили ранее в OSS, включая Аллена Даллеса и Ричарда Хелмса.
Наследие OSS. Несмотря на короткий срок существования (три с небольшим года), OSS оставило глубокий след. Оно стало фундаментом, на котором была выстроена вся современная разведывательная структура США. Вклад OSS признан официально: в 2006 году Конгресс США посмертно наградил Управление стратегических служб Золотой медалью Конгресса «за заслуги перед нацией». OSS породило не только ЦРУ – его прямую преемницу, но и специальные подразделения вооруженных сил. Так, «Зеленые береты» (Силы спецназначения армии США) и «Морские котики» (спецподразделения ВМС) ведут свою историю от оперативных групп SO и морской разведки OSS. Опыт подготовки «джедбургов» стал основой для тренировки спецназа в 1950-х. OSS привнесло в американскую практику концепцию единого разведцентра, объединяющего сбор информации, анализ и специальные операции – принцип, актуальный и сегодня. Как отмечено в материалах ЦРУ, современное Агентство во многом унаследовало от OSS кадры, подходы и даже дух авантюризма и инноваций. Пожалуй, главный урок OSS – необходимость координации разведдеятельности на национальном уровне. Разрозненность, существовавшая до войны, сменилась пониманием того, что для успеха нужен синтез всех источников и методов. OSS продемонстрировало, насколько эффективной может быть нестандартная война – от поддержки партизан до информационных операций. Этот опыт лег в основу многих операций ЦРУ и специальных сил США в период холодной войны и позже.
Deuxième Bureau (Франция)
Разведка в межвоенный период
Создание и роль. Deuxième Bureau de l’État-major général – «Второе бюро Генерального штаба» – было создано во Франции после тяжелого поражения во Франко-прусской войне 1870–1871 годов. Оно стало первым постоянным органом военной разведки Франции. Формально Второе бюро являлось 2-м управлением штаба сухопутных войск и отвечало за стратегическую разведку за рубежом (прежде всего относительно потенциального противника – Германии), а также за контрразведку внутри вооруженных сил. До конца XIX века эта структура была весьма скромной: разведданные добывались главным образом через военных атташе при посольствах и через агентурную сеть Секции статистики – так называлось подразделение Генштаба, ведавшее сбором военных сведений из открытых и тайных источников.
Одним из громких эпизодов ранней истории французской разведки стало «дело Дрейфуса» (1894). Капитан штаба Альфред Дрейфус, служивший во 2-м бюро, был ложно обвинен в шпионаже в пользу Германии – его арестовали на основании сфальсифицированных улик, подброшенных сотрудниками военной разведки. Дрейфус был осужден, что вызвало общественно-политический скандал, расколовший французское общество на десятилетие. В итоге выяснилось, что настоящим германским шпионом был другой офицер, а Дрейфус полностью реабилитирован. Этот случай подорвал доверие к военной контрразведке, и в 1899 году функции по борьбе с иностранными агентами внутри страны были изъяты из ведения Генштаба и переданы гражданской полиции – Сюрте женераль (Главному управлению государственной безопасности) при МВД. Таким образом, накануне Первой мировой войны Второе бюро сосредоточилось на внешней разведке, тогда как контршпионажем внутри Франции занималась полиция.
Межвоенный период (1918–1939). После окончания Первой мировой войны Франция стремилась сохранить свое превосходство и обезопаситься от возрождения германской угрозы. Deuxième Bureau продолжало мониторить военный потенциал соседей, прежде всего побежденной Германии, которая по Версальскому договору была лишена права иметь большую армию и разведслужбу. Французская разведка активизировала агентурную работу и использование открытых источников (например, внимательно изучались немецкие газеты, технические журналы, патентные заявки, чтобы уловить признаки скрытой милитаризации). Военные атташе во французских посольствах в Берлине, Риме, Варшаве и др. регулярно присылали отчеты о состоянии армий соответствующих стран.
Одним из значимых успехов французской разведки стала операция по получению данных о шифровальной машине «Энигма». В 1931 году немецкий инженер Ганс-Тило Шмидт, служивший в шифровальном отделе рейхсвера, по собственным мотивам предложил французам секретные документы об новом немецком шифраторе. Под псевдонимом «Agent Asché» он передал через офицера французской разведки Гюстава Бертрана копии инструкций и таблиц настроек военной модели «Энигмы». Французам самим не удалось взломать немецкий код, но они поделились добытыми материалами с союзниками-поляками. Польские математики во главе с Марианом Реевским, получив ключевые сведения от Бертрана, сумели реконструировать схему соединения роторов «Энигмы» и наладить чтение германских радиограмм. В результате в предвоенные годы и даже некоторое время во Вторую мировую союзники читали значительную часть немецкой секретной переписки. Этот эпизод иллюстрирует дальновидность Deuxième Bureau: даже не сумев самостоятельно использовать информацию, французы способствовали общему делу союзников. (Правда, сам Шмидт был раскрыт гестапо в 1943 году и погиб.)
В межвоенный период французская разведка также следила за ситуацией в других странах Европы – Италии (особенно после прихода к власти Муссолини), Испании (где в 1936–1939 гг. шла гражданская война; там французы поддерживали контакты с республиканцами), а также в Восточной Европе. Важной задачей было обнаружение нарушений Германией условий Версаля. Так, агентура и информаторы Deuxième Bureau в начале 1930-х донесли о тайных военных соглашениях Веймарской Германии с Советским Союзом (например, о совместных тренировочных центрах для германских танкистов и летчиков на советской территории). Французская разведка также выявила факты скрытого перевооружения Рейхсвера, рост военной промышленности после прихода Гитлера в 1933. Однако политическое руководство Франции не всегда решительно реагировало на эти предупреждения. Например, когда Германия ввела войска в Рейнскую демилитаризованную зону в 1936 г., разведданные указывали на ограниченный характер сил, и Франция могла бы сорвать эту акцию – но предпочла не вмешиваться.
Организационные изменения. В 1930-е структура французской разведсообщества претерпела путаницу. Поскольку военная контрразведка оставалась под МВД, возникла проблема обмена информацией между военными и полицией. В 1937 году правительство Леона Блюма попыталось упорядочить систему безопасности метрополии, создав в МВД Центральное разведывательное бюро (BCR) под руководством полковника Луи Риве. BCR должно было координировать сведения между Сюрте (внутренней безопасностью) и Генштабом. Однако соперничество ведомств никуда не делось: военные ревниво относились к вмешательству полиции в свои дела, и обмен данными оставался несовершенным. Накануне войны, в 1938–1939, Франция усилила наказания за шпионаж, сведя воедино все разрозненные законы по государственной безопасности.
Разведка в колониях
Французская колониальная империя между мировыми войнами простиралась от Северной и Экваториальной Африки до Ближнего Востока (мандаты в Сирии и Ливане) и Юго-Восточной Азии (Индокитай). Управление этими территориями требовало тщательно выстроенной системы колониальной разведки и безопасности. На местах действовали: военная разведка (Service de Renseignement, SR) армейских частей, отвечавшая за внешние и внутренние военные сведения, и гражданская Сюрте (политическая полиция), контролируемая Министерством колоний или местной администрацией. Эти структуры должны были предупреждать мятежи, собирать информацию о настроениях населения, противодействовать иностранному влиянию.
В условиях, когда европейские колонизаторы сталкивались с сильным сопротивлением местных народов, роль разведслужб в удержании власти резко возрастала. Как отмечают историки, колониальное государство фактически превращалось в «государство-разведчика», где весь административный аппарат занимался сбором информации и контролем за туземным населением. Например, во французском мандате Сирия (1920–1940) и протекторате Марокко (с 1912 г.) местное общество было хорошо организовано и зачастую враждебно к чужеземному владычеству. Это требовало от Франции опоры на мощный репрессивно-разведывательный аппарат. Французская Сюрте тщательно отслеживала деятельность националистических движений, лидеров племен, религиозных общин, используя информаторов и подкуп. Военная разведка SR в колониях занималась агентурой среди местных войск, перехватом переписки, иногда – провокациями, чтобы выявить заговорщиков.
Ярким примером значимости разведки стала ситуация во Французском Индокитае. 10 февраля 1930 года произошел мятеж в Йен-Бай – восстание солдат-вьетнамцев против французских офицеров. Несмотря на то что заговор готовился тайно, он свидетельствовал о провале французской разведки, не разглядевшей настроения в колониальных частях. После подавления восстания французские власти провели разбор полетов. Были введены реформы, направленные на предотвращение подобных инцидентов. В частности, усилена координация между военной разведкой и гражданской администрацией: создан механизм обмена сведениями о настроениях среди туземных частей, либерализованы правила увольнения ненадежных солдат из армии. Французских офицеров обязали изучать язык и культуру местных народов, чтобы лучше понимать подчиненных. Также было решено разбавить вьетнамские подразделения солдатами из других этносов (лаосцев, кабильцев, африканцев), чтобы снизить риск сговора. Эти меры демонстрируют, что опыт восстания вынудил французов признать необходимость более эффективной разведки и контрразведки в колониальной армии.
В Северной Африке (Алжир, Тунис, Марокко) французские спецслужбы также играли ключевую роль. Они внедряли осведомителей в среду националистов, отслеживали контакты местных активистов с врагами Франции (например, с итальянскими или немецкими агентами, пытавшимися подогревать антиколониальные настроения). Во время Рифской войны (1920-е) в Марокко против повстанцев Абдель-Крима французская разведка взаимодействовала с испанскими коллегами, чтобы пресечь поставки оружия и разбить повстанческую коалицию.
Однако, несмотря на все усилия, полностью удержать ситуацию под контролем было сложно. Колониальные спецслужбы нередко недооценивали степень народного недовольства или переоценивали лояльность туземных элит. К концу 1930-х по империи прокатилась волна протестов и восстаний (например, восстание Друзов в Сирии в 1925–1927, где французам потребовалось два года жестких мер для его подавления). Это показало пределы возможностей разведки: силовое подавление очагов сопротивления порой лишь загоняло проблему внутрь, а не решало ее. Тем не менее информация, собранная Deuxième Bureau и Сюрте в межвоенный период, стала основой для послевоенных действий – как в плане репрессивных мер, так и в плане возможных компромиссов с национальными движениями.
Разгром 1940 года. Когда в сентябре 1939 года началась Вторая мировая война, французская разведка в целом правильно оценивала численность и дислокацию вермахта. Тем не менее весной 1940 года Франция потерпела сокрушительное поражение от нацистской Германии всего за шесть недель. Частично это было связано с просчетами разведки: французский Генштаб, полагаясь на имевшиеся сведения, ожидал главного удара немцев через Бельгию на севере, тогда как на самом деле немецкие танковые колонны прорвались через Арденнские горы – участок, считавшийся труднопроходимым и слабо прикрытый войсками. Такая стратегическая внезапность стала возможна, потому что враг сумел ввести в заблуждение союзников насчет направления главного удара. Возможно, французская военная разведка недостаточно настойчиво предупреждала о концентрации немецких сил в Арденнах или ее предупреждения тонули в общей уверенности командования в непригодности тех лесистых районов для массированной атаки. Как бы то ни было, капитуляция Франции в июне 1940 года означала конец Второго бюро в его довоенном виде – с падением Третьей республики эта структура была распущена вместе со всем прежним Генштабом.
После разгрома Франции часть кадров Deuxième Bureau примкнула к движению Свободной Франции генерала де Голля, создав на базе 2-го бюро Службу разведки (Service de Renseignement, SR) штаба де Голля в Лондоне. Другая часть специалистов оказалась в подчинении режима Виши (коллаборационистского правительства) или ушла в тень. В 1943 году де Голль и генерал Жиро объединили свои разведывательные структуры, сформировав Общее управление специальных служб (DGSS), которое затем эволюционировало в Главное управление исследований (DGER). После освобождения Франции в 1944–45 гг. DGER было преобразовано в новую спецслужбу – Службу внешней документации и контршпионажа (SDECE). Она стала наследницей Второго бюро и свободнофранцузской разведки, а позднее, в 1982 г., превратилась в современную Генеральную дирекцию внешней безопасности (DGSE).
Таким образом, Deuxième Bureau сыграло важную роль в становлении французской разведки. В межвоенные годы оно накопило ценные уроки: необходимость разделения военной разведки и политической полиции; значение шифровальной войны и агентурной работы; важность координации с союзниками. Его провалы – например, скандал с Дрейфусом или неожиданность блицкрига 1940 – привели к выводам, которые повлияли на послевоенную реформу французских спецслужб. А успехи – такие как история с «Энигмой» – вошли в историю разведки как пример дальновидности и интернационального сотрудничества разведсообщества.
Абвер (Германия)
Деятельность в годы Второй мировой
Статус и задачи. Абвер (Abwehr) – военная разведка Германии – формально был создан еще в 1920 году в рамках рейхсвера, однако наибольшего размаха достиг при нацистском режиме. С 1935 года Абвер возглавил адмирал Вильгельм Канарис, при котором эта служба действовала в составе Вермахта (ОКВ) и отвечала за военную разведку и контрразведку во время Второй мировой войны. Организационно Абвер делился на три основных отдела:
Абвер I – разведка (шпионаж) против внешних врагов: сбор информации о вооруженных силах противника, экономике, политической обстановке;
Абвер II – диверсии и подрывная деятельность: организация саботажа, поддержка сепаратистских или антибританских движений за рубежом (например, связи с ирландскими, индийскими националистами), подготовка специальных подразделений (таких как полк «Бранденбург», совершавший рейды в тылу врага в форме противника);
Абвер III – контрразведка: защита германских военных объектов от проникновения шпионов, дезинформация врага, выявление саботажа на территории Рейха.
Абвер имел разветвленную сеть полевых бюро – абверштелле (Ast) – в каждом военном округе Германии. Каждое «Аст» отвечало за работу в своем регионе и имело секции I, II, III (разведка, диверсии, контрразведка). За границей сотрудники Абвера часто работали под прикрытием дипломатических миссий или торговых представительств, называвшихся «военные организации» (KO). К началу войны Абвер накопил немалый опыт: он установил контакты с украинскими националистами против СССР, с индийскими националистами против Британской империи, обменивался информацией с японской разведкой. Еще до войны немецким разведчикам удалось получить определенные сведения о промышленном и военном потенциале США, а также завести информаторов в некоторых соседних странах.
Успехи первых лет. В начале Второй мировой войны Абвер добился ряда успехов. В 1940–41 годах его агенты собрали информацию, способствовавшую стремительным победам Вермахта в Европе. Так, немецкая разведка сумела частично деморализовать нидерландское сопротивление, запустив операцию «Englandspiel» в Нидерландах: совместно с гестапо были захвачены почти все забрасываемые британские агенты SOE, которых немцы использовали для передачи дезинформации обратно в Лондон. Эта «игра» позволила Абверу обмануть англичан относительно настоящего положения дел в Голландии. В Югославии и Греции в 1941 году разведданные Абвера помогли выявить слабые места в обороне, и страны были быстро покорены.
Абвер активно задействовал диверсионные группы «Бранденбург», которые внедрялись в тыл врага перед наступлением немецких войск. Например, в 1941 году «бранденбуржцы» захватывали мосты в Польше и на Украине, переодевшись в форму польской или советской армии, и удерживали их до подхода основных сил. Эти операции считались весьма успешными.
В Советском Союзе поначалу Абвер также добыл ценные сведения, используя антисоветски настроенных перебежчиков. До войны Канарис наладил контакты с некоторыми белоэмигрантскими кругами и украинскими националистами. Однако уже вскоре после начала операции «Барбаросса» выяснилось, что действовать против СССР куда сложнее, чем против западных демократий. Советские органы (НКВД и ГРУ) сумели провести против Абвера эффективные радиоигры. Классический пример – операция советской военной контрразведки «Монастырь»: в 1941 году агент Александр Демьянов убедил Абвер, что он представитель антисталинского подполья, и начал снабжать немцев ложными сведениями. В частности, осенью 1942 года Демьянов, внедренный к Абверу под псевдонимом «Макс», дезинформировал немцев о положении на советско-германском фронте. Он убедил немецкое командование, что советские войска под Москвой слишком слабы, чтобы наступать, благодаря чему вермахт недооценил риск контратаки под Сталинградом. В итоге 6-я армия Паулюса оказалась окружена. Этот эпизод – лишь один из примеров, когда двойные агенты ввели Абвер в заблуждение, стоившее Германии дорого.
Еще одной слабостью Абвера стала ставка на количество агентов в ущерб качеству. Отчеты указывают, что набор агентов часто проводился поспешно, без достаточной проверки, поэтому в ряды немецкой агентуры попадали случайные люди. Многие быстро проваливались: например, немецкие шпионы, высаженные в Англии, совершали грубые ошибки – платили за еду немецкими купюрами, неправильно пользовались английскими мерами и весами, допускали ляпы в документах. Практически всех их британская контрразведка быстро вылавливала. С осени 1940 по весну 1941 г. 21 немецкий агент был отправлен в Великобританию – 20 из них были схвачены или сами сдались, один покончил с собой при поимке. Поставленные перед выбором – сотрудничать или виселица – многие согласились стать двойными агентами на службе у британцев. В результате германское командование до конца войны получало из Лондона в основном тщательно подделанные сведения, что привело к крупным стратегическим просчетам, например, касательно места высадки союзников в 1944 году.
Конфликт с гестапо
Внутри Третьего рейха Абвер постоянно соперничал с другими спецслужбами, прежде всего с СД и гестапо – организациями безопасности нацистской партии (СС). Глава СС Генрих Гиммлер и его подчиненный Рейнхард Гейдрих с подозрением относились к Канарису и военной разведке. Они стремились сосредоточить всю разведывательную деятельность в своих руках. С 1939 года СД (служба безопасности СС) тоже занялась внешней разведкой, а гестапо – контрразведкой в оккупированной Европе, порой дублируя и перехватывая функции Абвера. Между ведомствами развернулась «война разведок». Гейдрих организовывал слежку за сотрудниками Абвера, собирал компромат. Он, например, обвинял Канариса в пессимизме и «пораженческих настроениях» после неудач на Восточном фронте.
В 1943 году напряжение достигло пика. 10 сентября 1943 года гестапо провело операцию против группы антинацистски настроенных интеллектуалов в Берлине – так называемый «чаепитие у госпожи Зольф» (Solf Circle). Среди присутствующих на том роковом собрании был агент гестапо под прикрытием, который донес на участников. В результате гестапо арестовало ряд людей, близких к оппозиции; некоторые из них имели связи с офицерами Абвера. Например, среди казненных по этому делу оказался Отто Кипп, знакомый ряда сотрудников Абвера. Это дало повод Гиммлеру обвинить Абвер в соучастии в заговоре.
В это же время несколько сотрудников Абвера за рубежом дефектировали на сторону союзников, опасаясь репрессий. В феврале 1944 года в Стамбуле муж и жена Эрих и Элизабет Вермеерены, агенты абверштелле, узнав об арестах в Берлине, решили бежать и сдались британцам. Аллен Даллес (OSS) докладывал в Вашингтон, что Вермеерены передали ценную информацию. Он же сообщил, что Абвер вот-вот будет подчинен СД. Эти прогнозы вскоре подтвердились.
После провала покушения на Гитлера 20 июля 1944 года отношения между Абвером и СС завершились катастрофой для разведки. Выяснилось, что ключевые фигуры заговора (генерал Тресков, полковник Остер и др.) были связаны с Абвером или служили в нем. Адмирал Канарис уже в феврале 1944 года был отстранен от должности, а его ведомство – расформировано. Официально 18 февраля 1944 года Абвер вошел в состав Главного управления имперской безопасности (RSHA) под руководством Гиммлера. Многие сотрудники Абвера были переведены в новое VI управление РСХА (внешняя разведка СС) под командование Вальтера Шелленберга. Других подозреваемых в нелояльности арестовали. Сам Канарис был помещен под домашний арест, а после расследования его участие в антигитлеровском заговоре стало очевидным для нацистов. В апреле 1945 года, за несколько недель до падения рейха, Канарис и ряд его ближайших коллег (Ганс Остер, Ганс Дёница и др.) были казнены по личному приказу Гитлера в концлагере Флоссенбюрг.
Таким образом, конфликт с гестапо привел не только к институциональной ликвидации Абвера, но и к физическому уничтожению значительной части его руководства. Эта внутренняя вражда сильно ослабила германскую разведку в решающие годы войны, когда единство командования и точность информации были особенно важны.
Провалы и ликвидация
Несмотря на отдельные успехи в начале войны, в целом деятельность Абвера оценивается историками как неэффективная и полная провалов. Немецкая разведка проиграла своим противникам информационную войну практически на всех фронтах. На Западе британская контрразведка полностью перехватила сеть Абвера: к 1944 году все шпионы, которых Берлин считал своими «глазами» в Британии, на деле работали под контролем MI5, снабжая немцев продуманной смесью правды и лжи. Это привело, к примеру, к тому, что нацистское командование до последнего ожидало основного удара союзников в районе Па-де-Кале, а не в Нормандии, и держало там крупные силы даже после начала высадки.
На Востоке Абвер катастрофически недооценил советскую контрразведку. СССР провел против немцев ряд блестящих радиоигр, дезинформировав о планах крупных операций (как в случае Сталинграда и Курской дуги). Немецкие аналитики (отдел Fremde Heere Ost под руководством Рейнхарда Гелена) часто получали искаженные данные, в том числе через советских подставных «белогвардейцев», поддерживавших радиосвязь с Абвером. Например, сеть фиктивных радиостанций «Max», созданная НКВД, в 1944 году дезориентировала немецкое командование относительно советских планов на центральном участке фронта, что способствовало успеху советского наступления летом 1944 года. Как признавалось впоследствии, доверие Абвера к таким источникам обернулось тяжелыми поражениями.
Серьезным провалом стала неспособность Абвера выявить крупные шпионские сети союзников на оккупированных территориях. Например, в Австрии действовала антинацистская группа священника Генриха Майера (шпионская сеть «CASSIA»), которая передавала через OSS ценные сведения о немецком оружии – ракетах Фау-1 и Фау-2, танках «Тигр», самолетах – и даже сообщила данные о нацистских концлагерях. Абвер пропустил деятельность этой сети у себя под носом; раскрыли ее лишь усилиями гестапо, что стало большим позором для военной разведки. Хотя гестапо арестовало Майера и коллег (более 20 человек были казнены), даже под пытками немцы не смогли уяснить полный масштаб утечки и ущерб, нанесенный их секретным проектам.
Наконец, идеологические разногласия внутри Третьего рейха стали причиной скрытой подрывной деятельности части сотрудников Абвера. Адмирал Канарис и его ближайшее окружение были монархистами и патриотами старой школы; ужасы нацистского режима вызывали у них отвращение. В тайне некоторые офицеры Абвера, такие как полковник Ханс Остер, поддерживали связь с движением Сопротивления внутри Германии. Через Аллена Даллеса (американскую разведку в Швейцарии) они пытались зондировать почву для сепаратного мира при условии устранения Гитлера. Эти контакты не привели к успеху (союзники настаивали на безоговорочной капитуляции), но сам факт показывает, насколько далеко зашли сомнения в нацистском руководстве даже среди разведчиков. Конечно, такая «двойная игра» подточила эффективность Абвера: трудно усердно служить режиму, которому внутренне не сочувствуешь. СС воспользовалось этим, обвиняя разведку в предательстве и саботаже на благо поражения Германии.
Подводя итог, можно сказать, что Абвер был поглощен собственной несостоятельностью и интригами. В критический момент он пал жертвой врагов внутри государства: в начале 1944 года Абвер прекратил существование как самостоятельная сила, уступив место службе СД. Его ликвидация, совпавшая с угасанием военных успехов Рейха, подчеркнула общий вывод: спецслужба, раздираемая внутренними конфликтами, неспособная обеспечить надежность агентов и адекватный анализ, не может принести победы, даже имея значительные ресурсы.
После войны опыт Абвера был учтен при создании спецслужб ФРГ: например, формированием новой западногерманской разведки (BND) занялся Рейнхард Гелен – бывший руководитель подразделения «Иностранные армии Востока» Вермахта, входившего в состав Абвера. Под контролем американцев он собрал оставшиеся агентурные сети против СССР и к 1956 году возглавил BND, которую возглавлял до 1968 года. Таким образом, некоторый оперативный костяк и опыт Абвера перешли в новую эпоху, хотя организация и методы были кардинально перестроены по стандартам демократического государства.
Сравнительный анализ и влияние на современные спецслужбы
Рассмотренные исторические разведслужбы – КГБ, OSS, Deuxième Bureau и Абвер – сформировались в разных условиях и преследовали разные цели, но каждая из них оставила наследие, повлиявшее на последующие поколения спецслужб по всему миру. Проведем краткое сравнение их организационных моделей, успехов и ошибок, а также проследим, какие уроки были извлечены и как они отразились на современных разведывательных структурах.
Структура и подчиненность.
– КГБ СССР представлял собой модель централизованной политической полиции, совмещавшей внешнюю разведку, контрразведку и внутреннюю безопасность под партийным контролем. Его преемники (ФСБ, СВР и др.) продолжают функционировать в схожей парадигме: сильная централизация, широкий мандат от кибершпионажа до внутреннего надзора. Современная Россия унаследовала от КГБ не только кадры (влияние «силовиков» и бывших чекистов), но и философию приоритета госбезопасности над правами личности. При этом практика КГБ показала и риски: чрезмерная идеологизация и подавление инакомыслия могут приводить к деградации аналитических способностей службы и неспособности предвидеть политический крах. Многие современные спецслужбы (особенно в демократических странах) стараются избежать такой политизации, отделяя разведку от прямого политического давления.
– OSS США стала прототипом современной разведки, интегрированной в государственный аппарат. Урок OSS – необходимость объединения разных функций (анализ, агентурная разведка, спецоперации) для достижения синергии. Сегодняшнее ЦРУ прямо ведет свою историю от OSS: как институционально (треть сотрудников ЦРУ на старте были из OSS), так и концептуально (единый центр, работающий на политическое руководство страны). Более того, американские Силы специального назначения бережно хранят наследие OSS: многие тактики «джедбургов» и отрядов OG легли в основу тренировок «зеленых беретов» и Navy SEALs. OSS продемонстрировала важность инноваций и гибкости – черты, которые ныне считаются краеугольными в работе западных спецслужб. Также опыт OSS подчеркнул ценность аналитических центров, наполненных специалистами из академической среды – эта традиция с тех пор укрепилась (в ЦРУ существуют обширные аналитические подразделения, staffed by профессионалы разных наук). Пример OSS показал и обратную сторону: по окончании войны военные и полицейские бюрократии могут ревниво отнестись к новой спецслужбе (как ФБР и Пентагон настояли на роспуске OSS). В ответ в США и других странах после войны внедряли системы парламентского и межведомственного контроля над разведкой, чтобы избежать межведомственной грызни.
– Deuxième Bureau (Франция) иллюстрирует модель военной разведки, встроенной в Генштаб, и сложности совмещения военной и политической (внутренней) разведки. Французский опыт привел к тому, что после Второй мировой войны Франция окончательно разделила функции: внешняя разведка (SDECE, затем DGSE) стала отдельным гражданским ведомством, а внутренняя безопасность – в другом (DST, затем DGSI). Уроком Deuxième Bureau стало понимание, что контрразведка и политическая полиция лучше изъять из-под военных, чтобы избежать повторения «дела Дрейфуса» и политических скандалов. Кроме того, французская разведка в колониях продемонстрировала значимость локальной специфики: незнание языка и культуры подопечного народа влекло провалы (как в Йен-Бай). Современные спецслужбы стараются учитывать культурный фактор – активно готовят специалистов по региону, нанимают аналитиков с соответствующим бэкграундом. Еще одно наследие французской разведки – ставка на сигнальную разведку и дешифровку. Случай с «Энигмой» и роль французов в ее раскрытии напомнили миру о ценности криптоанализа. Сейчас все крупные агентства имеют мощные подразделения радиоэлектронной разведки, а вопросы шифрования и кибербезопасности стали приоритетными (в том числе во французской DGSE, где есть сильное криптологическое направление).
– Абвер послужил примером того, как делать не надо. Его разобщенность с партией (нацистскими структурами) и конфликт с конкурирующими службами (СД, гестапо) привели к катастрофе. В послевоенной Германии, разделенной на ФРГ и ГДР, учли эти уроки по-разному. В ГДР органы госбезопасности (Штази) построили по модели КГБ – всеобъемлющий контроль и слияние функций. В ФРГ же, наоборот, создали раздельные службы: внешнюю разведку (BND), внутреннюю контрразведку (BfV) и военную разведку (MAD), подотчетные демократическим институтам. Причем BND возглавил бывший офицер Абвера Рейнхард Гелен – но работал он уже под надзором парламента и при тесном сотрудничестве с США. Опыт Абвера показал ценность качества над количеством в агентурной работе – этот принцип сегодня разделяют все разведки: тщательный отбор агентов, многократная проверка, аналитическая оценка достоверности сведений. Также Абвер стал уроком по части контрразведки: нельзя недооценивать противника. Британская операция Double-Cross, перехватившая всех агентов, – хрестоматийный пример успешной контригры. Современные службы безопасности (включая немецкие BfV и британскую MI5) строят свою работу на принципе тотального мониторинга иностранных разведок, чтобы предотвратить проникновение и манипуляции. Кроме того, Абвер наглядно показал, что политическая надежность персонала – не абстракция: если сотрудники не разделяют ценности режима, они могут саботировать его изнутри. Потому современные спецслужбы при наборе обращают внимание как на профессионализм, так и на благонадежность кандидатов (хотя в открытых обществах это решается проверкой на лояльность конституции, а не идеологии).
Влияние на модели спецслужб. Исторические примеры повлияли и на структурные модели спецслужб в мире. Так, советская модель КГБ (объединенной разведки и госбезопасности) была перенята многими социалистическими странами в период холодной войны – от Штази в ГДР до КГБ в союзных республиках. Ее эхо прослеживается и ныне в авторитарных государстваи, где спецслужбы также объединяют функции (например, Министерство государственной безопасности КНР сочетает внешнюю разведку и контрразведку). Американская модель (разделение функций между разными ведомствами – ЦРУ, военная разведка, ФБР, плюс централизованная координация директором Национальной разведки) – стала ориентиром для многих демократий, стремящихся к checks and balances в этой сфере. Европейские страны после войны зачастую выбрали путь разделения: в Великобритании SIS/MI6 (внешняя) и MI5 (внутренняя), во Франции DGSE и DGSI, в ФРГ – BND и BfV. Это предохраняет от концентрации чрезмерной власти в одних руках (как было у КГБ). При этом все они стремятся улучшать координацию, чтобы не повторять ошибок типа дублирования или конкуренции (как было у Абвера с СС). Создаются совместные координационные центры (в США – Совет национальной безопасности, в ФРГ – ведомство канцлера курирует службы, в ЕС – обмен разведданными между странами-союзниками).
Уроки успехов и провалов. Из успехов прошлых разведок современные службы почерпнули веру в силу информации как оружия. Истории Пенковского или Зорге показали, что один хорошо позиционированный агент может изменить ход кризиса или сражения. Поэтому сегодня огромное внимание уделяется развитию агентурной сети в ключевых точках (будь то террористические группы, враждебные правительства или научные центры). История с Энигмой утвердила идею, что технологическое превосходство в разведке (криптоанализ, кибершпионаж) способно склонить чашу весов – отсюда непрерывная гонка в сфере кибербезопасности, взлома шифров, разработки разведывательных спутников и т. д.
Провалы же научили ценить контроль и анализ. Крах КГБ в предвидении распада СССР подчеркнул важность того, чтобы разведка давала объективную картину, а не ту, которую хочет слышать руководство. В ответ многие страны внедрили практику альтернативного анализа (соревнование мнений внутри агентства), взаимодействия с внешними экспертами, чтобы избежать группового мышления. Провалы Абвера и французской разведки 1940 г. продемонстрировали, что недооценка противника и переоценка своих возможностей чреваты бедой. Сегодня спецслужбы стараются быть самокритичными, проводить разбор своих ошибок (в США после 11 сентября 2001 г. была проведена масштабная реформа разведсообщества, когда выяснились просчеты в обмене информацией).
В целом, исторические спецслужбы заложили основы профессии разведчика – с ее этическими дилеммами, методами работы и профессиональным жаргоном. Их опыт – драматичный, подчас противоречивый – служит богатым материалом для обучения новых поколений. Как сказал однажды бывший директор ЦРУ Уильям Кейси (который, кстати, тоже был ветераном OSS): «История разведки – это история мира тайных сражений, от исхода которых порой зависела судьба народов». Изучая опыт КГБ, OSS, Deuxième Bureau и Абвера, современные специалисты по безопасности стремятся брать лучшее и избегать повторения худшего. Каждая из этих служб – и грозный советский КГБ, и дерзкий американский OSS, и изощренное французское Второе бюро, и трагически просчетный Абвер – внесла свою лепту в искусство разведки, сделав его таким, каким мы знаем его сегодня.
Часть II. Россия
Введение и историческая преемственность
Распад Советского Союза в 1991 году радикально преобразовал бывший монолит КГБ в несколько отдельных спецслужб независимой России. Советский КГБ – одна из самых могущественных спецслужб мира – включал в себя и внешнюю разведку, и внутреннюю безопасность, военную и политическую контрразведку, экономические и технические подразделения. После событий августовского путча 1991 года эта громоздкая структура была разбита на ряд ведомств: на основе Первого главного управления (внешняя разведка) создали Службу внешней разведки (СВР), функции контрразведки и охраны порядка перешли к Министерству безопасности (вскоре преобразованному в Федеральную службу безопасности, ФСБ), а также выделились Федеральная служба охраны (ФСО), Пограничная служба и Агентство правительственной связи (ФАПСИ). Иначе говоря, КГБ трансформировался в СВР и ФСБ – две главные наследницы, отвечающие соответственно за внешнюю разведку и внутреннюю безопасность. Военное разведывательное управление Генштаба, известное как ГРУ, при этом сохранило преемственность с советских времён: военная разведка не подчинялась КГБ и продолжила работу под эгидой Министерства обороны.
Первое десятилетие постсоветской России стало временем перестройки спецслужб. 1990-е годы сопровождались сокращением финансирования, утечкой кадров и попытками демократического контроля, однако к концу десятилетия влияние силовиков вновь начало расти. В 1998 году директором ФСБ был назначен бывший офицер КГБ Владимир Путин, а уже с 2000 года, став президентом, он опирался на опыт и кадры спецслужб для укрепления государственной власти. Многие ветераны советских органов продолжили карьеру в новых структурах. Например, первым директором СВР стал Евгений Примаков – в прошлом руководитель внешней разведки КГБ. Преемственность проявилась и символически: в 2000 году, на 80-летие советской ВЧК–КГБ, Путин посетил штаб-квартиру СВР в Ясеневе вместе с бывшими главами КГБ Крючковым и Шебаршиным, главой СВР Примаковым и другими, подчеркнув непрерывную связь поколений чекистов.
Одновременно с этим новая российская власть стремилась избежать чрезмерной концентрации силы в одних руках, характерной для КГБ. Разделение функций между СВР, ФСБ и ГРУ должно было создать систему сдержек и противовесов. Как отмечал в 2016 году генерал-майор ФСБ Александр Михайлов, иметь два независимых источника информации – внешнюю разведку и контрразведку – лучше, чем один, к тому же разделение помогает службам контролировать внутреннюю безопасность друг друга, выявлять «кротов» (шпионов) во взаимодействии. Тем не менее полностью устранить конкуренцию не удалось: на протяжении следующих десятилетий между ведомствами иногда возникали споры о разграничении полномочий, наблюдалось и дублирование функций. В то же время перед лицом общих угроз – терроризма, организованной преступности, утечки секретов – спецслужбы учились координировать усилия. Российская модель разведки начала XXI века сложилась как комбинация советского наследия (кадры, традиции, размах операций) и новых реалий (рыночная экономика, открытость страны миру, технологический прогресс). Рассмотрим подробнее три ключевых разведоргана современной России – СВР, ФСБ и ГРУ, их роль, операции и взаимодействие, а также особенности российской модели в сравнении с западной и советской.
Служба внешней разведки (СВР)
СВР России – прямой потомок Первого главного управления КГБ – была образована в декабре 1991 года. Её возглавил опытный востоковед Евгений Примаков, ставший в сложный переходный период своего рода капитаном корабля разведки, взявшим курс на сохранение лучших традиций советской разведшколы. Штаб-квартира СВР расположилась в московском районе Ясенево, на бывшей базе «усадьбы» внешней разведки КГБ. Отсюда – ироничное прозвище «Ясенева» в адрес всей организации. Закон РФ «О внешней разведке», принятый в 1992 году, официально закрепил задачи службы: добывание разведывательной информации за рубежом, проведение активных мер в интересах безопасности России, экономический и научно-технический шпионаж, внешняя контрразведка, защита российских учреждений и граждан за границей и пр.. Примечательно, что закон позволил сотрудникам разведки внедряться под прикрытием в различные министерства, фирмы и организации без раскрытия своей принадлежности – фактически узаконив практику «нелегалов» и скрытых агентов влияния. Таким образом, уже на заре 1990-х СВР получила мандат на широкую деятельность, от классического шпионажа до тайных операций за рубежом.
Структура СВР во многом унаследовала отделы советского ПГУ. В 1990-е в СВР действовали управления по странам (политическая разведка), управление «С» (нелегальная разведка), отвечающее за подготовку и курирование агентов-нелегалов, научно-техническая разведка, экономическая разведка и даже специальное управление «КР» (контрразведка за рубежом), занимающееся внедрением в иностранные спецслужбы и слежкой за своими гражданами за границей. Имеется и собственный Аналитический блок, готовящий ежедневные разведсводки для руководства страны. Интересно, что СВР не ограничивается лишь сбором информации – разведка традиционно участвовала во «влиянии на политику». В отличие от своих коллег из ЦРУ, которые обычно только информируют правительство, российские разведчики могут рекомендовать президенту выгодные для страны меры на основе собранных данных. Эта черта – тесная связь с высшим политическим руководством – досталась в наследство ещё от советских времён. Многие директора СВР становились важными государственными фигурами: Примаков позднее возглавил правительство РФ, Сергей Нарышкин (нынешний директор службы) прежде был спикером парламента, а Владимир Путин вообще является самым знаменитым «выпускником» внешней разведки, служившим под прикрытием в ГДР.
За три десятилетия СВР провела немало операций за рубежом – как успешных, так и провальных, о которых стало известно общественности. О ряде громких эпизодов службы мы узнаём только спустя годы, зачастую из западных источников или в результате скандалов. Так, в 1990-е годы серьёзным успехом российской разведки стала информация, полученная от высокопоставленных агентов в США: завербованные еще КГБ предатели из американских спецслужб, такие как сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс и агент ФБР Роберт Ханссен, передавали Москве тысячи секретных документов. Арест последнего в 2001 году подтвердил, что он 15 лет снабжал советскую, а затем российскую разведку данными о ядерной обороне и спецоперациях США. Эти утечки помогли разоблачить в США нескольких агентов Кремля (некоторые из них были казнены за измену), а российская разведка получила ценнейшие сведения о планах потенциального противника. Однако собственные активные операции СВР не всегда проходили гладко. Самый известный провал – «шпионский скандал 2010 года». В июне 2010-го ФБР арестовало сразу 10 человек, много лет работавших в США под глубоким прикрытием без дипломатического статуса. Среди них были супруги Андрей Безруков и Елена Вавилова (в Америке они жили под чужими именами Дональд Хитфилд и Трейси Фоли), Михал Куцик (Хуан Лазаро), Михаил Семенко, Вики Pelaez и другие – всего пятеро супружеских пар и одна одиночка, рыжеволосая молодая предпринимательница Анна Чапман. Их обвиняли в нелегальной разведдеятельности – попытках проникнуть в политические круги США и собирать информацию о ядерных программах, политике и финансах. Как выяснилось, эту сеть «нелегалов» разоблачил перебежчик – полковник СВР Александр Потеев, бежавший на Запад и выдавший своих подчинённых. Арестованные признали вину в работе на иностранное государство. Через несколько дней, 9 июля 2010 года, состоялся крупнейший со времён холодной войны обмен шпионами: десять агентов СВР были высланы в Россию, а взамен Москва отпустила четырёх заключённых, среди которых находился осуждённый за шпионаж бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль. Эта история прогремела на весь мир, а образ Анны Чапман – эффектной русской шпионки – стал поп-культурной сенсацией. Менее известно, что в состав группы входили и высокопрофессиональные разведчики вроде Вавиловой и Безрукова, которые 25 лет добывали ценную информацию для Кремля, пока их миссия не была прервана предательством. После возвращения на родину все они получили государственные награды, хотя публично прославлять их не стали.
Помимо этой громкой неудачи, СВР продолжает менее заметные операции по всему миру. В начале 2000-х российская внешняя разведка, как сообщали СМИ, активно отслеживала политические процессы на Западе. Например, существует информация, что в середине 2000-х агенты-нелегалы пытались собирать сведения о перспективных американских политиках. В интервью 2019 года бывшая разведчица-нелегал Елена Вавилова упомянула, что в её художественной книге, основанной на реальных событиях, героиня устанавливает прослушку у помощника сенатора Барака Обамы, когда тот ещё представлял штат Иллинойс и лишь начинал задумываться о высоких постах. Хотя Вавилова оговорилась, что это художественный вымысел, пример показывает, какого рода информацию стремились получить российские разведчики: данные о будущих лидерах США, их окружении и планах, чтобы предугадать курс Вашингтона и подготовиться к нему. СВР, как и её предшественники, уделяет большое внимание заблаговременной оценке политической обстановки за рубежом.
Известны и операции СВР в «горячих точках». Так, в начале 2000-х, во время войны США против режима Саддама Хусейна в Ираке, российская разведка, по некоторым данным, развернула секретную группу «Заслон». Эта спецкоманда занималась защитой российских граждан и объектов, а также смогла эвакуировать из Ирака ценные архивы и материалы иракской разведки, чтобы они не достались американцам. Сообщалось, что благодаря этому Кремль получил документы о том, как Багдад финансировал прокитайские и пророссийские движения, что позволило Москве влиять на них в своих интересах. Эти эпизоды зачастую остаются без официальных комментариев, отражая скрытный характер СВР.
В целом СВР за годы существования превратилась в более компактную, чем предшественник, но все еще весьма мощную спецслужбу. Её сильные стороны – богатая школа подготовки кадров (Академия внешней разведки продолжает традиции Краснознамённого института КГБ), широкая агентурная сеть по всему миру и тесная связь с государственным руководством. Российские разведчики-внешники гордятся преемственностью от легендарных предшественников – от советских «разведчиков-нелегалов» времён холодной войны до чекистов 1920-х. В 2020 году СВР отметила свое столетие (ведя отсчёт от создания иностранного отдела ВЧК в 1920 году) и позиционирует себя как «щит и меч» страны на внешнем фронте. При этом службе приходится действовать в новых условиях: глобальная цифровизация, усиленный контроль со стороны контрразведок Запада и санкционное давление в ответ на спорные операции (после скандалов, вроде дела Чапман, ряд сотрудников СВР в других странах были высланы). Эти вызовы заставляют внешнюю разведку балансировать между стремлением получить максимальную информацию и необходимостью осторожничать, чтобы не спровоцировать международные скандалы. Не случайно независимые исследователи отмечают, что корпоративная культура СВР сравнительно осторожна: многие сотрудники ценят долгую карьеру и комфорт жизни дипломата-разведчика и не склонны к неоправданному риску. В следующем разделе мы увидим совсем иной характер работы у внутренней спецслужбы – ФСБ, которой часто достаются более жёсткие методы.
Федеральная служба безопасности (ФСБ)
ФСБ России – главный орган обеспечения внутренней безопасности страны, чьи корни уходят в советскую контрразведку. После 1991 года функции бывшего Второго главного управления КГБ (контрразведка внутри страны), а также ряда других управлений (по борьбе с организованной преступностью, по защите экономики, по охране границы) перешли к новой структуре. Сначала это было Министерство безопасности РФ, затем Федеральная служба контрразведки (ФСК), а с 1995 года – Федеральная служба безопасности. По сути, ФСБ стала преемницей наиболее силовой части КГБ, ответственной за порядок и контроль внутри государства. В конце 1990-х – начале 2000-х ФСБ заметно усилилась: ей передали пограничные войска, часть функций расформированного ФАПСИ (связь и шифрование), расширили полномочия в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. На рубеже веков ФСБ превратилась в самую крупную и влиятельную спецслужбу России, располагающую десятками тысяч сотрудников по всей стране и широкими законодательными правами.
Основные задачи ФСБ закреплены законом: контрразведка (выявление иностранных шпионов и защиту гостайн), борьба с терроризмом, пресечение экстремистской и сепаратистской деятельности, обеспечение экономической и информационной безопасности, борьба с коррупцией и организованной преступностью, охрана государственной границы. Спектр огромный – от оперативной работы «в поле» до аналитики и кибербезопасности. ФСБ имеет разветвлённую структуру региональных управлений во всех субъектах РФ и многочисленные спецподразделения. На слуху у многих группы спецназа ФСБ – легендарные отряды «Альфа» и «Вымпел», предназначенные для антитеррористических операций, освобождения заложников и самых сложных боевых задач. Именно офицеры «Альфы» и «Вымпела» неоднократно оказывались на передовой в трагических эпизодах новейшей российской истории, когда страна сталкивалась с терроризмом.
Самые драматичные испытания выпали на долю ФСБ в начале 2000-х, во время всплеска терроризма, связанного с войной в Чечне и деятельностью радикальных исламистских групп. Так, в октябре 2002 года группа вооружённых боевиков захватила полный зрителей Театральный центр на Дубровке в Москве (теракт известен как захват заложников на мюзикле «Норд-Ост»). Террористы удерживали 916 заложников почти трое суток, заминировав зал. ФСБ возглавила операцию по спасению людей: 26 октября спецназ «Альфа» и «Вымпел» пошёл на штурм, предварительно применив через вентиляцию секретный «усыпляющий газ» неизвестного состава. Все 40 террористов были ликвидированы, и большинство заложников освобождены. Однако ценой победы оказались большие жертвы среди заложников – по официальным данным, погибло 130 человек (по данным общественной организации «Норд-Ост», до 174). Подавляющее число этих смертей наступило от действий газа – люди задохнулись, не получив вовремя медицинской помощи, или не были опознаны врачами как пострадавшие от отравляющего вещества. Эта трагедия вскрыла проблемы: с одной стороны, ФСБ предотвратила взрыв и спасла сотни жизней, с другой – спецоперация вызвала критику за секретность (власти так и не раскрыли формулу применённого газа) и недостаточную подготовку медслужб. Российское общество было шокировано: таких террористических атак в столице ещё не случалось.
Спустя менее двух лет, в сентябре 2004-го, террористы нанесли новый страшный удар – на этот раз в провинции. 1 сентября 2004 года вооружённый отряд из чеченских и ингушских боевиков захватил школу №1 в городе Беслан (Северная Осетия) во время праздничной линейки. В заложниках оказались более 1100 человек, в основном дети и их родители. Террористы заминировали спортзал, удерживая детей без воды и еды три дня. 3 сентября, после серии взрывов в школе, начался хаотичный штурм, в котором участвовали всё, кто мог – силы ФСБ («Альфа», «Вымпел»), милиция, армия, разгневанные вооружённые осетинские жители. Бой превратился в кровавую перестрелку с использованием гранатомётов и танков. Жертвы оказались ужасающими: погибли 333 человека, из них 186 детей. Более 700 были ранены. Это событие стало общенациональной трагедией. Несмотря на уничтожение всех террористов (кроме одного, взятого живым) и очевидную чудовищность самих боевиков, у общества возникли вопросы к властям: почему допустили такой провал в предотвращении атаки, почему не сумели организовать более скоординированный штурм, были ли просчёты ФСБ? Официальное расследование указало на множество факторов, а президент Путин после Беслана провёл масштабные реформы силовых структур (упразднил выборность губернаторов, усилил вертикаль власти). Для ФСБ эта трагедия стала тяжёлым уроком, сформировавшим более жёсткий подход к антитеррору – «ни шагу назад». С тех пор спецслужбы многократно предупреждали теракты на стадии замыслов; Северный Кавказ был буквально напичкан агентурой. Вторая чеченская война (1999–2000) завершилась созданием в республике лояльного федеральному центру режима, а терроризм был постепенно вытеснен точечными спецоперациями.
Помимо открытого терроризма, ФСБ ведёт невидимый фронт контрразведки. В её ведении – выявление и задержание иностранных шпионов, работающих на территории РФ. В 1990–2000-е годы было разоблачено несколько десятков разведчиков из США, Великобритании, Китая и других стран, пытавшихся добыть секреты о российской армии или технологиях. Например, в 2006 году ФСБ задержала в Москве группу сотрудников британского посольства, уличённых в использовании электронного «шпионского камня» – тайника-передатчика для связи с агентами. Этот курьёзный случай получил огласку на российском телевидении, что продемонстрировало навыки контршпионажа ФСБ. В самой ФСБ имеется Управление собственной безопасности, которое занимается поиском «кротів» внутри – на случай, если кто-то из сотрудников пойдёт по стопам предателей типа Ханссена. Ранее, в 1980-е, именно контрразведка КГБ раскрыла группу американского шпиона Адольфа Толкачёва в советском ВПК, а в 1960-е – разоблачила легендарного полковника ГРУ Олега Пеньковского, работавшего на ЦРУ и Ми-6. Теперь эту эстафету приняла ФСБ, продолжая охранять государственные тайны.
Стоит упомянуть и роль ФСБ в обеспечении экономической безопасности и борьбе с коррупцией. В структуре службы есть управление «К» (контроль экономических преступлений), сотрудники которого взаимодействуют с налоговыми органами, Центробанком, ловят крупных взяточников. Некоторые громкие дела против олигархов и высокопоставленных чиновников сопровождались участием ФСБ. Впрочем, критики указывают, что иногда силовики сами используются в корпоративных конфликтах или борьбе за ресурсы, а влияние ФСБ на экономику столь велико, что бывших сотрудников можно встретить в руководстве госкомпаний. Так или иначе, ФСБ позиционирует себя как щит государства не только от террористов, но и от «внутренних врагов» – от радикалов до финансовых махинаторов. В 2016 году к ФСБ были присоединены функции упразднённой Службы по борьбе с наркотиками и миграционной службы, что ещё более расширило зону её ответственности.
Отдельно стоит сказать о секретных операциях ФСБ за рубежом, хотя формально зона деятельности службы – это внутренняя территория. Однако законодательство РФ допускает, что ФСБ может преследовать террористов и преступников вне России, а также вести разведывательную работу в сопредельных государствах (так называемое «оперативное сопровождение» в СНГ). Кроме того, ФСБ исторически курирует охрану высших должностных лиц и важнейших объектов (в сотрудничестве с ФСО) не только внутри страны, но и при зарубежных визитах. Тем не менее, на практике речь идёт и об ofensивных акциях. Наиболее резонансные из них – ликвидация перебежчиков и врагов режима за границей, в которых западные расследования усматривали след именно ФСБ или связанных с ней структур. Так, в ноябре 2006 года в Лондоне был отравлен радиоактивным полонием бывший подполковник ФСБ Александр Литвиненко, открыто обвинивший Путина и спецслужбы в коррупции. Британское следствие установило, что в убийстве участвовали два россиянина – Андрей Луговой (бывший офицер КГБ/ФСБ) и Дмитрий Ковтун. Высокопоставленные источники в Лондоне заявили, что это было «убийство, организованное российскими спецслужбами на государственном уровне». Несмотря на требования экстрадиции, Россия отказалась выдавать подозреваемых (Луговой впоследствии стал депутатом Госдумы). Случай Литвиненко продемонстрировал миру готовность российских органов применять радикальные меры против тех, кого на родине считают предателем. Спустя более десяти лет, в марте 2018 года, в британском Солсбери произошёл ещё один вопиющий инцидент: неизвестные агенты применили боевой нервно-паралитический яд «Новичок» против Сергея Скрипаля (того самого экс-полковника ГРУ, выданного на обмен в 2010-м) и его дочери. Оба едва выжили, но случайный контакт с выброшенным флаконом с ядом стоил жизни британской гражданке Дон Стерджесс. Великобритания обвинила Россию в покушении; расследование установило подозреваемых под именами «Руслан Боширов» и «Александр Петров», прибывших в страну накануне. Позже независимые расследователи из Bellingcat выяснили, что это офицеры ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин, причём полковник Чепига даже Герой России. Таким образом, отравление Скрипаля оказалось операцией военной разведки, а не ФСБ, хотя мотив (месть изменнику) был схож с делом Литвиненко. В результате инцидента разразился международный скандал: более 20 стран выслали свыше 150 российских дипломатов (многие из которых, вероятно, были сотрудниками СВР и ГРУ под прикрытием). Для российских спецслужб эта история обернулась серьезным провалом имиджа и ударом по агентурной сети за рубежом. Официальные представители Москвы всё отрицают; например, коллеги Скрипаля в СВР заявляют, что Россия не практикует физической ликвидации предателей. Тем не менее факты в нескольких делах (от убийств бывших чеченских боевиков в Европе до отравлений оппозиционеров) свидетельствуют об обратном, указывая на негласные возможности российских служб проводить операции на чужой территории.
Таким образом, ФСБ сегодня выполняет роль многопрофильной спецслужбы внутренней безопасности с элементами разведывательных и силовых функций. Её мощь внутри страны огромна: от слежки за подозреваемыми (в XXI веке – и в киберпространстве) до ведения громких дел против оппозиционных политиков, от координации антитеррористического центра до контроля за стратегическими отраслями. При президенте Путине выходцы из ФСБ и смежных структур заполнили многие позиции во власти – сложился целый класс «силовиков», влияющих на политику и экономику. С одной стороны, это обеспечивает жёсткую стабильность и управление, с другой – вызывает критику за свёртывание демократических свобод. Тем не менее в глазах значительной части общества сотрудники ФСБ остаются продолжателями дела легендарных чекистов, стоящими на страже страны от многочисленных угроз – будь то терроризм, шпионаж или «цветные революции».
Лубянка – историческое здание на Лубянской площади в Москве, с 1920-х гг. в нём размещались органы госбезопасности (ОГПУ, НКВД, КГБ), а ныне это штаб-квартира ФСБ России.
ФСБ часто сравнивают с американским ФБР или британской MI5, но масштабы и сферы влияния российской службы шире. По сути, ФСБ сочетает функции контрразведки, службы госбезопасности и спецназа, и даже частично влияет на внешнюю разведку (через свой «Департамент оперативной информации», ведущий работу в странах СНГ). Эта уникальная роль делает ФСБ центральным звеном всей силовой системы России.
Главное разведывательное управление (ГРУ)
ГРУ, полное название – Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооружённых сил РФ (ныне официально Главное управление Генштаба, ГУ ГШ, но старое сокращение по привычке используют до сих пор), – это военная разведка России. Учреждённое ещё в 1918 году при Рабоче-Крестьянской Красной Армии, ГРУ имеет славную и грозную историю. В советское время ГРУ конкурировало с КГБ, оставаясь автономной структурой Минобороны, отвечающей за добычу сведений военного характера по всему миру. После распада СССР ГРУ, в отличие от КГБ, не подверглось разделению – оно сохранило преемственность и продолжило работу, хотя и пережило сложные времена реформ. В 1990-е финансирование армии (и ГРУ как её части) сократилось, некоторые операции были свернуты, а влияние военной разведки несколько упало на фоне возвышения ФСБ. Однако уже к 2000-м годам ГРУ восстановило позиции. Российское руководство увидело в нём важнейший инструмент для силовой политики и обеспечения обороны.
ГРУ отличается от СВР и ФСБ не только подчинением (оно в структуре армии), но и задачами. Если СВР добывает политическую и научно-техническую информацию, то ГРУ фокусируется на военных секретах: дислокация войск, планы операций, новейшее вооружение других стран. Кроме того, ГРУ традиционно имеет в своём подчинении силовые подразделения специального назначения (спецназ) – элитные отряды для разведки и диверсий в тылу врага. Советский ГРУ командовал бригадами спецназа, насчитывавшими тысячи бойцов. В постсоветское время часть этих подразделений была переподчинена другим структурам (в 2010-е создали отдельное Командование сил специальных операций), но ГРУ по-прежнему располагает значительными силами «военной элиты». Не случайно штаб-квартира ГРУ в Москве носит неформальное название «Аквариум» – за скрытность и загадочность, а эмблемой службы с советских времён служит летучая мышь, расправившая крылья над земным шаром (символ ночной разведки, охватывающей весь мир).
На практике ГРУ активно участвовало во всех военных конфликтах, в которых была задействована Россия за последние десятилетия. В первой чеченской войне (1994–1996) уровень координации разведки с войсками оставлял желать лучшего, что стало одной из причин неудач той кампании. Однако во вторую чеченскую войну (1999–2000) и последующие контртеррористические операции в Чечне и Дагестане ГРУ уже сыграло заметную роль. Группы спецназа ГРУ проводили глубокие рейды в горных районах, уничтожали базы боевиков, наводили авиацию на цели. Эти операции были опасны и нередко приводили к потерям. Так, известно о трагическом эпизоде в феврале 2000 года: при попытке блокировать крупный отряд боевиков в Аргунском ущелье сразу 33 бойца спецназа ГРУ погибли в ожесточённом бою на высоте 947,0 – эта «чёрная страница» долгое время оставалась малоизвестной. Тем не менее опыт, накопленный в Чечне, сделал ГРУшников закалёнными профессионалами горно-пустынной войны.
В августе 2008 года, во время кратковременной войны с Грузией (конфликт в Южной Осетии), ГРУ также выполнило свой фронт работы. Военная разведка заранее предупреждала о планах Тбилиси силой восстановить контроль над Южной Осетией, а в ходе боевых действий российский спецназ и беспилотные аппараты ГРУ осуществляли разведку целей для авиации и артиллерии. Итог – грузинская армия была за несколько дней разгромлена, а операции ГРУ остались за кадром, хотя, вероятно, внесли вклад в эффективность действий. После войны 2008 года, впрочем, произошли кадровые перестановки: руководитель ГРУ был отправлен в отставку, что некоторые связывали с разбором полётов – мол, не всё сработало идеально. В любом случае, роль ГРУ как источника данных поля боя и организатора спецопераций только возросла.
Новым вызовом для военной разведки стала гибридная война на Украине. В 2014 году Россия тайно ввела войска без опознавательных знаков в Крым – знаменитые «вежливые люди» или «зелёные человечки», как окрестили их жители полуострова. Эти профессионалы в зелёной форме без знаков различия заняли ключевые объекты и блокировали украинские части, обеспечив бескровную аннексию Крыма. Лишь позже президент Путин признал, что это были российские военные. По данным источников, среди «зелёных человечков» были бойцы Сил специальных операций и спецназа ГРУ. Операция прошла блестяще с тактической точки зрения, продемонстрировав синхронную работу разведки, спецназа и информационного прикрытия (операция велась под прикрытием заявлений об «самообороне Крыма»). Одновременно на востоке Украины в 2014 году начались пророссийские выступления в Донбассе. И хотя изначально там действовали в основном местные ополченцы и добровольцы, роль ГРУ вскоре проявилась: ряд фигур руководства сепаратистов оказались прямо связаны с российскими спецслужбами. Например, Игорь Гиркин (Стрелков), возглавивший оборону Славянска, ранее служил в органах ФСБ; был известен и Игорь Безлер – бывший подполковник ГРУ, координатор отрядов в Горловке. Российская военная разведка снабжала повстанцев данными, а, вероятно, и планировала ключевые операции. Одна из версий трагедии с малайзийским «Боингом» MH17 над Донбассом указывает, что офицеры ГРУ могли быть причастны к транспортировке зенитного комплекса «Бук», из которого по ошибке сбили пассажирский самолёт. Это привело к новым санкциям и репутационному удару по Москве.
В сирийской кампании (2015–н.в.) ГРУ также проявило себя. Официально Россия ограничилась авиаударами по террористам, однако на земле действовали советники и силы спецназначения. Бойцы ГРУ осуществляли целеуказание для авиации, проводили разведку и ликвидировали полевых командиров ИГИЛ. Известен случай под Пальмирой в 2016 году, когда офицер Александр Прохоренко, будучи окружённым исламистами, вызвал огонь артиллерии на себя, пожертвовав жизнью – посмертно ему присвоено звание Героя России. Это напоминает подвиги спецназа ГРУ времён Чечни. Официально Минобороны не всегда раскрывает принадлежность погибших в Сирии, но по открытым данным, не менее десятка офицеров ГРУ и КСО погибли на сирийской земле в 2015–2018 годах, выполняя опасные задания. Российские ЧВК (частные военные компании), такие как «Вагнер», тоже тесно координировались с ГРУ – нередко ветераны разведки становились командирами этих формирований. Иными словами, ГРУ оказалось инструментом проекции силы за рубежом при относительном скрытии прямого участия государства.
Особая глава в деятельности ГРУ – кибершпионаж и информационные операции. В XXI веке военная разведка России активно вышла в цифровое пространство. Мир узнал название хакерской группы Fancy Bear (она же APT28, Pawn Storm, «Софаси»), которую западные спецслужбы однозначно связывают с ГРУ. Эта группа, по данным компаний кибербезопасности, действовала с середины 2000-х и осуществила ряд громких взломов. Именно Fancy Bear приписывают взлом серверов Демократической партии США в 2016 году и утечку переписки, призванную повлиять на исход президентских выборов в США. Американское следствие в 2018 году предъявило обвинения ряду офицеров ГРУ, назвав конкретные воинские части 26165 и 74455, ответственные за кибератаки. Кроме выборов, хакеры ГРУ атаковали разные цели по всему миру: парламенты Германии и Норвегии, штаб-квартиру НАТО, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Еlysée (компанию Эммануэля Макрона во Франции). В 2017 году, по данным разведок, именно группа ГРУ запустила разрушительный вирус NotPetya против инфраструктуры Украины, который затем поразил и глобальные компании – ущерб исчислялся миллиардами. ГРУшные хакеры не гнушаются и дезинформацией: известна подразделение 54777 (официально Центр ГУ по информационным операциям), занимающееся пропагандистскими кампаниями в интернете. Например, разоблачённые в 2018 году планы взломать сеть Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) в Гааге – тоже дело рук сотрудников ГРУ: тогда нидерландские спецслужбы задержали на месте группу российских специалистов с оборудованием в машине у здания ОЗХО. Все эти случаи создали ГРУ образ «грозной, но порой неуклюжей» организации: с одной стороны, она способна проникнуть в самые защищённые сети, с другой – её агентов за рубежом начали вычислять и публично позорить, как это произошло после Солсбери. Эксперты отмечают, что после 2014 года ГРУ взяло курс на рискованные активные мероприятия (кибератаки, покушения, саботаж), что привело к успехам вроде Крыма, но и к провалам, ставшим ударом по престижу российской разведки.
Тем не менее ГРУ остаётся ключевым элементом российского разведсообщества. Его сильная сторона – подчинённость военному командованию, что означает способность быстро использовать данные на практике. В армейских операциях, как показал опыт, прямое взаимодействие разведчиков и командиров приводит к выигрышу времени и эффективности ударов. Недаром перед крупными военными действиями роль ГРУ возрастает: например, накануне вторжения в Украину в 2022 году разведгруппы ГРУ, по сообщениям, пытались провести диверсии и подготовить почву, а киберподразделения атаковали украинские сети связи. Но одновременно проявились и слабости – если аналитическая оценка обстановки была неверной, то армия попадает в просчёт. Некоторые наблюдатели полагают, что российские спецслужбы недооценили волю украинцев к сопротивлению, возможно, давая Кремлю чересчур оптимистичные прогнозы. Это могло быть следствием как межведомственных конкуренций, так и давления сверху, когда никто не рискнул донести неприятные сведения.
Таким образом, на примере ГРУ видно, что военная разведка РФ за последние десятилетия трансформировалась: от классического шпионажа времён холодной войны к широкому набору инструментов – спецназ, кибервойска, информационные операции. По масштабу ГРУ сравнимо с объединённым разведсообществом министерства обороны США (DIA + спецсилы + киберкомандование), но при этом более централизовано. Девизом ГРУ мог бы служить принцип: «Если надо провести операцию – будем проводить, риск нас не остановит». В следующем разделе разберём, как все эти службы – СВР, ФСБ, ГРУ – взаимодействуют между собой, дополняя или соперничая друг с другом.
Взаимодействие и конфликты спецслужб
Российские спецслужбы официально провозглашают цель единым фронтом защищать безопасность страны, каждый на своём участке. На практике отношения между ними складываются непросто – сказывается различие в ведомственной принадлежности, задачах и даже корпоративной культуре. Тем не менее бывают как примеры успешного сотрудничества, так и свидетельства конкуренции и споров о влиянии.
Начнём с координации и совместной работы. В сферах, где угрозы явно общие, спецслужбы действуют заодно. Например, в борьбе с терроризмом: после серии терактов 2000-х был создан Национальный антитеррористический комитет (НАК) под руководством директора ФСБ, куда входят представители всех силовых органов. Если поступает информация о террористической угрозе за рубежом, СВР старается добыть данные через партнерские разведки или свою агентуру, ГРУ – через военные каналы разведки, а ФСБ – через свою сеть информаторов и связи с Интерполом. В идеале вся полученная информация стекается в НАК, где анализируется совместно. Так, были случаи, когда ФСБ и ГРУ совместно планировали операции против международных террористов. По некоторым данным, в Сирии российская военная разведка получала ценные сведения от ФСБ о россиянах, вступивших в ряды ИГИЛ, и затем спецподразделения ликвидировали этих боевиков точечными ударами. В обратную сторону – СВР взаимодействует с ФСБ при задержании шпионов: внешняя разведка может «подыграть» контрразведке, если нужно дезинформировать противника или поддержать легенду «двойного агента». Также практика показывает, что при крупных международных событиях (например, Олимпиада в Сочи-2014, чемпионат мира по футболу-2018) все спецслужбы объединялись ради обеспечения безопасности: ФСБ отвечала за общий режим и контртеракты, СВР добывала предупреждающие сигналы о возможных угрозах за границей, ГРУ мониторило военную обстановку вокруг. Подобное сотрудничество, как правило, остаётся за кадром, но оно есть.
Однако нередко между ведомствами возникают и терки по поводу полномочий. Исторически КГБ и ГРУ соперничали за масштаб и приоритетность операций (существует даже анекдотичный рассказ, как в 1980-е КГБ арестовал «крота» Пеньковского из ГРУ, одновременно выгораживая своих). В новой России повторилась часть старых проблем. Например, в середине 1990-х президент Ельцин разрешил ФСБ вести оперативную работу в странах СНГ, мотивируя это тем, что на постсоветском пространстве остаются общие угрозы. Но СВР восприняла это как вторжение на свою территорию – возник негласный спор, кто курирует «ближнее зарубежье». В результате ФСБ действительно создала «Департамент оперативной информации» (ДОИ) для работы в странах бывшего СССР, и время от времени информация оттуда дублировала данные СВР или даже шла вразрез. Аналитики отмечали, что двойная разведструктура вела к путанице и параллельным каналам. Тем не менее руководству страны такая избыточность даже выгодна – как сказал генерал Михайлов, «иметь два источника лучше, чем один». В итоге ДОИ ФСБ и СВР вынуждены были установить механизмы обмена информацией, но дух конкуренции никуда не делся.
Другой тип конфликта – за сферы влияния и ресурсы. ФСБ, будучи мощнейшей службой, нередко имела преимущество в доступе к первому лицу (директор ФСБ – постоянный член Совета безопасности, в то время как глава СВР тоже входит, а вот ГРУ прямо представлено через начальника Генштаба). В начале 2000-х ходили слухи о попытках подмять ГРУ под ФСБ, создав некое подобие советского МГБ (министерства госбезопасности, объединяющего внешнюю и внутреннюю разведку). Подобные идеи действительно муссировались – в 2016 году газета «Коммерсантъ» писала о проекте создания Министерства государственной безопасности (МГБ) на базе ФСБ, куда войдёт и СВР. Но эту идею раскритиковали ветераны: мол, «не зря разделяли, не надо снова сливать», лучше два независимых канала информации. В итоге реформу не осуществили – по крайней мере до сих пор СВР остаётся отдельной. Что касается ГРУ, то его пытались реформировать внутри Минобороны. В 2010–2011 гг. министр обороны Анатолий Сердюков провёл сокращения в ГРУ, убрал у него часть спецназа (создав КСО), сменил начальника ГРУ. Говорили, что ФСБ лоббировала ослабление военной разведки, опасаясь её чересчур самостоятельной роли. После отставки Сердюкова в 2012 году новая команда МО, напротив, усилила ГРУ – при Сергее Шойгу штат ГРУ расширился, многие спецназы вернули под его крыло. Тем самым маятник качнулся обратно. Внутренняя конкуренция иногда проявляется и курьёзно: в 2018 году, после скандала с «Новичком», неизвестные лица с инсайдерской информацией стали сливать в интернет данные о сотрудниках ГРУ (паспорта, автомобили, адреса). Есть версия, что это могли быть коллеги из других служб, решившие наказать ГРУ за провал – хотя доказательств нет, а альтернативная версия винит западные спецслужбы. В любом случае, налицо признаки терок между ведомствами, особенно когда дело касается чувствительных провалов.
Что до культурных различий, то об этом интересно высказывались исследователи спецслужб Ирина Бороган и Андрей Солдатов. По их словам, к 2022 году сложились три разные корпоративные культуры в трёх разведслужбах. СВР – более осторожная, бюрократичная, ценящая комфорт долгосрочной работы за рубежом, старающаяся избегать авантюр, чтобы не получить скандальный провал с высылкой (как сами говорили вербовщики СВР студентам: думайте, что делаете, чтобы вас не выгнали из страны навсегда). Внешняя разведка ФСБ (то есть тот самый ДОИ и другие подразделения) – напротив, исторически более агрессивная и рискованная, заточена на борьбу с политическими противниками режима за границей (эмиграцией, оппозицией) и склонна к жёстким методам. ГРУ же всегда было особняком: военные разведчики – «семейный бизнес» династий, как и СВР, но при этом готовность к риску у них даже выше, ведь военные понимают, что играют по крупному (особенно после реформ 2016 года, когда ГРУ набрало множество спецназовцев и поставило ставку на активные силовые операции). Приводился такой пример: офицеры СВР в целом не стремятся лезть на рожон, а вот в ГРУ культивируется установка «если надо – выполняй, как бы опасно ни было». Эта разница в подходах стала явной в последнее десятилетие: ГРУ осуществило ряд дерзких операций и попало в международные скандалы, тогда как СВР старается работать тише и держаться в тени (хотя и она, конечно, не застрахована от провалов, как было с нелегалами). ФСБ же в своём поле внутри России действует практически без конкурентов – здесь скорее возникает вопрос об отношениях с другими силовыми структурами, например с МВД (полиция). В 2000-е ФСБ получила кураторство над многими делами, что вызывало иногда трения между генералами МВД и ФСБ из-за подсудности дел. Но эту конкуренцию власть решала в пользу ФСБ, усиливая её.
Тем не менее, единое поле деятельности требует от спецслужб РФ взаимодействовать. Существует практика обмена кадрами: нередки случаи, когда офицеры, начавшие в одном ведомстве, переходят в другое на высокие должности – особенно между ФСБ и СВР (пример – Сергей Беседа, генерал ФСБ, который возглавлял 5-ю службу ФСБ – зарубежную разведку по СНГ, или случаи, когда выходцы из ФСБ становились замдиректорами СВР по линии контрразведки). Это создает личные связи между службами. Кроме того, стратегические решения принимаются наверху, на уровне президента и Совбеза, где сходятся все потоки информации. Там конкуренция трансформируется в коллективный доклад руководству: разные службы могут дать разную оценку, а президент выслушивает и делает выводы. Известно высказывание, что Путин порой поощряет неявное соперничество разведок – чтобы получать более полную картину и избегать зашоренности одного источника. В то же время он же требует от них сплочённости, особенно перед внешними угрозами.
Одним из символов единства стало общее профессиональное сообщество. День чекиста 20 декабря празднуют вместе и разведчики, и контрразведчики, и военные разведчики. Ветеранские организации стараются не разделяться: Союз ветеранов спецслужб включает представителей всех ведомств. Поддерживается и идеологическая преемственность – культ «ВЧК–КГБ» как общего предка. Например, в 2017 году в центре Москвы под аплодисменты многих силовиков восстановили памятник Феликсу Дзержинскому (правда, пока на территории внутреннего двора СВР, а не на Лубянке). Это показывает, что несмотря на ведомственные разногласия, существует единая чекистская корпорация.
Подводя итог, можно сказать: взаимодействие российских спецслужб – это сложная смесь сотрудничества и конкуренции. С одной стороны, они обмениваются данными, участвуют в совместных операциях (особенно когда речь о громких делах – вспомним обмен 2010 года: СВР вернула своих агентов, а ФСБ предоставила осуждённых шпионов для обмена, включая Скрипаля, что потребовало тонкого согласования). С другой стороны – каждое ведомство борется за доверие руководства, бюджет, победы на своём фронте, и не всегда спешит делиться лаврами. Внутренние конфликты, к счастью, не доходят до открытой вражды – в истории новой России не было случаев, чтобы спецслужбы вступали в прямое противостояние (как это бывало в некоторых странах). Но «территориальные споры» (в переносном смысле) случаются. Пока что система разделения (СВР–ФСБ–ГРУ) сохраняется, так как, как отмечают эксперты, она выполняет важную функцию: взаимный контроль. Разные службы могут следить, чтобы коллеги не «зарвались». В советское время, например, военная разведка опасалась, что КГБ следит за её сотрудниками – и это было правдой. Сейчас выявление кротов и защита секретов друг от друга тоже присутствует: разобщённость органов, помимо внутренних конфликтов, препятствует концентрации чрезмерной власти и способствует внутренней безопасности системы. Таким образом, российская модель сохраняет баланс между сотрудничеством во имя безопасности и соперничеством за влияние.
Аналитический вывод
Разведывательно-силовая система современной России представляет собой своеобразный гибрид советской и постсоветской моделей, со своими сильными сторонами и недостатками. Рассмотрим основные особенности российской модели разведки в сравнении с западной и наследием СССР.
Преемственность и сила традиций. Российские спецслужбы унаследовали от КГБ и ГРУ богатейший опыт и школы подготовки. Это даёт им огромное кадровое преимущество – династийность в СВР и ГРУ способствует сохранению навыков, а культ чекистов обеспечивает престиж профессии. Например, как отмечалось, в СВР многие приходят целыми семьями поколениями, ценя комфорт и длительную карьеру за рубежом. В ГРУ тоже хватает семейных династий военных разведчиков. Эта преемственность позволила России не терять компетенции даже в лихие 90-е. Кроме того, традиции широкого размаха операций сохранились: Москва по-прежнему ведёт разведдеятельность глобально – от США до Азии – напоминая о временах холодной войны, когда «не было уголка планеты, куда ни ступала бы нога офицера КГБ». С этой точки зрения российские спецслужбы остаются одними из самых мощных в мире. Их успехи – глубокие проникновения (нелегалы, источники вроде Ханссена), кибероперации, военные спецоперации – подтверждают высокий потенциал.
Централизация и гибкость. В отличие от многих западных стран, где функции разведки распределены между множеством независимых агентств, российская система довольно централизована. По сути, три столпа (СВР, ФСБ, ГРУ) охватывают почти все аспекты, и все они подотчётны президенту и Совету безопасности. Это позволяет при необходимости быстро объединять усилия и принимать решения без долгих бюрократических согласований. Например, проведение спецоперации за границей (такой как в Крыму 2014-го) включало в себя элементы политической, военной и контрразведки – и решение принималось в узком кругу, оперативно. В западной практике подобное потребовало бы одобрения нескольких ведомств и, возможно, парламентариев. Российская модель более «монолитна»: президент – бывший чекист – может лично отдавать закрытые поручения спецслужбам, не раскрывая деталей публично. Это даёт гибкость и внезапность действий, чего опасаются оппоненты (пример – неожиданное появление «вежливых людей» в Крыму). Кроме того, силовики интегрированы во власть: глава СВР, директор ФСБ, начальник ГРУ – все входят в близкое окружение президента и участвуют в выработке политики. Такая сцепка разведки и политики является сильной стороной: информация не теряется на пути к вершине, а наоборот – разведчики могут сами влиять на курс, предлагая меры.
Активные меры и наступательность. Российские спецслужбы, особенно ГРУ и в некоторой мере ФСБ, продемонстрировали готовность вести наступательные операции, выходящие далеко за рамки традиционного сбора информации. Это и кибервмешательства (в выборы, в критическую инфраструктуру), и политические влияния (поддержка определённых партий или движений за рубежом, кампании дезинформации), и точечные устранения врагов. Такая стратегия во многом наследует советской практике «активных мероприятий», проводившихся КГБ – тогда это были подрывные акции против НАТО, поддержка коммунистических движений, ликвидация «изменников Родины». Теперь идеология другая, но инструментарий остался. Сильной стороной этого подхода является эффективность в асимметричной борьбе: не обладая экономической мощью соперников, Москва использует «острые когти» разведки для достижения целей (вмешаться в политический процесс противника, ослабить его единство, ликвидировать опасного лидера экстремистов и т.п.). Многие западные наблюдатели признают высокий уровень русских хакеров и оперативников, умеющих находить уязвимости.
Однако у медали есть и обратная сторона. Недостатки российской модели разведки часто вытекают из тех же её особенностей:
Во-первых, избыточная секретность и слабый внешний контроль. В демократических государствах деятельность спецслужб хотя бы формально поднадзорна парламентам, прессе, общественности. В России же контроль носит скорее символический характер – спецслужбы подотчётны лишь президенту, а он, будучи выходцем из их рядов, склонен давать им карт-бланш. Отсюда риск злоупотреблений и ошибок, которые не сразу вскрываются. К примеру, долгое время скрывались данные о жертвах «Норд-Оста» от газа, не проводилось открытого разбирательства по Беслану – обществу оставалось только принимать официальную версию. Отсутствие критического аудита может приводить к просчётам в аналитике. Есть мнение, что в преддверии украинского кризиса 2022 года спецслужбы предоставили наверх слишком оптимистичные прогнозы о встретивших с цветами российских войсках – возможно, опасаясь доложить неприятную правду. Это указывает на внутреннюю проблему: подстраивание под политический заказ вместо объективности, что было и при СССР.
Во-вторых, внутренняя конкуренция и дублирование – палка о двух концах. С одной стороны, как говорилось, она служит страховкой (случайный перебежчик в СВР может быть пойман ФСБ, и наоборот). Но с другой – параллелизм функций требует лишних ресурсов и порой снижает эффективность. Эксперты указывают, что разобщённость органов безопасности РФ приводила к финансовым затратам и кадровым трудностям, а также к неизбежным трениям. В западных странах тоже есть межведомственные споры (например, CIA vs FBI), но там стараются их решать через координационные центры (Director of National Intelligence в США). В России же роль «координатора» берёт на себя президент и Совбез, но они не могут заглянуть на все уровни. Поэтому иногда ФСБ, СВР и ГРУ просто работают каждая в своём «стакане», обмениваясь информацией по минимуму, что может быть упущением. Особенно это критично на стыке внешней и внутренней безопасности – например, в киберпространстве, где полномочия пересекаются: и ФСБ, и ГРУ имеют хакерские подразделения, и не факт, что они всегда действуют синхронно.
В-третьих, репутационные риски и ответные меры. Агрессивные шаги российских спецслужб за рубежом привели к тому, что образ России в глазах многих стран ухудшился, а разведсообщество РФ оказалось под пристальным наблюдением. Массовые высылки дипломатов после 2018 года сильно усложнили работу СВР – сократилось число резидентов под официальным прикрытием, западные контрразведки активизировались, ловя даже тех, кого раньше терпели. Упомянутые провалы ГРУ (Солсбери, Гаага) выставили российских разведчиков не в лучшем виде. В ответ США и ЕС ввели санкции против сотрудников спецслужб, а также усилили обмен информацией между собой, чтобы противостоять российским операциям. Таким образом, хотя силовой подход приносит сиюминутные выгоды, он же мобилизует противников и во многом обратил мировое мнение против России. Для сравнения, советская разведка действовала более скрытно, избегая таких явных скандалов (исключение – убийство Льва Троцкого в 1940 или Георгия Маркова в 1978, но тогда не было таких расследующих СМИ и Интернета, чтобы сразу разоблачить). В современном мире же любая громкая акция почти сразу раскрывается независимыми расследователями, что наносит стратегический урон престижу.
Наконец, стоит отметить сравнение с советской моделью. Советский КГБ был единым мегаведомством с тотальным контролем внутри страны и широкой агентурой за рубежом. Постсоветская Россия разделила эти функции, что теоретически должно было предотвратить возврат к тоталитарным практикам (как сказал генерал, «их не для того расчленяли, чтобы снова сливать»). Однако при Путине ФСБ фактически превратилась в «новый КГБ» по влиянию – она занялась и идеологическими задачами (наблюдение за оппозицией и НКО, аналог бывшей 5-й службы КГБ, но теперь под лозунгом борьбы с экстремизмом). Сращивание ФСБ с властью породило феномен «силового государства», где гарантии прав часто отступают перед доводами безопасности. В этом смысле российская модель частично вернулась к советской традиции ставить безопасность режима превыше всего. Разница – теперь нет коммунистической идеологии, вместо неё – государственный патриотизм, но методы отслеживания нелояльных элементов, разработки диссидентов очень напоминают советские (применение наружки, прослушки, уголовного преследования по политическим статьям). С другой стороны, в внешней разведке российская модель более прагматична и лишена глобальной идеологии: СВР не стремится «экспортировать революцию», а сосредоточена на конкретных задачах – добыть технологии, заключить выгодные сделки, наладить связи с нужными людьми за рубежом. Здесь отличие от советского периода очевидно, и в чём-то это делает нынешнюю разведку более гибкой – ею движут интересы государства, а не догмы мировой революции.
Сравнение с западными службами. Российская разведсообщество более интегрировано вертикально – под единым руководством, с общим воспитанием кадров (академии ФСБ и СВР разделены, но имеют схожий дух). На Западе спецслужбы зачастую разрозненны (в США – 17 агентств, координация через директора нацразведки, в Британии MI5, MI6, GCHQ и т.д.). Плюс российской системы – оперативность и отсутствие жёстких рамок закона: там, где западные офицеры ограничены сильным парламентским надзором и рискуют предстать перед судом за незаконные действия, российские чувствуют себя уверенно, зная, что государство их прикрывает (никто не выдаст своих, Лугового же не выдали). Это развязывает руки для смелых операций, но чревато и тем, что некоторые сотрудники могут перейти грань, считая свою безнаказанность абсолютной. В истории были примеры, когда даже внутри системы приходилось отрезвлять зарвавшихся: так, в 2004 году группа офицеров ФСБ во главе с подполковником Михаилом Трепашкиным сама пыталась разоблачить возможные злоупотребления руководства – но они были уволены, а Трепашкин и вовсе осуждён. На Западе в подобных случаях запускаются расследования Конгресса (как после скандала Уотергейт или обнародования сведений Сноуденом), а в России предпочитают замалчивать.
В целом сильными сторонами российских спецслужб можно назвать: высокую подготовку персонала, историческую память и преемственность, широкие полномочия и средства, способность действовать неординарно и комплексно (используя военные, технологические, агентурные инструменты в сочетании). Слабые стороны: недостаток прозрачности и контроля, риск политизации информации, межведомственное соперничество, которое иногда мешает, а также репутационные издержки на мировой арене. Тем не менее российская разведка продолжает оставаться одним из ключевых игроков в глобальной «теневой войне» разведок. Как отметил один из западных аналитиков, «российские органы безопасности действуют в политическом контексте, отличном от западного, что придаёт им радикально иной характер действий». Они ведут себя как часть государственной машины влияния, где методы могут быть жёстче, а цели шире, чем просто сбор сведений.
Можно сделать промежуточный вывод, что российская модель разведки – это евразийский «трёхглавый орёл»: одна голова (СВР) смотрит наружу, добывая тайное знание, другая (ФСБ) обозревает внутренние порядки, охраняя государство изнутри, третья (ГРУ) зорко следит за военными тайнами по всему миру. Вместе они обеспечивают масштабное прикрытие интересов России. Но каждая голова имеет свой нрав, и порой они не совсем согласованы между собой. Тем не менее, когда перед страной встаёт серьёзный вызов, эти три силы способны, отбросив разногласия, работать в унисон – примеров тому история знает немало.
Для России, унаследовавшей от Советского Союза статус мировой державы, разведслужбы остаются важнейшим инструментом политики, «невидимым щитом и мечом» государства. Их особенность – сочетание старого и нового, традиций и инноваций, что делает их интересным объектом изучения и одновременно внушает опасения оппонентам. Российские спецслужбы эволюционируют вместе с страной: и хотя формы работы меняются (кибершпионаж пришёл на смену бумажным донесениям, спутниковая разведка – на смену агентам-наблюдателям), во главе угла по-прежнему стоят разведчики – люди, мотивированные идеями патриотизма и причастности к великому делу. Они продолжают писать новую главу истории, начатую сто с лишним лет назад чеканным девизом Дзержинского – «Холодная голова, горячее сердце и чистые руки». Действительность, конечно, далека от идеала – но российская разведка старается соответствовать своему наследию, приспосабливаясь к вызовам XXI века. И как показывают события последних лет, подчас именно от действий этих невидимых служб зависят судьбы стран и целых регионов – значит, интерес к ним не ослабеет, а их роль в российской модели безопасности остаётся определяющей
