Записки охотника за томатами
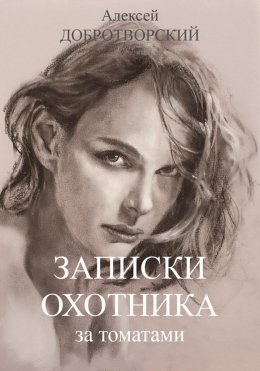
Глава 1. Радостная новость
Было начало лета – тёплого, солнечного, долгожданного. Сессия наконец закончилась. Мы получили своё подтверждение педагогической мудрости в виде цифр, аккуратно расставленных в тоненькой зачётке.
С чувством великого удовлетворения от проделанной работы я укладывал свои пожитки в видавшую виды спортивную сумку. Последний экзамен – он всегда самый любимый. Самый лёгкий, даже если по электротехнике. Потому что после него – всё. Каникулы. Свобода.
Оставалось только сдать книги в библиотеку – ритуал, почти праздничный. И можно было начинать настоящее лето: заслуженное, просторное, полное запахов, тишины и солнца.
В планах было провести три месяца в деревне, в бабушкином домике – подальше от пыльного и раскалённого города, который летом превращался в один большой раскалённый поддон.
Это называлось красиво и звонко: «летние каникулы на даче». С бабушкой, братом, сёстрами, друзьями. Утром – блинчики. В обед – душистый, крепкий борщ, а на второе – пюре с котлетами в сметане. И конечно – кисель из ревеня, густой и малиновый.
На рыбалку – рано. Велогонки – весело. Купания в пруду – до мурашек, до темноты. А по вечерам – дым костра, укус комара и разговоры, которые взрослые называют «бессмысленными», а мы – самыми нужными.
Лето было не воспоминанием, а настоящей материей. Если закрыть глаза – можно было почувствовать в руках бамбуковую удочку, услышать утренний крик петуха за забором, вдохнуть аромат трав, расплывающийся по деревне, как пар.
Проснувшись утром, достаточно было просто приподнять голову – и в окно уже виднелась тонкая полоска тумана у края леса. Там, где капли росы на траве начинали исчезать, растворяясь в лучах восходящего солнца.
И тут – всё вдребезги, как из рогатки – прилетает Ирка, двоюродная сестра.
– Привет! Ты записался?! – чуть не кричит, будто пожар начался.
– Куда записался? – спрашиваю осторожно.
– Да ты что?! Все едут в Астрахань! Помидоры, жара, деньги!
Меня слегка повело. Помидоры? Деньги? Астрахань? Где мой кисель?
Надо признать один факт. На тот момент, я совершенно не был готов. Я ничего не знал и совершенно не понимал… что это такое? Строительный отряд. Поток романтических атрибутов, окружавший аббревиатуру ВССО – Всесоюзный Студенческий Строительный Отряд, однозначно закружил мне голову.
Четыре буквы, от которых у девчат глаза блестели, а у парней вырастала спина. Там всё было красиво – форма, поезд, Астрахань, настоящая работа. Ну и, конечно, романтика. Такая, которую показывают в кино перед тем, как начинается голод, жара и дизентерия.
На стол высыпались нашивки – яркие, как жвачка.
Одна была с лопатой. Вторая с каким-то абстрактным солнцем.
Сомнений не оставалось. Я еду.
Возжелавших попробовать новичков, собралась целая аудитория. Инструктаж проводили двое, как выяснилось потом начальник лагеря Юрий Николаевич и один из завсегдатаев путешествия четверокурсник, Михаил. Который выступал первым.
–Ничего лишнего не брать.
Гремел его уверенный и строгий бас.
–Зубные щётки, мочалки и пару сменного белья.
Говорил он размеренно, без суеты, как будто уже знал, что мы всё равно возьмём лишнего, забудем важное и перепутаем полезное с бесполезным.
Я сидел, впитывал романтику. Пока ещё без запаха пота и комаров.
Ирка, между прочим, не поехала. Как потом выяснилось – по причине "слабого здоровья". То есть её просто не взяли. Что на фоне её энтузиазма выглядело особенно… символично.
Глава 2. Путешествие туда
Утро было пасмурным. Небо низко нависло над Павелецким вокзалом, моросил дождь – не тот, что всерьёз, а так, будто воздух забыл, зачем начал, и решил просто помочить студентов на прощанье.
Толпа на перроне походила на разбушевавшееся картофельное поле – всё в рюкзаках, сумках, авоськах, пластиковых бутылках с лимонадом и варёными яйцами. Шум, как в курятнике в грозу. Студенты – из техникумов, институтов и даже самих недр МГУ – прощались с родителями. Кто-то улыбался, кто-то смеялся, кто-то нервно пережёвывал хлеб с колбасой.
Нам, участникам лагеря, достались два из двадцати двух вагонов поезда, следующего по маршруту «Москва – Астрахань». Поезд увозил не только нас – вся Москва, кажется, решила срочно построить социализм в отдельно взятой деревне. Кто ехал ради денег, кто – ради романтики, а кто просто не сумел отбрехаться у комсомольского начальства.
Вы, уважаемый читатель, возможно, скажете: "Это всё из-за денег!" – и будете почти правы. Но не до конца. В стране, где деньги то исчезали, то становились не теми, кем были, любовь к труду внушали иначе – через чувство долга, долг через чувство вины, а вину – через утренние линейки и песни о Родине.
Когда поезд, пошатываясь, доплёлся до тупика и прошипел, как пожилой сантехник после смены, нам разрешили грузиться. Влажные борта вагонов, украшенные надписью «Москва-Астрахань», капали дождём. Родные остались на перроне – как всегда: с платками, слезами и непроизнесёнными словами.
Мы загрузились. Сначала – ногами, потом – сумками, потом – кто на полки, кто под. В вагоне, рассчитанном на пятьдесят четыре души, нас разместили семьдесят. Вероятно, по арифметике Министерства транспорта, в советском пассажире заложен не только дух, но и резиновость.
Мне досталась верхняя багажная полка. Почему – не знаю. Возможно, так распорядился Бог наземного транспорта и поездной логистики. Зато я стал единственным юношей в этом верхнем царстве, окружённым девушками. Для пятнадцатилетнего подростка, ранее терявшего дар речи при виде противоположного пола даже в набитом троллейбусе, это было равносильно высадке на Венеру.
В техникуме у нас девушек не водилось. Иногда, правда, их замечали в столовой, но чаще – в фантазиях студентов. Единственным связующим звеном с женским миром была Галина Михайловна Кузина – преподаватель математического анализа, а по сути – инженер по разрушению юношеской самоуверенности.
Её звали просто: ГМК – не по инициалам, а по совпадению с «Государственно-Монополистическим Капитализмом». Она организовывала вечера знакомств, заставляла нас танцевать с незнакомыми девушками, пыталась «воспитывать культуру». Многие после этих мероприятий начинали заикаться. Я же был спасён репетициями в вокально-инструментальном ансамбле, организованном той же Кузиной.
Поезд шёл долго. Останавливался часто, будто вспоминая, куда он едет. Пропускал товарники, начальников, буровые установки и прочую социалистическую значимость. Тридцать шесть часов спустя мы прибыли в город Харабали.
Через шесть часов ожидания нас, измятых и пахнущих чаем, погрузили в грузовики и отправили в лагерь – на берегу реки Ахтубы, в село Селитренное. Исторически – это был Сарай-Бату, столица Золотой Орды. Теперь – столица нашего летнего трудового энтузиазма.
Глава 3. Первый день
Выгрузили нас возле бетонного забора, украшенного колючей проволокой – будто не на битву за урожай прибыли, а на принудительное перевоспитание через физический труд. Оттуда, с сумками и лицами, ещё полными ожиданий, нас проводили внутрь лагеря и строем повели на торжественную линейку. Повод был серьёзный – прибыло подкрепление. Настоящее. Свежее. Городское.
Устроили построение. Церемония, как водится, с речами – «трудовое братство», «социалистическая ответственность», «труд – дело чести» и прочее, что положено говорить, когда в 38-градусную жару перед тобой стоят студенты, недавно покинувшие экзаменационные аудитории и ещё не успевшие осознать, куда попали.
Часть бойцов уже была на месте – те, кто сдал сессию заранее, в начале мая. Им, бедолагам, досталось по полной. Потому что в мае под Астраханью начинается не сельхозработа, а откровенное выживание. Половодье тогда выдалось знатное, мошка вылупилась массово и злобно – с чувством, с толком, с ненавистью.
Местные рассказывали, что в те дни человек с сеткой на голове, в ватнике и резинках на штанинах мог пройти триста метров до поля и быть съеден полностью. Сначала кровососы атаковали лицо, потом шею, руки, ноги – а когда всё закончилось зудом и волдырями, человека узнавали только по характеру. Всё тело чесалось так, что некоторые чесались во сне и просыпались уставшими. Настоящие герои. Или дураки – но симпатичные.
После линейки каждый отряд разделили по двум баракам – как полагается, мальчики налево, девочки направо. Бараки представляли собой бетонные коробки с железной крышей. Проектировались они, видимо, людьми, уверенными, что студент днём в поле, ночью в небытии, а между этими состояниями ему, собственно, ничего и не нужно.
Металлическая крыша днем разогревалась до состояния пельменя на сковороде. К утру температура падала – но не резко, а медленно, с достоинством. Примерно к трём часам ночи становилось почти не жарко. А там и подъем – в шесть.
Новые бойцы, те, кто только приехал, пока ещё ничего этого не знали. Они стояли у бараков, улыбались, щурились на солнце и обсуждали, кто с кем в одной постели. Марля от комаров полагалась одна на две койки. А не то, о чём, возможно, вы подумали! Над ними уже летали первые разведчики из семейства Culicidae, и будущее пахло пылью, потом и крепкой дружбой.
Впрочем, всё это было впереди. А пока – построение, бараки и романтика первых суток.
Глава 4. Первые радости
Подъём, казалось, проспать было невозможно. Даже если ты буддист на ретрите по глубокому сну. Сирена выла с такой мощью, что, вибрировали зубные пломбы. Хотя, как выяснилось позже, что проспать всё-таки можно – особенно если накануне тягаешь метровую траву с энтузиазмом мотоблока. Уставали так, что даже этот вой становился милой колыбельной.
Каждое утро нас ждала линейка. Торжественная, как вручение Нобелевской премии, только с меньшим энтузиазмом у лауреатов. Опоздать на неё – всё равно что самому добровольно влиться в ряды заключённых, причём с перспективой мыть не только пол, но и кое-что похуже.
А именно: дежурство по кухне всю ночь, ночной караул бидонов с гипнотическим залипанием в пустую кастрюлю, и, наконец, высшая мера – очистка лагерного сортирного комплекса. Это вам не Пулитцеровская премия. Последнее всерьёз пугало даже философски настроенных романтиков.
Впрочем, пока всё воспринималось как новое и потому – почти весёлое. После линейки нас, как отстающих в эволюции, отправляли в столовую последними. Зрелище открывалось незабываемое: длиннющий барак, столы как из сказки про великанов и длинные лавки, способные усадить полроты кавалерии.
Там я впервые в жизни узнал, что манная каша может быть сварена на воде. Без соли. Без сахара. Без смысла. Консистенция – лёгкая бронетехника. Запивалась она холодным чаем, тоже без сахара, но зато с оттенком загадки. Однако никто не унывал: каждый держал в памяти тайничок со сгущёнкой и рыбными консервами, и воспринимал происходящее как лёгкое кулинарное недоразумение.
По поводу тайничков. Однажды совершенно неожиданно, на утренней линейке нам предложили самостоятельно выбросить все привезённые с собой запасы еды. Врачебная коллегия вынесла приговор. Всё подлежало безоговорочному уничтожению. И консервы, и сладости, и вкусные печеньки. Совсем всё. Времени чтобы перепрятать ни у кого не осталось. После завтрака нас быстро погрузили в машины и увезли на работы. Все надеялись спасти драгоценности позже. Но вечером в лагере, все вещи, которые были в тумбочках, в рюкзаках и сумках валялись разбросанные на кроватях. Среди всех этих вещей не было ничего съедобного. В этот момент, почти у каждого пострадавшего, проскочили нехорошие мысли. Но тогда ещё никто не понимал, что наступает голод.
Погрузка в грузовики прошла быстро. Половина отряда поехала, вторая – пошла пешком. До «недалёких» полей было километров пять. Но утренний ветерок, пыльная дорога и бодрый шаг делали путь почти приятным. Радоваться жизни мешали только комары да мошки, у которых график кормёжки совпадал с нашим временем посещения их мест обитания. Обычно устав от жары, они прятались в тени растений, неподалёку от своих жертв, студентов Электромеханического техникума.
Нам сразу доверили ответственное дело – прополку овощных грядок, высаженных весной. Среди джунглей из сорняков, высотой с плечо, можно было при желании и хорошем зрении, разглядеть робкие росточки томатов или огурцов – кому как повезло.
Инструктаж командира был краток:
– Выдёргивать с корнем! Я лично всё проверю! И если что!..
Тут она сделала паузу, такую, что стало ясно: «если что» – это конец карьеры, брака, будущего и жизни в целом.
– Мы выяснили это чуть позже. Некоторые – опытным путём.
Каждому вручили по грядке. Протяжённость – от подножия «Обречённого» и куда-то за горизонт…
Уже к полудню мы знали, что такое ад. Панамы снимать было запрещено, длинный рукав – раздеваться сам не захочешь. Стоило коснуться травы, как с неё взлетала туча комаров, как саранча в апокалипсис.
