Тайный остров
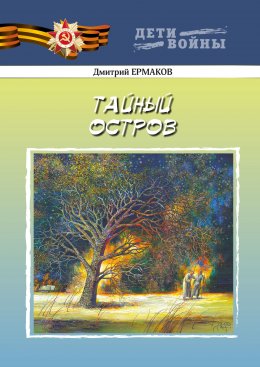
Серия «Дети войны» основана в 2010 году
© Ермаков Д. А., 2025
© Оформление. ОДО «Издательство “Четыре четверти”», 2025
Глава первая
Семигорье – главное село округи – раскинулось вблизи синего Сухтинского озера, чуть в стороне от главной дороги, на долгом пологом склоне холма. Церковь в окружении тихих могил стоит на вершине, три изогнутые улички – избы с палисадами, сараи, бани, огороды – сбегают в сторону озера… Но до озера улицы не добегают – будто растворяются в травах и кустах водополья…
С холма видны, если глядеть в одну сторону, – воды Сухтинского озера, изгиб впадающей в него речки в травяных берегах, серая дорога вдоль воды (пересекая речку, большая дорога, сворачивает от озера, огибает холм и село и потом снова приближается к озёрной глади); по другую сторону – невысокие длинные холмы (из Семигорья видны шесть холмов – отсюда, наверное, название и всей волости, и села, ведь оно стоит на седьмом холме). По склонам раскинулись поля, видны крыши деревень, леса, ленты дорог, русла ручьёв и речушек, обозначенные зелёным кружевом береговых кустов…
К 1941 году Семигорье – центр Семигорского сельсовета, центральная усадьба колхоза «Сталинский ударник» (в нём ещё пять окрестных деревень). Тут же и контора кружевной артели: ведь почти все женщины в округе – от пятилетней девчонки до столетней старухи – кружевницы…
В бывшей Покровской церкви теперь «пожарка»: колокольня – готовая пожарная каланча, а внизу, в самом помещении храма, нелепые в огромном пространстве – телега с бочкой и шлангом, кой-какой пожарный инструмент – вёдра, лопаты, топоры, багры, в отдельной выгородке – сено для мерина. Сам же мерин Соколик, исключённый по старости из колхоза, тихо живёт в отдельном сарайчике рядом с церковью, летом гуляет на длинной привязи там, где определит ему конюх.
Постоянных пожарных двое – однорукий дед Попов, которому предписано наблюдение с колокольни-каланчи за округой и немедленная подача сигнала в случае замеченного пожара, и Оська-поляк – пожарный-конюх.
Такие строгие противопожарные меры приняты совместным решением колхоза и сельсовета после прошлогоднего пожара. Осенью, во время сушки зерна, загорелся овин. Огонь едва на крайние бани не перекинулся, тогда бы уж и селу несдобровать.
Село-то отстояли, а вот несколько тонн зерна – в снопах и уже вымолоченного – напрочь сгорело.
Злого умысла в том, конечно, не было: караульщик, Васька Косой, поддерживавший огонь, просто-напросто уснул, ладно хоть сам не сгорел.
Бригадир, отвечавший за сушку, Степан Бугаев, первым к горящему овину прибежал. Васька, ошалевший от страха, сидел, обхватив голову, под дымящейся стеной. Степан за ворот его схватил, оттащил, пинка под зад дал… Прибежали ещё люди. Пытались тушить… Не спасли зерно.
Когда из района следователь приехал, Степан вдруг и скажи, что это он в ту ночь дежурил. «А вот председатель говорит, что дежурил Василий Ляпин…» – следователь ему в ответ. «Нет. Я его подменил. Ваське надо было картошку копать, он же один у матери-то, вот я и подменил». Так ведь и взял вину на себя – отчаянная голова. Пять лет дали. «Ты зачем это сделал-то?» – его спрашивали. А он: «А чего мне? Васька – он убогий, инвалид… Куда ему… А я хоть мир погляжу», – несколько небрежно говорил Степан.
Отправляясь в городскую тюрьму, оставлял он одних престарелых родителей. Сестра Мария – замужем в городе…
Вот после того пожара и «пожарку» устроили…
Сейчас на звоннице колокольни сидят трое: Николай Иванович Попов – старый моряк, участник Цусимы (вместо левой руки у него культя до локтя), Осип Поляков, внук ссыльного поляка, – длинный, худой, с вытянутым унылым лицом кадыкастый парень (пора бы уже и мужиком быть, да всё жениться не может) и присоединившийся к ним любитель умной беседы и коллективного газетного чтения очкастый ветеринар Глотов. Он умеет строить смешные рожи или же напускать на себя важность, так что, бывает, и не поймёшь всерьёз он что-то говорит или шутит. Однако же – человек уважаемый, в городе учёный.
Читают, кажется, «Известия»…
– Да не части ты, Сано! – ругнул дед Попов ветеринара. – Помедленнее, да внятно читай, а то шамкаешь… Как…
– Сам, ты, Николай Иванович, шамкаешь, – огрызнулся Глотов, но читать стал медленнее. Попов довольно кивнул и стал особо внимательно слушать «про япошек»…
– Севернее Самшуя, – Глотов успел тут вставить «ух ты!» и подмигнуть Полякову, – продолжаются бои около Лубао. В этих боях японцы потеряли двести человек. К юго-востоку от Кантона японский отряд в четыреста человек атаковал китайские позиции в окрестностях Шэньчуня. – И опять своё «ух ты» вставил и подмигнул, а Оська усмехнулся в ответ, старик же ничего не заметил. – После боя, длившегося всю ночь, атакующие вынуждены были отступить…
– Ишь ты, огрызаются китайцы-то… А нам дак наваляли япошки… – заговорил снова Попов. – Обидно – мы по ним палим, не достаём, а они кажный раз – точное попаданьё…
– Ну, завёл опять… – Глотов прекратил чтение. – Скажи ещё, что рис невкусный.
Николай Иванович Попов, два года после Цусимского сражения пробывший в японском плену, часто вспоминал то время, ругал «морское командование» и «японскую крупу», то есть – рис…
– А тебя бы два года той крупой кормили! – ругнулся он на Глотова. – Оська, там не пора ли склянки-то бить? – Полякова спросил. (Это председатель колхоза Коновалов ввёл – в шесть утра, потом в девять, в полдень и далее через три часа до девяти вечера «бить часы», чтобы «дисциплинировать тружеников колхоза».)
Осип достал из кармана штанов часы с откидной крышкой (говорят, что часы ещё его дедом из Польши привезены), неторопливо нажал рычажок сбоку; не сразу, будто подчиняясь неторопливости владельца, часы откинули крышку…
– Нет, не пора, пятнадцать минут ещё…
И продолжилась политическая беседа:
– Вот мы с немцами договорились, мировую подписали, а японцы с китайцами – никак. Не хотят мира япошки! – говорит старик Попов, щёлкая при этом пальцем по газете.
– Гитлер – хитрый лис, обведёт Сталина… – говорит многозначительно Глотов, будто знает что-то такое, чего не знают другие.
– Ты это брось… – недовольно бросает Попов. – Хитёр Гитлер, да ведь и Сталин не глуп!
– Дай-ка, Александр Петрович, твоих-то покурить, – смущённо просит Оська Поляков у ветеринара, который вчера вернулся из города с районного совещания и привёз «Казбек»…
– Тут дак и Александр Петрович, а то дак всё – Сано, Сано… – недовольно бормочет Глотов, напуская на себя смешную обиженность, перебирая губами, будто бормоча что-то ещё. Достаёт портсигар, неторопливо раскрывает.
Оська двумя плоскими пальцами, с жёлтыми от курева ногтями, достаёт папиросу, прикуривает, опять смотрит на часы, берётся за верёвку, привязанную к языку маленькому колокола.
– Только что говорил – пятнадцать минут… – удивляется Глотов.
Оська только отмахивается, не выпуская папиросу изо рта, дёргает верёвку. Дребезжащий звук скачет по селу, по ближним полям, будто вязнет в кустах у леса и у озера.
– Вот кто велел большой-то колокол скидывать? Мешал он им… – недовольно кряхтит дед Попов. – Это ж недоразумение, будто чугунок треснутый брякочет, – говорит о звоне маленького колокола и, отмахиваясь от табачного дыма, продолжает: – Нашли место дымить! Церковь ведь тут…
– Нету больше церкви, – твёрдо и даже вроде бы зло ответил Глотов. – Пожарка тут у нас, – добавил с видимой издёвкой.
Разорённая церковь – боль старика Попова, да тут и он не волен что-то сделать… Хоть алтарь запер, хоть иконы по добрым рукам раздал…
А большой колокол скинули «сельсоветчики» и комсомольцы ещё лет десять назад. В тот же год закрыли церковь, был арестован и выслан, как говорили, куда-то «на Печору» священник отец Анатолий и образован колхоз… На колоколе была медаль с изображением Императора Александра – тем, видно, и не угодил. При падении колокол раскололся. Осколки и мелкие колокола-подголоски куда-то увезли… (Поговаривали, что из колокольного металла делают тракторы, но никто до сей поры в Семигорье тракторов не видывал.) Оставили вот этот один маленький колокол – «для сигнализации»…
Шесть дребезжаще звенящих ударов. Шесть часов вечера.
Все трое смотрят на округу… Озеро всё в золотистых солнечных чешуйках. Безветрие. Ласточки высоко стригут воздух острыми крылышками. Возвращаются с работ колхозники. Одна бригада припозднилась: домётывает стог за «косминским» лесом. Без понукания тянется от дальней выгороды по прогону колхозное стадо, и пастух Кукушкин во всепогодном плаще дремлет, покачиваясь на вислобрюхой лошадке. Из-за ближнего леска мальчишка-пастушок гонит овец и коз. В палисадах и у могилок вкруг церкви цветёт сирень, сладкий дух её к вечеру становится ещё ощутимее…
– Пойду стадо принимать, – говорит ветеринар.
– Пойду мерина заставать, – говорит Оська-поляк.
И оба уходят. Николай Иванович Попов остаётся. Он вспоминает годы, когда, как и все мальчишки, за счастье считал побывать на этой колокольне, дёрнуть за верёвку, привязанную к языку большого колокола, оглохнуть от праздничного перезвона… Да, другая жизнь, совсем другая, пришла. Будто и не было детства, молодости, будто уже и не он служил на военном корабле, был в далёкой Японии, видел, возвращаясь из плена, Китай, Сибирь, Урал, Москву…
Вечер сегодня тихий. Завтра, в воскресенье, «на обещанный» шумно будет, вся округа соберётся.
Престольный-то у них Покрова. А «обещанный» – Всех Святых праздник. В каждой деревне или селе издавна «по обещанию» справляют какой-либо церковный праздник…
«Церкви нет, а праздник остался? Вот как! – удивился сам себе старик. – А без церкви дак чего – фулиганство одно!..»
Дед Попов ещё долго сидел на колокольне один… Смотрел и ничего не видел – вспоминал, думал…
Это теперь лучше не упоминать, а раньше не скрывали – все знали (да и сегодня помнят), что в семье Поповых в каждом поколении монахи были. Или кто-либо из братьев, или дочь в монастырь уйдёт. Были и иеромонахи среди них (оттого, может, и фамилия – Поповы – пошла). И у него брат был монахом – умер уже. Вот и сам он – не монах, а всё ж, как инвалидом в Семигорье вернулся, – всё при церкви. Раньше сторожем, теперь вот так получилось… Да что ж делать-то? И батюшка-страдалец, отец Анатолий, перед тем как забрали его и церковь закрыли, благословил Николая, просил, чтобы тот при церкви оставался, по возможности хранил от осквернения алтарь. И дед Попов никого в алтарь не пустил, запер на замок да и всё – кладовка, мол, там. Иконы, какие смог, тоже прибрал, многие из них разобрали по домам бывшие прихожане…
Старик отбил девятичасовые «склянки», постоял ещё, посмотрел на розовеющее в закатном солнце озеро, на зарождающийся туман, тонкие пряди которого начинали свиваться над водой, на всю эту округу, поля которой исходил он с косой и плугом ещё до призыва на морскую службу, на тропки, которые в детстве уминал босыми пятками…
Спустился с колокольни, привычно управляясь одной рукой, запер низкую деревянную дверь большим навесным замком. Пошёл вокруг церкви, мимо и между могил.
В кустах возня и смех. Ясно: парни сирень рвут. Николай Иванович особо не ругался, лишь бы не баловали, могилы не трогали. Но сейчас увидел на примогильной скамейке парня и девушку. Как положено – его пиджак у неё на плечах, и рука его тоже на её плечах, и что-то шепчет ей в ухо, а она его веточкой сиреневой по губам…
Услышав шаги старика, девушка сорвалась с места.
– Да, подожди, – парень её удерживал за руку. – Чего тебе, дед? – к старику обернулся.
– Да мне-то ничего… Это вы другого места не нашли… Ты, вроде, не наш… С Космова, что ли?
– Не твоё дело, дед, – огрызнулся парень и побежал за вырвавшейся всё-таки девушкой.
– Я вот тебе дам – не твоё дело! Вот парням-то, скажу – наваляют. Ишь ты… – недовольно бурчал старик, короткими шажками подвигаясь по тропке между могил.
«А девка-то, Валька, что ли, Костромина? Похоже, что Валька… Ох, быстро растут – давно ли соплюшка тоже была. С дедом-то её, с Андреем, смеялись, что вот бы Ванька-то взял бы Вальку – породнились бы… А она, вон, с каким-то уж жмётся. Да это вроде Митька – бухгалтер кружевной артели… А Ванька так о девках и не думает, а ведь… Сколько же ему получается-то?.. Иван, отец его, в конце семнадцатого приходил. Значит, этот-то Ванька – с восемнадцатого. Сколько это получается-то?.. Пора. Пора уж жениться-то ему… Да ведь и я такой же был. Все мы, Поповы, такие… Да…»
Вот и могила дружка его Андрея Костромина, с деревянным тёмным крестом. Пятнадцать лет, как в могиле Андрей, одногодок его… «А я вот зажился… А и хочется пожить-то. Помирать пора, а хочется…»
«А вот и Александра Харитоновна моя… Вот и ты…» К могиле жены подошёл, постоял, прошептал что-то, кивнул. Дальше пошёл…
Озеро нынче спокойное. А бывает – подует дольник-ветер вдоль озера, которое вытянуто, как щука, с юга на север, и разгонит волну – страшно…
Иван Попов спускается по тропке за огородами, прямо к озеру. Вечереет. И долго ещё после зорьки будет витать миражный, забелённый туманом свет. Потом на краткий миг стемнеет – и снова заря, уже утренняя…
Роста Иван небольшого, но плечистый, ладный, волосы светло-русые, глаза серые – летом до голубизны выгорают… Мать его, Катерина, бывает, глянет нечаянно, ахнет – отец же вылитый! На деда своего – Николая Ивановича – тоже похож.
Семилетку Иван не кончил (семилетняя школа помещается в том же доме, где раньше была церковно-приходская, неподалёку от храма). Из-за ерунды вроде и получилось-то, а – наотрез: не пойду больше и всё тут!
Учился Иван не очень хорошо, но школу любил, старался. В одном с ним классе учился Митька Дойников. Тот вроде и не старался, а отличник был, на лету всё схватывал. В любых делах – Митька заводила. А насмешник такой, что не дай бог на язык ему попасться. Ванька попался.
В пятый класс он пошёл в пиджаке, перешитом матерью из старого отцовского. Радовался – настоящий пиджак, как у взрослого!.. И чего Митька смешного нашёл – давай смеяться, пальцем тыкать: «Батькин пиджак, батькин пиджак!» (А Ваньке особенно обидно, оттого что отца-то своего он в глаза не видывал.) Смеётся Дойников да ещё такие рожи корчит, что и весь класс – впокатушку. Ванька и сорвался, убежал. И с тех пор в школу – ни ногой. Хоть мать и силком заставить пыталась и со слезами: «Не позорь меня перед людьми. Скажут – безотцовщина, дак и не выучился…» Даже директор школы Антон Сергеевич приходил, с матерью и с ним разговаривал… Нет, не стал больше Ванька учиться. В колхоз работать пошёл. С тех пор – все работы прошёл. Сначала отправили его со «старши́м» огород пахать (на колхозном огороде сажали картошку, морковь, огурцы, капусту). Гряду пахать – это не как поле под жито, надо лошадь левее плуга держать. Вот он, Ванька, и направлял её, а старшой плуг вёл…
Потом уже Иван сам и боронил, и поле пахал. Приметил председатель его тягу к механизмам – на конную молотилку поставил. Тут уже двое парнишек лошадей подгоняют, а он за старшего – снопы на барабан подкладывает, когда нужно, то механизм смазывает, настраивает… Так вот уже несколько лет у него и идёт работа в колхозе: весной пашет, летом косит траву на конной косилке, потом зерновые – ячмень, рожь, овёс – косит, затем осенью он же и молотит на конной молотилке. Часть зерна в колхозе сушили и молотили по старинке – в овинах, цепами. Зимой парень вывозил в поле навоз, возил сено, дрова… Всё у него хорошо получалось, всё ему нравилось в этой работе, и не жалел Иван, что из школы ушёл.
С девушками он, и правда, не гулял. Как в школе ещё в Вальку Костромину влюбился, так ведь на других и не смотрел, а и ей-то сказать не мог. Не то что сказать – выдать себя хоть чем-то боялся… А она в последнее время с Митькой Дойниковым гуляет…
Года два назад, весной, Ванька (да и все, кто не поленился) хорошо рыбы взял. Сети ставили прямо на водополье (луге, заливаемом в половодье), и рыба в считанные минуты сети забивала, успевай только освобождать и снова забрасывать.
И поехали удачливые рыбаки-семигоры в город на базар, рыбу продавать. Иван в их числе. Хорошо заработал. Там, в городе, и купил гармошку. Почти что все деньги на неё извёл.
Мать узнала – только руками развела, хотела хлестнуть его мокрой тряпкой, да махнула, отвернулась, ушла… Отец-то его, муж её, тоже играл, продала она гармонь, когда одна с дочерью и сыном осталась…
Иван быстро на гармони играть выучился. Может, для того больше и выучился, чтоб с пляской не приставали: не умел он плясать, стеснялся…
Но что бы причиной ни было, – а играть он любит. Ах, как гармошка ему нравится! Розовые меха, перламутровые кнопки, кожаные ремни, податливый его пальцам голос… Всю душу его гармошка выпеть может. И ведь никто не учил. Сам, на слух, любую мелодию (не только под пляску, но и песни) подобрать может…
Тропа петляет среди ивовых кустов и зарослей осоки. Взлетел из травы голенастый, с длинным кривым клювом кулик. Слышны пронзительные крики чаек впереди, на озере. Стрекозы перелетают со стебля на стебель, зависают в воздухе. Их так много, что кажется, это они своими слюдяными, синеватыми, поблёскивающими на солнце крылышками и делают лёгкий ветерок…
Иван вышел на берег, столкнул на воду лежавшую в траве плоскодонку, влез, вставил вёсла в уключины, погрёб.
И ещё долго шуршали вёсла и борта о хвощи и осоку, пока лодка не вышла на чистую воду.
Солнце садится в заозёрный лес. Вода – лазоревая, розовая, сиреневая…
Сеть поставлена от прибрежной мелкоты (от того места, где заканчивалась озёрная трава) в глубь озера, к середине, натянута между двумя крепко вбитыми в глинистое дно батогами. По верхнему краю сетки – берестяные поплавки, по нижнему – грузила (две тяжёлые ржавые гайки от какого-то механизма и старинные – из обожжённой глины с камнем внутри).
Сетку Иван не снимал – только проверял, склонившись, поднимал кусок сети, вынимал рыбу. Всё больше лещ, но вот и щука, вот и хищные горбатые окуни, вот и царь-рыба – нельма.
…Так бывает на озере: туман сгущается вдруг, внезапно, такой, что не видишь пальцев собственной вытянутой руки.
Да где же берег-то? Уж какой бы ни был туман, а в своём-то озере не заблудится ведь семигор…
Но не шуршат вёсла осокой – будто не к берегу, а дальше в озеро плывёт Иван.
И вдруг лодка упёрлась в берег. Он потыкал веслом, раздвигая туман, вылез, поддёрнул лодку за носовую цепь. Звуки будто вязли в набухшем воздухе – не слышен ни плеск воды, ни звон цепи.
Еле виднелись вблизи кусты, деревья… Иван не узнавал место.
И тишина. Тишина такая – будто мхом уши заложило.
Но что это?.. Звук – сперва далёкий, потом ближе, ближе. Голоса… Поют что ли? Молятся?.. Церковь. Ворота в неё открыты, а там огоньки свечей и негромкое, торжественное пение. Да что же это за церковь-то? Такой и не видывал. Иван поднялся от воды, приблизился к храму, но дальше, за порог, не может и шага сделать. И к нему вышел монах, старый, весь в чёрном и кресты белые на одежде, а за ним ещё шестеро в монашеской одежде стоят, опустив очи долу…
– Опять враг на Русь пришёл. Будем молиться. А ты иди и не бойся. Иди! Бог с тобой, Иван… Вернёшься – вместе помолимся, – молвил старец.
И снова всё стало расплываться, глохнуть, исчезать, затягиваться туманом.
…Говорят сказки, мол, был остров посередь озера – с монастырём на нём. Пришли в смутные времена воровские люди в их места: деревни, сёла, храмы Божьи грабили, узнали и про монастырь на острове. Решили, что уж там-то, в защищённом озёрными водами монастыре, – богатства несметные хранятся. Собрали все лодии в прибрежных деревнях, поплыли к острову.
И узнали монахи о приближающихся врагах. А было монахов тех семеро вместе с игуменом. И молились они. И когда вступили враги на остров, вдруг не стало ни острова, ни монастыря, ни монахов, ни воровских тех людей… И лишь на великие церковные праздники или же перед великой бедой открывается тот остров чистому душой человеку…
Иван вернулся к лодке, столкнул на воду, поплыл. Туман расступился. Да вон и берег, вон и село!
Вернулся домой. А всё как бы не в себе был, всё понять не мог: виделось ли ему или же на самом деле всё было…
– Где ж ты столько времени был-то? – мать заругалась. – Я уж хотела мужиков поднимать.
Иван на часы-ходики глянул: пять минут пятого уже нового дня – 22 июня 1941 года.
– На озере, сеть проверял…
– Да где же рыба-то? – Мать всё успокоиться не могла. – Где ты был-то, Ванька?..
– На озере, – повторил он. – Рыбу-то я оставил в лодке. Я сейчас!
– Да сиди уж…
Но он уже выскочил из избы.
На рассвете 22 июня, в день Всех Святых в земле Российской просиявших, армия Германии и её союзников перешла границу СССР. Авиация немцев бомбила советские города… Что толкнуло Гитлера и его окружение на этот шаг? Почему не остановил их печальный опыт прошлых нашествий?..
О глубинных причинах такого решения (то ли германский комплекс империализма, то ли вековая борьба Запада-«Ветхого Рима» с «византийским» Востоком, выразившаяся в немецком же устойчивом выражении «дранг нах Остен», то ли даже особенности характера Адольфа Гитлера, то ли всё это вместе. – Примеч. здесь и далее курсив автора) – мы можем только догадываться.
Но ещё в «Майн Кампф», надиктованной в начале двадцатых годов и опубликованной в 1926 году, Гитлер говорил: «Только с Англией в качестве союзника, с прикрытой спиной, можно начать новое германское вторжение в Россию». Значит, и думал уже о неизбежности войны с Россией и даже размышлял о том, при каких условиях можно эту войну начинать. В двадцатые годы…
И придя к власти, этих планов, конечно же, не оставил. «Мирный договор» 1939 года и для Гитлера, и для Сталина был лишь паузой перед неизбежным столкновением.
К концу 1940 года руководство Германии завершило стратегическое планирование войны против СССР. Замысел предстоящей войны и общие указания по порядку действий были изложены в директиве № 21 от 18 декабря 1940 г., получившей наименование «Барбаросса».
Тогда же, в конце 1940-го, Сталин читал эту переведённую на русский и отпечатанную в двух экземплярах директиву.
«…Главному командованию опираться на следующие соображения.
I. Общий замысел.
Главные силы русских сухопутных войск в Западной России необходимо уничтожить смелыми действиями проникающих далеко на вражескую территорию танковых клиньев, не допуская отвода боеспособных войск противника вглубь страны. Посредством быстрого продвижения наших войск нужно выйти на линию, из-за которой русские ВВС не смогут осуществлять налёты на объекты на территории Германского рейха. (Именно поэтому столь важно было уже в 1941 году, в дни, когда многим казалось, что план «Барбаросса» успешно выполняется, нанести бомбовые удары по Берлину, что и сделали советские лётчики.) Конечная цель операции – создание щита, разделяющего азиатскую и европейскую части России на главной линии Волга – Архангельск. В этом случае объекты последнего промышленного региона, который останется в распоряжении русских, Урала, могут быть в случае необходимости уничтожены люфтваффе. В ходе этой операции русский Балтийский флот будет быстро лишён своих баз и, соответственно, не сможет далее принимать участия в боевых действиях. Эффективное вмешательство русских ВВС должно быть предотвращено с самого начала операции путём мощных атак против них.
II. Предполагаемые союзники и их задачи.
На флангах нашего оперативного пространства мы можем рассчитывать на взаимодействие и на участие в войне с Советской Россией Румынии и Финляндии. Определить, каким именно образом вооружённые силы этих двух стран будут действовать под немецким командованием и когда они вступят в войну, является задачей Верховного командования вермахта, которую ему надлежит выполнить в разумные сроки и доложить об этом.
Задача Румынии будет состоять в том, чтобы связывать действия вражеских войск на её участке и оказывать помощь в тыловых районах.
Финляндия будет прикрывать передвижения северной немецкой группы войск, которая выступит с территории Норвегии (части 21-й группы), а затем будет действовать во взаимодействии с этими войсками. Уничтожение противника на полуострове Ханко также станет обязанностью Финляндии. (Именно северной группе германских войск не удалось выполнить задачу, поставленную планом «Барбаросса». А вот финны сыграли гораздо большую роль, чем отводил им Гитлер.)
Следует предполагать возможность использования шведских железных и автомобильных дорог для переброски войск северной немецкой группы самое позднее к моменту начала операции.
III. Проведение операций.
В районе предстоящих боевых действий, разделённом Припятскими болотами на южный и северный участки, основной упор должен быть сделан на северный участок. Здесь должны будут действовать две группы армий. Южной из этих групп – в центре общего фронта – ставится задача прорыва наиболее мощными танковыми и моторизованными соединениями из района Варшавы и к северу от неё на территорию Белоруссии и уничтожения дислоцированных там сил противника. Так, сильным подвижным частям должны быть созданы условия для поворота на север. Здесь в тесном взаимодействии с северной группой армий, наступающей с территории Восточной Пруссии на Ленинградском направлении, немецким войскам предстоит уничтожить силы противника в Прибалтийском регионе. Только после достижения вышеизложенных целей, за которыми предстоит захват Ленинграда и Кронштадта, следует продолжить наступательные операции по овладению важнейшими линиями коммуникаций и ключевыми оборонительными узлами на пути к Москве. (Не в этом ли тоже причина столь упорной обороны Ленинграда? В конце концов – овладей немцы Ленинградом – победа всё равно была бы за нами…) Только неожиданно быстрое крушение сопротивления русских может послужить оправданием попытки достигнуть двух главных целей одновременно. Наиважнейшая задача 21-й группы в ходе операций на Востоке заключается в защите Норвегии. Имеющиеся сверх этого силы (горный корпус) следует использовать в первую очередь для прикрытия района Петсамо и его рудников вместе с Арктической трассой, а затем во взаимодействии с финскими войсками они будут продвигаться к Мурманской железной дороге и перережут пути поступления снабжения в район Мурманска. Возможность использования для такого рода операции более крупных немецких сил (от двух до трёх дивизий), выступающих из района Рованиеми и южнее, зависит от готовности Швеции предоставить для таковой переброски шведские железные дороги. (К вопросу о нейтралитете Швеции: осенью 1941 года король Швеции Густав V Адольф направил Гитлеру письмо, в котором пожелал «дорогому рейхсканцлеру дальнейших успехов в борьбе с большевизмом»; нейтральная Швеция уже и свой немалый вклад внесла в эту борьбу: в первые же дни войны через территорию Швеции была пропущена германская дивизия для действий в Северной Финляндии. И хотя, действительно, немецкие войска, во всяком случае – открыто, больше не передвигались через территорию нейтральной Швеции, – через её территорию развернулся транзит немецких военных материалов в Финляндию; немецкие транспортные суда перевозили в Финляндию войска, укрываясь в территориальных водах Швеции, причём до зимы 1942/1943 года их сопровождал конвой шведских военно-морских сил. Торговля Швеции с нацистской Германией достигала 90 % всей шведской внешней торговли. С 1940 по 1944 год шведы продали фашистам более 45 млн тонн железной руды. Уже в 1944 году, когда исход войны ни у кого не вызывал сомнений, немцы получили из Швеции 7,5 млн тонн железной руды.) Основная масса финской армии должна будет, в соответствии с продвижением, достигнутым северным крылом немецкой армии, связать максимальное количество русских войск наступлением к западу – или с двух сторон – от Ладожского озера. Финны также захватят Ханко. Группа армий, развёрнутая к югу от Припятских болот и действующая из района Люблина, должна будет сконцентрировать главные усилия на продвижении к Киеву, чтобы её сильные танковые соединения вышли во фланг и в тыл русским войскам, смяв их и окружив до отхода к Днепру. Немецко-румынская группа на правом фланге будет иметь следующую задачу: защита румынской территории и, таким образом, прикрытие южного фланга всей операции; связывание сил противника на данном участке фронта во взаимодействии с северными частями южной группы армий; затем по мере развития ситуации, осуществление второго броска и, таким образом, – во взаимодействии с ВВС – недопущение отступления противника в порядке за реку Днестр. После того как будет сломлено сопротивление противника к северу и к югу от Припятских болот, в ходе преследования неприятеля предстоит обеспечить выполнение следующих задач: на юге необходимо как можно скорее овладеть Донбассом, являющимся важнейшим районом с точки зрения военной экономики; на севере нужно быстро захватить Москву.
ВВС.
Задачей ВВС станет нанесение, насколько это будет возможно, наиболее значительного ущерба русским ВВС и сведение на нет их способности к эффективному противодействию, а также поддержка операций сухопутных сил на главных участках и направлениях – на участке центральной группы армий и там, где южная группа армий будет предпринимать основные усилия. Русские железные дороги должны либо уничтожаться, либо – в случае наличия наиболее важных объектов в пределах досягаемости (т. е. железнодорожных мостов) – захватываться смелыми действиями парашютных и посадочно-десантных войск.
ВМС.
Во время войны с Советской Россией задача ВМС будет заключаться в обороне немецкого побережья и в предотвращении прорыва каких бы то ни было морских сил противника с Балтики. Поскольку, когда мы достигнем Ленинграда, советский Балтийский флот лишится последней базы и окажется, таким образом, в безнадёжном положении; прежде этого следует избегать крупных морских операций. После уничтожения советского флота обязанностью ВМС станет сделать Балтийское море в полной мере пригодным к судоходству, в том числе и для осуществления снабжения по морю северного крыла армии. (Траление минных полей!)
IV.
Очень важно, чтобы все командующие и командиры разъяснили подчинённым, что необходимые меры в соответствии с этой директивой принимаются как превентивные для предотвращения возможности того, что русские займут по отношению к нам позицию иную, чем это обстоит сейчас. Количество офицеров, задействованных в подготовке на ранней стадии планирования, должно быть максимально ограниченным, и каждый офицер должен получать лишь ту информацию, которая необходима для выполнения поставленных перед ним задач. В противном случае возникает возможность того, что о наших приготовлениях станет известно тогда, когда еще не всё будет готово для проведения предполагаемой операции. Это повлечёт за собой для нас тяжелейшие политические и военные последствия. (Так в итоге и случилось. Руководство СССР было в достаточной мере информировано о военных приготовлениях и планах Германии. При этом было сделано всё, чтобы исключить обвинения СССР в агрессии, возможно, даже в ущерб явной ближайшей пользе.)
V.
Я предполагаю дальнейшие совещания с командующими в отношении намерений, обрисованных в этой директиве. Доклады о проведении предполагаемых приготовлений всеми родами войск вооруженных сил будут направляться ко мне через Верховное командование Вермахта.
А. Гитлер».
После разгрома СССР планировался захват Афганистана, Ирана, Ирака, Египта, района Суэцкого канала, Индии, Гибралтара, лишение Англии сырьевых источников, осада и прямая интервенция на Британские острова.
После решения «английской проблемы» гитлеровцы в союзе с Японией намеревались путём высадки крупных морских десантов захватить США и Канаду.
Но прежде нужно было в кратчайшие сроки решить и навсегда закрыть «русскую проблему».
Что мог сделать в этой ситуации Сталин?..
Готовиться к войне и стараться оттянуть её начало – что он и делал.
И, конечно же, даже понимая опасность пропустить первый удар, Сталин делал всё, чтобы защитить СССР от обвинения в агрессии. Отсюда и якобы неготовность (знали, готовились) к войне, и приказы «не поддаваться на провокацию», и, как следствие, – поражения в первые месяцы войны.
Да, Сталин понимал, что, скорее всего, первая линия обороны станет жертвой, якобы нерешительности (лично его, Сталина, нерешительности) в первые часы и даже дни войны. Он сознательно шёл на эту жертву, сознавая все обвинения, которые, рано или поздно, тайно или явно, падут именно на него…
21 июня, когда немецкие войска уже были развёрнуты для наступления, в войска западных округов СССР поступил следующий документ:
«1. В течение 22–23.6.41 г. возможно внезапное нападение немцев на фронтах ЛВО, ПрибОВО, ЗапОВО, КОВО, ОдВО. Нападение немцев может начаться с провокационных действий.
2. Задача наших войск – не поддаваться ни на какие провокационные действия, могущие вызвать крупные осложнения.
Одновременно войскам Ленинградского, Прибалтийского, Западного, Киевского и Одесского военных округов быть в полной боевой готовности встретить внезапный удар немцев или их союзников.
3. Приказываю:
а) в течение ночи на 22.6.41 г. скрытно занять огневые точки укрепленных районов на государственной границе;
б) перед рассветом 22.6.41 г. рассредоточить по полевым аэродромам всю авиацию, в том числе и войсковую, тщательно её замаскировать;
в) все части привести в боевую готовность без дополнительного подъёма приписного состава. Подготовить все мероприятия по затемнению городов и объектов.
Никаких других мероприятий без особого распоряжения не проводить.
Тимошенко.
Жуков».
Над озером, над заозёрным глухим лесом, над Семигорьем, над миром вставало солнце, разгоняло ошмётки тумана.
Иван спустился по росной тропке к воде. Всмотрелся в озёрную даль, хоть и знал, что не увидит там ничего особенного: зелёный шёлк осоки, вода, чайки и утки на лёгких волнах, тёмная полоса дальнего берега…
Взял мешок с рыбой. Пошёл домой. Но по пути свернул к церкви, к деду Николаю.
Дед в сторожке при церкви и кладбище живёт. Толстые липы и берёзы над могилами затеняют кладбище, сирень опьяняет запахом…
Иван не хотел будить деда, положил две рыбины на крыльцо и пошёл прочь. Но сообразил, что рыб могут утащить вороны, которые во множестве сидят на макушках старых деревьев, или вон та чёрная с рыжими подпалинами собака, неизвестно чья и откуда тут взявшаяся…
Он вернулся к сторожке, дёрнул дверь. Она поддалась, сразу пропуская в единственную комнату: окошко напротив двери, под ним топчан с раскинутым старым тулупом, стол сбоку. В углу над столом икона. Дед на коленях. Молится.
Поднялся тяжело.
– Чего ты? – Глянул на ходики, подумал сразу – не пропустил ли время для первых «склянок». Не пропустил.
– Вот, дед. Рыба… – И, помолчав, добавил: – Дед, а я ведь, кажись, на острове был сегодня.
– На каком? Зачем?
(В озере было несколько небольших пустынных островков, на которых разве только захваченные непогодой рыбаки иногда ждали спокойной воды.)
– На том… На тайном…
Старик посмотрел на него, недоуменно сперва. Потом нахмурился, потом бороду почесал.
– И чего же видел там?
– Святых видел. Сказали, война будет.
– Ну, не знаю… Давай рыбу-то, спасибо… Много взял, молодец, – похвалил, кивнув на мешок.
А когда ушёл внук, пал на колени, зашептал молитву истово – ведь и сын Иван этих монахов видел. Перед тем, как ушёл из дома насовсем…
Сын его, тоже Иван, отец Ивана, ушёл ещё на «германскую» (только по весне женился, а в августе забрали), жена дочку первую уж без него, но в положенный срок родила. В семнадцатом Иван вернулся. На две недели только и приехал. На гармошке поиграл, дочь на руках подержал, посенокосить успел и снова ушёл. Когда уж прощались, тоже сказал тихонько вдруг: «Батя, я на острове был… Молятся там…» И ушёл. Через полгода письмо. «Погиб за рабоче-крестьянскую власть». А ещё через три месяца родила Катерина сына, которого тоже Иваном назвали…
Глава вторая
Красное солнце встало над миром.
С колокольни разнеслись, будто подскакивая, раскатились по округе шесть ударов в колокол. Иван запряг жеребца в косилку, поехал на указанный бригадиром лужок. Хоть и воскресный день – да ведь трава-то не ждёт. Перестоит – силу потеряет…
От бессонной ночи и монотонной тряски на косилке разморило его. К речке сбежал, умылся. А когда поднимался, снова услышал дребезжащий звон от села, с колокольни… Нет, не часы дед отбивает. Пожар что ли? Иван оглянулся тревожно. Не видно дыма нигде.
Поехал в село…
У сельсовета уже толпа.
На крыльце председатель сельсовета Ячин – щуплый пожилой человек в пиджаке поверх старой гимнастёрки, в фуражке без кокарды; председатель колхоза Коновалов – высокий, худой, сутуловатый (пиджак на нём висит, будто с чужого плеча), со щёткой усов и зачёсанными назад волосами; представитель райкома партии, выходец из Семигорья, потому всем известный Круглов – круглый и белёсый, с неизменным портфелем под мышкой; незнакомый молодой человек военной форме.
– Это-то что за офецер? Баской-ти?.. – старуха, видно ещё не понявшая, о чём речь, у товарки спрашивает.
– С района, говорят, приихал…
– Тихо вы, тарахтелки! – ругается стоящий рядом ветеринар Глотов, но сам ещё добавляет поучительным тоном: – Офицеры-то при царе были – теперь командиры…
С крыльца доносятся фразы, по мере их понимания, мрачнеют лица людей:
– …Товарищи, фашисты напали на нашу Родину!.. Дадим отпор фашистам… Слава нашей советской родине, слава партии большевиков, слава товарищу Сталину!.. Все как один!..
– Да что случилось-то?
– Война, немцы напали. Говорят, Молотов по радио выступал.
– Ну, дадим немчуре…
– Как бы тебе не дали…
– Что за разговоры!
– Тихо там!
– Товарищи, теснее сплотимся вокруг нашей партии!..
«Опять враг на Русь пришёл. Будем молиться. А ты иди и не бойся. Иди! Бог с тобой…» – снова Ивану Попову почудились слова монаха…
К вечеру стали собираться на праздник.
Война – войной, а праздник он всегда был…
Те, кто из дальних-то деревенек, шли, ещё и не знали ничего. Так что, как новая партия парней и девок в село заходила, начиналось:
– Слыхали?
– Чего?
– Война!
– Какая ещё война?!
– С немцами! Молотов, говорят, выступал!..
Начальство – Ячин, Коновалов, Круглов, лейтенант Ершов – сидели в сельсовете у раскрытого окна, курили.
– Надо ещё собрание сделать. Люди подходят. Надо выступить, разъяснить ситуацию. А гулянка бы сегодня и вовсе ни к чему… – представитель райкома Круглов сказал.
– Нет. Это Савелий Ферапонтович никак нельзя. Гулянку не остановить. Пусть… – председатель колхоза Коновалов своё мнение высказал. Ершов с председателем согласился. И Ячин поддакнул:
– Пусть гуляют. Приказа ведь о мобилизации ещё нет…
– Ещё нет, – подтвердил Ершов. Он знал, что завтра приказ будет, потому он и здесь. Завтра, после того как по телефону вот сюда, в сельсовет, передадут приказ, он и начнёт работу по мобилизации…
А гулянка зачиналась без спросу и разрешения…
Пиликает гармонь, по улице парни идут.
- Как в деревенку заходим —
- Телеграмму подаём:
- «Убирайте, бабы, девок,
- Нет, так замуж уведём!»
– Это косминские, что ли? – райкомовец спросил.
– Нет… Это, кажись, бариновские, – председатель сельсовета сказал с усмешкой.
А с улицы неслось:
- По деревенке пройдём
- Да девяносто один раз.
- Все окошечки завешены —
- Не видно, девки, вас.
Тут и девки откликнулись:
- Мы, девчата боевые,
- В девках не останемся.
- Ох, и горе же тому,
- Которому достанемся.
– Да, девки у нас боевые! Точно – не засидятся, – снова председатель сельсовета Ячин сказал и улыбнулся.
– Да женихов-то сколько уйдёт… Вернулись бы… – покачал головой председатель колхоза.
Словно в подтверждение его слов кто-то выдал (наверное, поколение за поколением семигорских парней сочиняли по новой эту частушку):
- Завтра в армию забреют,
- Завтра в армию возьмут!
- Завтра слёзоньки у девушек
- Из глазок потекут!
– Ну, дадут фашисту по зубам и вернутся! – бодро Круглов сказал.
– Не говори «гоп»… – Коновалов начал, да сам себя и оборвал.
Стали по домам расходиться. Круглов – к старикам родителям, которые уж заждались его, первым ушёл, пожав всем руки, будто укатился, плотно зажимая под мышкой свой портфель. Коновалов гостеприимно пригласил лейтенанта переночевать у него (правда, жил-то в ветхой бобыльской избушке, его родительский дом одряхлел без присмотра и давно был уже разобран на дрова). Ячин тоже позвал, но Ершов попросился ночевать в сельсовете.
– Ну, так и ладно, кабинет-то я запру, а вот тут на диванчике – пожалуйста. А то, может, ко мне всё-таки? – Полуэкт Сергеевич Ячин приговаривал, запирая дверь в кабинет.
– Нет… Я, знаете, поздно ложусь… – лейтенант Ершов говорил, посматривая на стоявшие тут старые напольные часы, тикавшие громко и как-то в разнобой. – Прогуляться ещё хочется… – И вдруг спросил: – А это откуда тут такие? – кивнул на часы…
– А это… Часы-то… – Ячин замешкался, а Коновалов сказал:
– Это от старого хозяина, поповский дом-то, выслали его…
Ершов кивнул.
– Ну, ваше дело молодое… – Ячин сказал, протянул руку лейтенанту.
Ершов, оставшись один, закурил снова. Запоздало подумал, что надо было хотя бы поужинать у председателя. Вынул из планшетки (кожа её тёмно-коричневая, без единой ещё царапины) кусок пирога, завёрнутый в газету, налил в стакан стоялой воды из графина… Гармонная игра, частушки, голоса долетали с улицы, беспокоили, звали…
- Хулиган мальчишка ходит
- По тесовому крыльцу.
- Слёзы катятся у девушки
- По белому лицу.
- В чистом поле я родился,
- Воспитали у чужих.
- Хулиганству научился
- У товарищей своих.
А вот девушки поют:
- Раз гармошка заиграла,
- Значит надо выходить,
- И самой повеселиться
- Да и всех повеселить.
- Говорят, что боевая —
- Просто бойковатая.
- Вся семейка боевая,
- Я невиноватая!
- Говорят, что некрасива —
- Что же я поделаю?
- За красой – не за цветами —
- В полюшко не сбегаю.
- Хорошо гармонь играет,
- Хорошо и слушать-то.
- Задушевная подруга,
- Игроки и сушат-то.
Олег Ершов – городской. Окончил десять классов и военное училище. Причём выпустили их из училища досрочно (и доучиться-то месяц оставалось) – 14 мая. Направили, практически всех, на западную границу. В такой ситуации о скорой войне догадался бы и полный дурак. Так что о том, что очень скоро (не через год-два, а в ближайшие месяцы) придётся вступить в бой с фашистами, – все военные, от наркома обороны до курсанта-первокурсника, знали.
Угораздило же его – Ершова – накануне выпуска, 13 мая, в госпиталь попасть с воспалением лёгких. Через месяц дали недельный отпуск, а затем – в распоряжение райвоенкомата, направлявшего когда-то в училище. Что ж – теперь он точно знал, что в тылу не засидится, скоро на фронт, может, вот с теми, кто сейчас гуляют на улице…
Ершов курил, стряхивая пепел за окно. На столе лежала пачка газет. Взял для интереса верхнюю, прочитал: «Колхозное знамя». «Орган райкома ВКП (б)». На первой же странице сводка показателей работы колхозов и совхозов района. И по всем показателям «Сталинский ударник» впереди. «Ну, ещё бы! Отстающему колхозу такое бы название не дали», – подумал Олег. И заглянул в конец сводки – последним по всем показателям был колхоз под названием «Смычка»…
Пробежал и заметку под мутной фотографией: натужно улыбающаяся женщина в платке и халате (от ретуши похожая на пожилую цыганку) держала в обеих руках по поросёнку…
«Не по дням, а по часам.
Работая свинаркой на ферме колхоза “Вожатый”, Августа Мефодиевна Дробова во время опороса в течение трёх недель проводила дни и ночи на ферме, там и спала… Ни одного случая падежа!
Под ее внимательным уходом поросята росли не по дням, а по часам. В недельном возрасте они весили пять-шесть килограммов и прибавляли от 600 до 1000 граммов в сутки.
Всем бы свинаркам перенять опыт Августы Дробовой!» И подпись: «Колкор Корин».
«Это кто ж такой – “колкор”? – Ершов озадачился. – Ааа, наверное, колхозный корреспондент». И ещё подумал – этому бы Корину на ферме поспать, как той свинарке…
Ещё одну заметку прочитал, уже только потому, что тем же Кориным подписана была.
«Беда рекордистки Вероники.
Доярка колхоза им. Кирова Нина Петровна Зубова обнаружила, что у коровы-рекордистки Вероники болит сосок. Нина Петровна всполошилась, побежала в контору колхоза, из глаз её текли слёзы.
Через некоторое время о больном соске Вероники узнали в колхозе все. Партбюро колхоза ставит этот вопрос на своем срочном заседании. Секретарь партийной организации тов. Позгалец на этом заседании с тревогой говорит: “Представляете ли вы, товарищи, что значит сосок Вероники? Это честь нашего колхоза. Это мировой рекорд от коров остфризской породы. В капиталистических странах больше 10 тысяч литров молока от таких коров не получали, мы хотим взять от Вероники 11 тысяч литров. Надо сейчас же принять самые решительные меры к тому, чтобы сосок Вероники был в ближайшее время вылечен! За работу, товарищи!”»
Олег представил, как прочитал бы про «сосок Вероники» в своей группе в училище… Губы в улыбку потянулись… И тут же понял, вспомнил, что большинство ребят из его группы уже воюет. Но… аккуратно вырвал лист с заметкой о рекордистке Веронике, свернул, сунул во внутренний карман гимнастёрки.
Он будто специально себя всё сдерживал, не бежал на голос гармошки и девичий смех… Но вот, неторопливо, будто ещё накапливая солидность в себе, поправил портупею, одёрнул гимнастёрку, вышел на крыльцо сельсовета, запер дверь, как наказал председатель, ключ под порог сунул. Вышел на улицу…
Играли Ванька Попов и гармонист из Космина, ближайшей деревни. Они как будто соревновались, а может, наоборот, передых друг другу давали, играли по очереди. Плясали тоже вперемежку – семигорские девчата, косминские парни и из других деревень…
– О! Товарищ командир, к нам давайте! – первой увидела Ершова невысокая крепкая девушка в платье, сшитом по-городскому, в ботиночках, блестящих даже сейчас, в сумерках…
Ершов подошёл. Опять портупею поправил, достал пачку «Казбека». Самый бойкий, видно, из местных стрельнул тут же у него папироску.
– Как думаете – долго воевать будем? – парень спросил, прикурив от спички, тоже протянутой Ершовым. Был это Митька Дойников.
– Не думаю, что очень долго, но и лёгкой эта война не будет. Всерьёз будем воевать, товарищи…
– Ишь, какой сурьёзный! – опять та девушка голос подала (подружки её захихикали). И не глядя на Ершова, будто и нет тут его, выскочила в круг, гармонисту махнула, выдала:
- Полюбила лейтенанта —
- И ремень через плечо.
- Получает тыщу двести
- И целует горячо!
– Ну, Верка даёт! – сказал кто-то. И осуждение, и зависть в голосе.
Ершов папиросу замял, вышел в круг тоже. Частушек он не знал, да и плясал не очень. Но тут пошёл, пошёл – топнет, ладонью по голенищу хлопнет…
Иван Попов играет на гармошке. Две девчоночки обмахивают гармониста веточками, комаров отгоняют.
Ершов старательно пляшет, каблуками крепко землю мнёт…
– Сноп бы под ноги – вымолотил бы, – кто-то из парней говорит со смешком.
А Митька Дойников Валю Костромину на глазах у всех лапает…
– Да отстань ты! – она на него ругается и ближе к Ивану отходит.
– Что отстань-то! Война же, заберут вот завтра! – тянет её за руку от круга Митька.
– Вань, ну скажи ты ему! – Валя просит.
– Отстань от неё.
– Чего?!
Гармошка замолчала. Все на них смотрят, видят, что дело нешуточное.
– Чего отстань-то? – это уже Ивану Митька говорит. – Я вот тебе отстану, – в плечо толкнул. Иван ремень гармони с правого плеча уже скинул…
Если б не Ершов, добром бы не кончилось.
– Нам завтра, ребята, может, в бой идти вместе. А вы! Думайте хоть! Всё, шутки кончились. Война! – и будто самого себя убедил, серьёзный стал, в пляску уж не пошёл больше. А пошагал, да так твёрдо, уверенно, будто и по делу какому, будто и знал куда… Остановился, развернулся, к сельсовету пошёл.
– Товарищ военный, – женский голос позвал. «Вот оно, – внутри заныло сладко. – Вот оно…» Две девушки у соседнего дома стояли. Одна – та, что частушку про лейтенанта пела. – А вы бы нас не проводили? Вот надо ей в соседнюю деревню, а поздновато уж, темно.
– Провожу, конечно…
Туда втроём шли по ночному просёлку, девушки запевали частушки, смеялись, спрашивали о чём-то лейтенанта, и тот отвечал… На околице одна из подружек простилась, к своему дому побежала.
Шли обратно… Всё дышало кругом… «Дёргал» в поле дергач; соловьи, будто парни гармонисты, сменяли друг друга в любовном свисте; казалось, кто-то перешёптывался и вздыхал в кустах; туман, живой, шевелился над озером. Пахло травой, влагой, землёй, жизнью…
И вела, влекла лейтенанта Верка Сапрунова, отчаянная девка, к стожку за леском, вчера смётанному…
А в Семигорье ещё догуливают…
– Смотри-ка, директор-то… Ничего себе, пьяный же в доску… – один парень другого локтем в бок тычет, на директора школы Антона Сергеевича Сняткова, ведомого женой, кивает.
– Эх вы, дурачки, он же жалеет вас, не на праздник же вам идти-то, – говорит жена, рукой обхватившая мужа, плечо подставившая, тащившая его на себе домой…
А парни-то и не смеялись – поражены были, впервые директора школы в таком состоянии видели.
В Семигорье собирались партии мобилизованных из ближних и дальних деревень. С мужиками и парнями шли матери, сёстры, жёны, дети.
Ночевать устраивались в здании сельсовета, в конторе колхоза, у родни.
Из дальней деревни Степановки пришли трое, подлежащих мобилизации. Среди них и Егор Другов. Его провожала жена Настя – дочь Катерины Поповой, Ванькина родная сестра, внучка деда Николая. Пришли и две их девчоночки, пяти да четырех лет, – Даша и Глаша.
– Бабушка, а ты нас научишь кружево плести? – девочки к бабушке Кате ластятся.
– Да мама-то вас разве ж не учит?
– Не учит! – хором и радостно кричат сестрёнки.
– Есть мне когда учить-то… Скажете же… – смущается, краснеет Настя.
– Ну, давайте, – соглашается бабушка. Подвигает пяльцы с подушкой для кружева. Втыкает булавки. Помогает им заплести «косички» из ниток, объясняет… Да вдруг и забудет говорить-то, и пальцы – сухие и твёрдые, похожие на коклюшки – замрут.
– Бабушка, а дальше?
А у бабушки слёзы по щекам бегут.
Мужики за столом, бутылочка на столе. Выпили по стопке. Дед Николай Иванович, пытаясь бравость свою показать, на Катерину с Анастасией прикрикнул:
– Нечего слёзы лить! Вернутся скоро! Победят Гитлера!..
– Да молчи уж, дед… – Настя, рукой махнула, и, не скрываясь, к Егору своему прижалась, за руку его двумя руками ухватилась…
– Ладно, пойду я на дежурство – никто не отменял, – сказал дед и, натянув картуз с мятым матерчатым козырьком, ушёл в свою сторожку.
Иван всё работой себя старался занять – на дворе что-то потюкал топориком, за водой сходил…
У колодца встретился с Валей Костроминой. Что-то сказал ей, что-то ответила она…
В этот вечер – 24 июня – уже никаких гулянок и пьянок не допустили. В магазине запретили продажу водки. Всё же пьяные были. Двоих даже Ершов «арестовал» с помощью председателя сельсовета Ячина. Заперли на ночь в какой-то кладовке.
Днём почтальон привёз газеты от 23 июня. Одну из них («Правду» или «Известия») ветеринар Глотов прихватил в конторе и сейчас спешил на излюбленное место чтения – колокольню…
Между прочим, случилась сегодня история: Оська-поляк не явился на призывной пункт, устроенный в сельсовете. Сперва думали – ну, мало ли, припозднился, придёт. Не приходил. На рабочем месте – в пожарке, Оськи не было. Домой к нему парнишку отправили. Мать его, глухая старуха Марья Полякова, сказала, что ушёл ещё рано утром…
«Может, уже объявился Оська», – думал Глотов подходя к «пожарке»-церкви.
Сам Глотов призыву на военную службу не подлежал, чему и были подтверждением его очки с толстыми стёклами и металлическими дужками. Но и он уже задание и даже приказ получил. Круглову позвонили из райкома партии, а он, переговорив с Ячиным и Коноваловым, вызвал Глотова, назначил ответственным по Семигорскому сельсовету за мобилизацию лошадей. Должность не маленькая: не только ведь в своем колхозе, во всей округе лошадей осмотреть, годных для войны отобрать… Завтра вот он уже в дальний колхоз поедет (в своём-то колхозе от жеребёнка, вчера родившегося, до пожарного мерина – всех знал). Ветеринар полнился значимостью, но и побаивался ответственности. Чаще обычного поправлял очки на носу…
Нет, Оська-поляк не объявился… Но был другой приятель деда Попова – пожилой колхозник Авдей Бугаев, отец осуждённого за прошлогодний пожар бригадира.
– Ну, давай, читай, Сано, – попросил Попов ветеринара, когда тот газету из-за пазухи достал.
Глотов, поправив очки, торжественно начал:
– Выступление по радио заместителя председателя совета народных комиссаров союза эсэсэр и народного комиссара иностранных дел Молотова. Двадцать второе июня тысяча девятьсот сорок первого года…
– Это ещё позавчера, значит, он по радиву говорил? – перебил Попов.
– Да, – недовольно ответил ветеринар и продолжил, но уже не так торжественно, как начал. – Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава товарищ Сталин поручили мне сделать следующее заявление: сегодня, в четыре часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбёжке со своих самолётов наши города – Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причём убито и ранено более двухсот человек. Налёты вражеских самолётов и артиллерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской территории.
Старики слушали, затаив дыхание, возможно только сейчас начиная понимать, какая беда разразилась, куда уже завтра уйдут их дети, внуки…
– Это неслыханное нападение на нашу страну, – продолжал чтение Глотов, и голос его снова окреп, посуровел, – является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Нападение на нашу страну произведено, несмотря на то что между СССР и Германией заключён договор о ненападении, и Советское правительство со всей добросовестностью выполняло все условия этого договора. Нападение на нашу страну совершено, несмотря на то что за всё время действия этого договора германское правительство ни разу не могло предъявить ни одной претензии к СССР по выполнению договора. Вся ответственность за это разбойничье нападение на Советский Союз целиком и полностью падает на германских фашистских правителей. Уже после совершившегося нападения германский посол в Москве Шуленбург в пять часов тридцать минут утра сделал мне, как народному комиссару иностранных дел, заявление от имени своего правительства о том, что германское правительство решило выступить с войной против СССР в связи с сосредоточением частей Красной Армии у восточной германской границы. В ответ на это мною от имени Советского правительства было заявлено, что до последней минуты германское правительство не предъявляло никаких претензий к Советскому правительству, что Германия совершила нападение на CCCP несмотря на миролюбивую позицию Советского Союза и что тем самым фашистская Германия является нападающей стороной. По поручению правительства Советского Союза я должен также заявить, что ни в одном пункте наши войска и наша авиация не допустили нарушения границы, и поэтому сделанное сегодня утром заявление румынского радио, что якобы советская авиация обстреляла румынские аэродромы, является сплошной ложью и провокацией. Такой же ложью и провокацией является вся сегодняшняя декларация Гитлера, пытающегося задним числом состряпать обвинительный материал насчёт несоблюдения Советским Союзом советско-германского пакта.
– Вот как! Сами напали да теперь на нас и сваливают! – не выдержал дед Попов. Бугаев молча покивал.
Глотов ничего не сказал, только строго недовольно глянул на старика. Продолжал:
– Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось, Советским правительством дан нашим войскам приказ – отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории нашей родины. Эта война навязана нам не германским народом, не германскими рабочими, крестьянами и интеллигенцией, страдания которых мы хорошо понимаем, а кликой кровожадных фашистских правителей Германии, поработивших французов, чехов, поляков, сербов, Норвегию, Бельгию, Данию, Голландию, Грецию и другие страны и народы. Правительство Советского Союза выражает непоколебимую уверенность в том, что наши доблестные армия и флот и смелые соколы Советской авиации с честью выполнят долг перед родиной, перед советским народом и нанесут сокрушительный удар агрессору. Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападающим зазнавшимся врагом. В свое время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил отечественной войной, и Наполеон потерпел поражение, пришёл к своему краху. То же будет и с зазнавшимся Гитлером, объявившим новый поход против нашей страны. Красная Армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну за родину, за честь, за свободу. Правительство Советского Союза выражает твёрдую уверенность в том, что всё население нашей страны – все рабочие, крестьяне и интеллигенция, мужчины и женщины – отнесутся с должным сознанием к своим обязанностям, к своему труду. Весь наш народ теперь должен быть сплочён и един как никогда. Каждый из нас должен требовать от себя и от других дисциплины, организованности, самоотверженности, достойной настоящего советского патриота, чтобы обеспечить всем необходимым Красную Армию, флот и авиацию, чтобы превозмочь врага. Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского Союза, ещё теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего Советского правительства, вокруг нашего великого вождя товарища Сталина. Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами!
– Вот, как значит… Так значит… – снова первым подал голос Николай Иванович Попов.
– В конце-то как там? – переспросил Авдей Бугаев. – «Наше дело правое…»
– Враг будет разбит, победа будет за нами! – Глотов ещё раз прочитал.
– Дай Бог, дай Бог, – негромко сказал дед Попов.
Авдей вдруг спросил, неизвестно к кому обращаясь:
– Так почто не Сталин-то, а Молотов выступает?
– Ну… Сталин… – не нашёлся, что сказать Глотов.
– У Сталина делов щас… – добавил Николай Иванович Попов.
Прочитал Глотов и Указ о мобилизации, по которому призывались военнообязанные, родившиеся с 1905 по 1918 год включительно. И сводку за 22 июня…
«Сводка Главного командования Красной Армии за 22.06.1941 года.
С рассветом 22 июня 1941 года регулярные войска германской армии атаковали наши пограничные части на фронте от Балтийского до Чёрного моря и в течение первой половины дня сдерживались ими. Со второй половины дня германские войска встретились с передовыми частями полевых войск Красной Армии. После ожесточенных боёв противник был отбит с большими потерями. Только на Гродненском и Крастынопольском направлениях противнику удалось достичь незначительных тактических успехов и занять местечки Кальвария, Стоянув и Цехановец, первые два в 15 км и последнее в 10 км от границы. Авиация противника атаковала ряд наших аэродромов и населённых пунктов, но всюду встречала решительный отпор наших истребителей и зенитной артиллерии, наносивших большие потери противнику. Нами сбито 65 самолетов противника».
Поутру 25-го застучали двери, заскрипели калитки… С котомками за плечами выходили мобилизованные. Лейтенант Ершов, с глазами узкими и красными от бессонных ночей (как из райвоенкомата сюда выехал, почти и не спал), но подтянутый и бодрый, ждёт на крыльце сельсовета…
Вера тут же стоит, неподалёку, в своём городском платье, платочек в руке мнёт. Лейтенант строго поглядывает на неё, но пока молчит.
Подходят мужики: на руках младший ребёнок, жена ухватилась за локоть, ребятишки постарше к ногам жмутся. Парней матери и сёстры провожают…
Прошли по главной улице, вышли к большаку, к мосту через речку. Дальше никогда провожать не ходили. Прощаться стали. Бабы завыли. Тут Верка больше не сдерживалась, к лейтенанту бросилась. Ершов коротко, сильно прижал её и отстранил, отвернулся, платочек же, что она в руку вложила, в карман галифе сунул.
…Поначалу невесело шагали, потом Ванька Попов гармошку развернул. Все заговорили, закурили на ходу…
Шли по старой Сухтинской дороге вдоль озера в райцентр (озеро узкое, но почти на сто вёрст вытянутое).
На дороге местами ещё булыжное мощение осталось, по большей же части уже обычный просёлок, умятый телегами – машин и тракторов тут ещё и не видывали…
Сколько веков этой дороге?.. Шли по ней когда-то кандальники под охраной конвоя; тянулись купеческие обозы на городские ярмарки; проезжали по ней Великие Князья и Цари – на молебны в северные обители; уходили из века в век рекруты; ковыляли калики перехожие; а по большей части – тряслись на тележонках да уминали лаптями крестьяне, жители сёл да деревень, что, как бусы на нитку, на эту старинную дорогу нанизаны…
К вечеру партия мобилизованных из Семигорского сельсовета в количестве пятидесяти человек, пройдя за день около сорока километров, остановилась в стенах бывшего монастыря в селе Крутицы. И монастырь назывался Богородице-Рождественский Крутицкий… Впрочем, и тут уже не монастырь, а то, что осталось от него. В сестринском корпусе школа, закрытая по летнему времени. Какие-то розовые развалины в зарослях иван-чая… В Богородицком храме был теперь клуб, и в тот вечер показывали фильм.
Почти все пошли на фильм – до их краёв кино редко доезжало. Смотрели на незнакомую шахтёрскую жизнь. Переживали, когда вредители устроили обвал в шахте, смеялись шуткам героя фильма Вани Курского… А уже после фильма устраивались на ночлег – прямо во дворе, на траве, ночь была тёплая… Кто-то напевал песню из фильма: «Спят курганы тёмные, солнцем опалённые…» Тут же на гармошке пытались подбирать мелодию, слова вспоминали…
У костров, домашними запасами подкрепляясь, негромко переговаривались…
– Тут монашки жили, я ещё помню, – рассказывал немолодой серьёзный мужик, который весь день молчал, а тут, видно от воспоминаний, расчувствовался. – С мамкой ходили сюда, у ней тут сестра была, тётка моя, значит, божатка. Добрая была тётка-то. Да и остальные-то монашки – добрые. Говорят, среди них и дворянки были, так у тех в кельях и сахарок водился. Вот и даст, бывает, какая из них сахарку-то…
– А правда, что господ из города за деньги принимали? – спросил, нагло ухмыляясь, дюжий парняга, развалившийся у костра, ковырявший травинкой в зубах.
До мужика не сразу дошёл смысл, а когда понял – аж побелел от обиды:
– Чего мелешь-то? Дурак! – прикрикнул.
– А чего им – ни семьи, ничего… – тот же парень сквозь зубы цедил.
– Да разве ж для того люди в монастыри уходили?! В миру-то грешить сподручнее. А здесь – молились да работали…
– Ты пропаганду-то религиозную не разводи, дядя, – парень уже явно издевался над мужиком, приятели его – трое парнишек, ради выпендрёжа перед которыми он и старался, – хихикали.
Неожиданно прекратил это кураженье Митька Дойников.
– Замолчи-ка ты, дружок! С тобой, видать, девки-то не гуляли – беспокойный такой на это дело…
– Чего? – верзила поднялся.
Дойников тоже не мал ростом, но на голову этого ниже. Да тот и в плечах широк. Только это Митьку, одного из лучших кулачных бойцов Семигорской округи, не смутило – без замаха, снизу, локоть под дых здоровяку воткнул. Тот и согнулся сразу…
– Ну-ка, ну-ка… Хватит там! Разошлись!..
Обоих под руки друзья-земляки прихватили, развели.
– Ты молодец, – сказал Иван Попов Дмитрию Дойникову и руку протянул, тот небрежно ладонь сунул, но рукопожатие было крепкое. Оба ведь и свою недавнюю стычку помнили.
– Ничего, ерунда всё… Надо таких на место ставить, – сказал Митька.
– Он вон какой здоровый, а ты его сразу… – уважительно Иван сказал.
– Да, ну… – отмахнулся Митька. – Большие шкафы громко падают, – весело добавил.
Оба присели у костерка.
И тут две неожиданные фигуры в монастырских воротах показались… Странники по этой дороге (да и по другим – от деревни к деревне, от монастыря к монастырю) и раньше ходили, и нынче ходят… А эти – не сразу поняли мобилизованные – один слепой, другой глухонемой. Слепой – довольно высокий с седой клочковатой бородой – одной рукой опирался на посох, другой – на плечо своего поводыря. Поводырь – ростиком пониже, костью пошире, лицо круглое и бородка округлая. Сам показал руками, мол, – не говорю, не слышу… Одеты были оба чисто, опрятно, да уж больно как-то, даже для тех, кто из дальних деревень, необычно – так, может, лет тридцать назад одевались, а может, и сто… В армяках, кушаками подпоясанные, в войлочных круглых шапках, в портках, в лаптях с онучами. Лапотки, однако, новые, беленькие…
– О, давайте к нам, божьи люди, – сразу к костру их позвали, зная, что странники либо сказку расскажут, либо песню споют. Дали им место на брёвнышке у костра, дали и котелок на двоих, и хлеба… Не торопили, ждали пока странники поедят, а и они терпения не испытывали – быстро управились.
– Благодарствую, служивые, – слепой сказал, котелок с ложками отдавая.
– А ты откуда знаешь, что мы служивые-то, а? Да мы ещё и не служивые… Это тебе немой что ли нашептал? – опять тот здоровый парень засекаться начал, он сейчас тасовал колоду карт, раскидывал на себя и своих приятелей…
– Все мы служивые, – слепец ответил.
А немой, закончив жевать, перекрестился и достал вдруг из котомки лыко, крючок-кочедык, да и принялся лапоть плести…
– Ишь, как ловко-то у глухого-то получается. Ну, а ты-то что умеешь? – слепого спросили.
– Да какие наши умения…
– Расскажи-ка, дедушка, сказку, – кто-то попросил.
– Сказку… Ну, что ж… Сказку – можно! Про солдата и расскажу… – с достоинством ответил странник. Сидел он прямо и глядел мутными слепыми глазами прямо – чуть мимо костра, в сгущающиеся сумерки. Тут потеснее к ним садиться стали, кто-то толкнул кого-то, ругнулись, кто-то закурил, другому прикурить дал. Странник дождался, когда все успокоятся и начал:
– Чур, мою сказку не перебивать, а кто её перебьёт, тот трёх дней не переживёт… – заговорил мягким, одновременно пугающим и будто насмешливым голосом. – Вот, вышел один солдат со службы, идёт и думает: служил я царю двадцать пять годов, а не выслужил и двадцати пяти реп, и никакой на рукаве нашивки нет! Видит – идёт ему навстречу старик. Поравнялись, старик и спрашивает: «О чём, служивый, думаешь?» – «Думаю, говорит, о том, что служил царю двадцать пять лет, а не выслужил и двадцати пяти реп, и никакой на рукаве нашивке нет!» – «Так чего же тебе надо?» – старик спрашивает. «А хоть бы научиться в карты всех обыгрывать, да никто бы меня не обидел». (Призывники-картёжники при этих словах переглянулись, заусмехались.) «Хорошо, я дам тебе карты и сумочку: тебя никто не обыграет и не обидит». Взял солдат от старика карты и сумочку и пошёл. Приходит он в деревню и просится ночевать. Ему и говорят: «Здесь у нас тесно, а вон в том новом дому, если не побоишься – ночуй». – «Чего же мне бояться?» – «Да так». Купил солдат свечку да полуштоф водки, пошёл в тот дом и уселся. Сидит, карты перебирает. Рюмочку выпьет и карточку положит. В самую полночь вдруг двери отворились, и бесёнок за бесёнком полезли в комнату. Набралась их пропасть, и стали они плясать. Солдат смотрит и дивится. Но вот один бесёнок подскочил к солдату и хлестнул его хвостом по щеке. Встал солдат и спрашивает: «Ты что это – в шутку или взаправду?» – «Какие шутки!» – отвечает бесёнок. Тогда солдат и крикнул: «В сумку!» – как его встречный дед научил. И все черти полезли в сумку, ни одного не осталось.
На утро солдат видит: хозяева дома несут гроб. Вошли в комнату, хозяин и говорит: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» – «Аминь!» – ответил солдат. «Да ты разве живёхонек?» – спрашивают его. «Как видите!»
Солдат так полюбился хозяевам, что они оставили его у себя пожить и женили на своей дочери. И зажил солдат богато и с женой согласно. Через год родилась у него дочь. Надо ребёнка крестить, а матери крестной нет – никто к солдату нейдёт. Вышел он на большую дорогу и думает: какая женщина встретится первая, та пусть и будет крёстною матерью. Только успел он это подумать, видит, идёт старая-престарая старуха – худая-прехудая, кости да кожа и коса на плече. Солдат и говорит ей: «Бабушка, у меня дочь родилась, а крестить никто не идёт». – «Так что же, – отвечает, – я окрещу, идите в церковь, я сейчас приду».
Принёс солдат младенца в церковь, и кума пришла, сняла с плеча косу и положила у порога, а когда окрестили ребёнка, взяла опять косу и пошла. Солдат и говорит ей: «Кума, зайди поздравить крестницу!» – «Хорошо, – та говорит, – вы идите и приготовляйтесь, а я сейчас приду».
Пришёл солдат домой, приготовил всё, скоро пришла и кума. Опять сняла с плеча косу, положила у порога и села за стол. Когда отпировали, она встала и говорит: «Кум, проводи меня!» Солдат оделся и пошёл провожать куму. Вышли они в сени, она и говорит: «Кум, хочешь ли научиться ворожить?» – «Как бы не хотеть!» – «А ты знаешь, кто я? Я ведь смерть. Если тебя позовут к больному, и ты увидишь, что я стою у него в головах, не берись лечить, а когда буду стоять в ногах, то берись. Спрыснешь больного раз холодной водой, он и выздоровеет. Прощай!»
В этот год в той деревне сделалось столько больных разными болезнями, что солдат едва успевал переходить из одной избы в другую. И всех вылечивал: в ногах кума-то стояла.
Случилось, что заболел царь, а слух о солдате, который хорошо лечит, разнёсся уже по всему государству. Вот его и призывают к царю. Входит солдат к царю, поглядел и видит: его кума стоит в головах. Плохо дело – солдат думает. Однако велел принести скамейку и положил на неё царя. Когда это сделали, солдат и давай вертеть скамейку с царём, кума же его стала бегать кругом, стараясь быть в головах у царя и до того добегала, что устала и остановилась. Тогда солдат повернул к ней царя ногами, спрыснул его водой, и царь сделался здоров.
«Ох, кум, кум! Я тебе сказала, что когда стою в головах, то не берись лечить, а ты по-своему делаешь, ну, я тебе за это припомню!» – смерть говорит. «Ты это, кума, в шутку или взаправду говоришь?» – «Какие тут шутки!» – «Так, в сумку!» – крикнул солдат, и смерть залезла в сумку. Пришёл солдат домой и бросил сумку на полати.
Через год приходит к солдату Микола милостивый и говорит: «Служивый, отпусти смерть! Народу старого на земле много, он просит смерти, а смерти нет». – «Пусть пролежит ещё два года, тогда и отпущу», – сказал солдат.
Прошло два года. Солдат выпустил смерть из сумки и говорит: «Каково, кума, в сумке?» – «Ну, кум, будешь ты просить смерти, я не приду к тебе». – «Обо мне, кума, не беспокойся, я и сам на тот свет приду!»
Тут слушатели заулыбались, задвигались. Но это был ещё не конец сказки. Слепец продолжал (напарник его всё так же невозмутимо орудовал кочедыком, уже заплетая головку лаптя):
– Вот солдат живёт себе да поживает, в карточки играет да водочку попивает; жена и дочь у него уж померли, а он всё жив. Однажды играл в одном доме в карты да и услышал, что скоро придёт антихрист и станет людей мучить. Солдат испугался и отправился на тот свет. Шёл, шёл, шёл, наконец, приходит к лестнице, которая тянулась до неба и сел отдохнуть; потом, собравшись с силами, полез по лестнице. Лез, лез, лез и прилез к самому раю. А у дверей рая стоят апостолы Пётр и Павел. Солдат и говорит им: «Святые апостолы Пётр и Павел, пустите меня в рай!» – «А ты кто такой?» – спрашивают его. «Я солдат». – «Нет, тебя не пустим, иди туда, вон тебе рай!» И указали ему на ад. Солдат пошёл к аду, у ада стоят два бесёнка. Солдат и говорит: «Святые апостолы Пётр и Павел в рай меня не пускают. Пустите ли вы меня в ад?» – «Иди», – говорят ему бесёнки и пропустили его в ад.
Приходит солдат в ад. Отвели ему там особую комнату. Он и лёг отдыхать. Отдохнувши, насобирал толстых палок и понаделал из них ружей, наловил чертей, составил их в роту и начал их обучать военному искусству. Если который из чертей заленится, то ему и палкой надаёт. И всех чертей в аду замучил.
Узнал сатана, что солдат, который должен быть в раю, живёт у него в аду, и захотел его душою завладеть. Приходит к солдату и говорит: «Давай играть в карты! Только с таким условием: если я тебя обыграю, то ты будешь мой, а если ты меня, то я тебе отдам грешную душу». Солдат согласился, и они уселись играть. Играют, играют, и всё солдат выигрывает. Нет, говорит сатана, больше играть с тобой не буду, ты, пожалуй, у меня все души выиграешь.
Узнали и бесы, что это тот самый солдат, у которого они сидели в сумке, и решились его выгнать из ада. Наговорили на него сатане, что он мучит чертей и никому спокою не даёт своим солдатским ученьем, и сатана дал приказание по аду, чтобы выгнали тотчас же солдата. Окружили черти солдата и объявили ему приказ сатаны. Делать нечего – взял солдат свою амуницию и две выигранные им у сатаны души (жены и дочери) и пошёл. Только вышел он из своей комнаты, видит, все черти выстроились в ряд, заиграла музыка и запалили из ружей. «Э, чертовское отродье! Обрадовались, что я пошёл!..» И всех их выругал.
Приходит он опять к раю и говорит: «Святые апостолы Пётр и Павел, пустите меня в рай!» – «Да ведь ты отказался от рая, – говорят ему, – ступай в ад». – «Да я там был!» – «Так ещё сходи». – «Да пропустите вот хоть эти две грешные души». – «Ну, пусть оне идут», – сказали апостолы и отворили врата. Солдат поставил впереди душу жены, сам встал за нею, а позади себя поставил душу дочери. Так все трое и вошли в рай. И до сих пор живут они да поживают в раю, ни нужды, ни горя не знают.
Вот какие нечаянные случаи встречаются на пути жизни! А всё Бог и Его святое провидение правят делами и намерениями нашими…
Кто посмеялся, кто сказал:
– Вот бы нашу смерть кто-нибудь в сумку спрятал…
Кто-то уже спал, кто-то стал укладываться после сказки… Странники куда-то в темноту ушли, тоже легли вроде… Дмитрий Дойников и Иван Попов растянулись, положив под головы котомки.
…Млечный путь лежал над ними дорогой из вечности в вечность…
Не спал в эту ночь Николай Иванович Попов – молился за внука. Не спала Катерина – молилась за сына и зятя. Не спала её дочь Анастасия – утирала слёзы, думая о муже, вспоминала молитву да не вспомнила – как могла Бога и Мать Его за мужа и брата просила…
В каждом доме села, в каждой избе ближних и дальних деревенек шептались молитвы, проливались и утирались слёзы…
И восстал из вод озера монастырь. И горели свечи в храме Спаса Всемилостивого, и молились иноки, и подпевали молившимся за Россию инокам монахини в Богородицком храме Крутицкого монастыря, и сливались их голоса с ангельскими гласами…
Глава третья
К вечеру следующего дня мобилизованные семигоры пришли в город.
Шли по мощёной булыжником улице. По бокам её – фонари, тротуары – деревянные мостки, пружинящие под ногами редких прохожих. (Ох и хочется парням да мужикам по этим мосткам пройтись!)
Вдоль дороги двухэтажные деревянные, на несколько квартир, дома, обнесённые дощатыми заборами, за которыми просматривались дворы с сарайками, с верёвками и бельём, с поленницами дров, огородиками…
Видно, как колышутся занавески на окнах. Жёлтый жилой свет там – в квартирах…
В канаве стоит коза, будто задумалась, перестала даже жевать, наверное, от шума, производимого пятьюдесятью парами топающих, шаркающих, стучащих по мостовой ног.
Но вот ступили на центральную улицу – чёрную, гладкую:
– Асфальт! – сказал кто-то.
Тут уже и каменные дома были, хотя деревянные всё же преобладали.
Вышли на центральную площадь с высоко поставленным памятником Ленину посредине и чахлыми кустиками акации вкруг него. Подошли к двухэтажному каменному дому, выкрашенному серой и белой краской, обнесённому решётчатым забором. Табличка со звездой и золотыми буквами подтверждала, что это и есть райвоенкомат.
Ершов скомандовал устало-равнодушно:
– Становись! Смирно! Вольно! – Его команды уже привыкли выполнять и построились по росту быстро, не задавая вопросов. – Подождите тут, – просто сказал лейтенант и шагнул на крыльцо. Но перед высокой дверью короткими привычными движениями поправил портупею и согнал назад складки гимнастёрки под ремнём. Из двери ему навстречу сунулась голова в фуражке:
– О, здравия желаю!..
– Привет!
И дверь за лейтенантом захлопнулась.
Строй, конечно, сразу нарушился, кто на скамейку присел, кто к забору прислонился, закурили некоторые…
Минут через пять на крыльцо вышел не Ершов, к которому уже привыкли, которого уже «наш лейтенант» называли, другой командир – также туго перетянутый портупеей, в сапогах с гладкими блестящими голенищами…
Вышел он на крыльцо, постоял, поглядел на вольницу. Да как рявкнет:
– Становись!
И когда не все и сразу выполнили команду, крикнул:
– Разойдись! – и через секунду: – Становись! Равняйсь! Смирно!
– Вот это дак начальник, сразу видать!
– Кончилась вольница…
– А лейтенант-то наш – всё, видно, сдал нас с рук на руки…
– Меня зовут майор Сухотин! Поступаете под мою команду! Выходи со двора! В колонну по два становись!
И уже к ночи прибыли в казарму, размещавшуюся, как говорили знающие, бывавшие в городе мужики, на «льнострое», то есть незаконченной стройке комбината по переработке льна.
Здесь уже по-армейски, прямо из полевой кухни накормили. Спать, правда, на голых, грубо сколоченных нарах пришлось.
Весь следующий день для мобилизованных в суете прошёл: Сухотин и его помощник старшина Козлов делили команду новобранцев на отделения, назначали командиров этих отделений, назначали дневальных, объясняли обязанности дневальным. Суета…
– Долго нас тут держать-то будут? – спросил Дойников у старшины. Тот – ростом под два метра, левая сторона лица шрамом пропахана – лишь усмехнулся:
– А ты торопишься? Я вот на финской бывал. – И он вдруг резко наклонил голову, и на лопатистую ладонь левый глаз выкатился. Стеклянный.
Сначала не по себе стало тому, кто рядом стоял, потом засмеялись. А Козлов рявкнул: «Отставить смех!» И глаз на место вставил.
На другой день строевые занятия начались, сборка-разборка винтовки. Проводили их «старики»-срочники из гарнизона. Объявился и лейтенант-политрук.
Появились в казарме газеты. Вечером политрук читку организовал.
«Сообщение Советского Информбюро.
24 июня 1941 года.
В течение 24 июня противник продолжал развивать наступление на Шауляйском, Каунасском, Гродненско-Волковысском, Кобринском, Владимир-Волынском и Бродском направлениях, встречая упорное сопротивление войск Красной Армии.
Все атаки противника на Шауляйском направлении были отбиты с большими для него потерями. Контрударами наших механизированных соединений на этом направлении разгромлены танковые части противника и полностью уничтожен мотополк.
На Гродненско-Волковысском и Брестско-Пинском направлениях идут ожесточённые бои за Гродно, Кобрин, Вильно, Каунас.
На Бродском направлении продолжаются упорные бои крупных танковых соединений, в ходе которых противнику нанесено тяжёлое поражение.
Наша авиация, успешно содействуя наземным войскам на поле боя, нанесла ряд сокрушительных ударов по аэродромам и важным военным объектам противника. В боях в воздухе нашей авиацией сбито 34 самолёта.
В Финском заливе кораблями Военно-Морского Флота потоплена одна подводная лодка противника.
В ответ на двукратный налёт на Севастополь немецких бомбардировщиков с территории Румынии советские бомбардировщики трижды бомбардировали Констанцу и Сулин. Констанца горит. В ответ на двукратный налёт немецких бомбардировщиков на Киев, Минск, Либаву и Ригу советские бомбардировщики трижды бомбардировали Данциг, Кёнигсберг, Люблин, Варшаву и произвели большие разрушения военных объектов. Нефтебазы в Варшаве горят.
За 22, 23 и 24 июня советская авиация потеряла 374 самолёта, подбитых, главным образом, на аэродромах. За тот же период советская авиация в боях в воздухе сбила 161 немецкий самолёт. Кроме того, по приблизительным данным, на аэродромах противника уничтожено не менее 220 самолётов.
Финляндия предоставила свою территорию в распоряжение германских войск и германской авиации. Вот уже 10 дней происходит сосредоточение германских войск и германской авиации в районах, прилегающих к границам СССР. 23 июня 6 германских самолётов, вылетевших с финской территории, пытались бомбардировать район Кронштадта. Самолёты были отогнаны. Один самолёт сбит, и четыре немецких офицера взяты в плен.
24 июня 4 немецких самолёта пытались бомбардировать район Кандалакши, а в районе Куолаярви пытались перейти границу некоторые части германских войск. Самолёты отогнаны. Части германских войск отбиты. Есть пленные немецкие солдаты.
Румыния предоставила свою территорию полностью в распоряжение германских войск. С румынской территории совершаются не только налёты немецкой авиации на советские города и войска, но и выступления немецких и румынских войск, действующих совместно против советских войск. Неоднократные попытки румыно-немецких войск овладеть Черновицами и восточным берегом Прута кончились неудачей. Захвачены немецкие и румынские пленные.
25 июня подвижные части противника развивали наступление на Вильненском и Барановичском направлениях.
Крупные соединения советской авиации в течение дня вели успешную борьбу с танками противника на этих направлениях. В ходе боя отдельным танковым группам удалось прорваться в район Вильно – Ошмяны.
Упорным сопротивлением и активными действиями наших наземных войск пехотные соединения противника на этих направлениях отсечены от его танковых частей.
Попытки противника прорваться на Бродском и Львовском направлениях встречают сильное противодействие контратакующих войск Красной Армии, поддержанных мощными ударами нашей авиации. В результате боёв механизированные соединения противника несут большие потери. Бой продолжается.
Наша авиация нанесла ряд сокрушительных ударов по аэродромам немцев в Финляндии, а также бомбардировала Мемель, корабли противника севернее Либавы и нефтегородок порта Констанца.
В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии за 25 июня сбито 76 самолётов противника; 17 наших самолётов не вернулись на свои базы.
Немецкий лётчик, взятый в плен после того, как его самолёт был сбит нашей авиацией на советско-финской границе, заявил: “С русскими воевать не хотим, дерёмся по принуждению. Война надоела; за что дерёмся, не знаем”.
На одном из участков фронта немецкие войска шли в бой пьяными и несли большие потери убитыми и ранеными. Пленные немецкие солдаты заявили: “Перед самым боем нам дают водку”.
Наши лётчики Н-ской авиационной части в воздушных боях сбили 10 самолётов противника. Командир полка, Герой Советского Союза майор Коробков, сбил два бомбардировщика противника; радист-стрелок Шишкович во время исполнения боевой задачи сбил два самолёта противника системы “Мессершмитт”. Командир Сорокин при выполнении боевой задачи девяткой самолётов был атакован 15 самолётами противника, в бою сбил 6 самолётов и потерял 4. Майор Ячменёв, будучи ранен в обе ноги, отказался ехать в госпиталь и продолжал выполнять боевые задачи.
Красноармеец Н-ского стрелкового полка Романов, подкравшись к вражескому разведчику-мотоциклисту, уничтожил его. Командир подразделения этого же полка младший лейтенант Мезуев, будучи трижды ранен, не ушёл с поля боя и продолжал вести бой.
Шофёр строительного батальона Н-ского воинского соединения задержал четырёх немецких лётчиков, которые выбросились с подбитого самолёта и пытались скрыться.
Командир одной из пулемётных рот, находясь в окружении более 8 часов и непрерывно ведя бой с противником, удержал позицию до прихода подкрепления.
Младший сержант Трофимов, командир орудия, в обстановке, когда орудие находилось в окружении противника, а боевой расчёт орудия был выведен из строя, увёл в укрытие трёх раненых бойцов своего орудия, а затем сам хладнокровно расстреливал противника прямой наводкой. Когда сопротивление стало бесполезным (танки противника были почти на огневой позиции), Трофимов взорвал орудие, а сам умело вышел из окружения врагов».
– Товарищ старшина, – опять у Козлова спрашивали, – а финны, они, как солдаты, как?..
– Ничего, воевать умеют, – сразу понял невнятный вроде бы вопрос старшина. Глаз стеклянный больше не показывал.
В той же газете на последней странице было помещено объявление: «Цирк “Союз”, дрессированные животные, клоуны, акробаты…»
Уже больше недели находились семигоры и мобилизованные из других районов на сборном пункте «льнострой»…
Неожиданно к Ивану тот здоровяк, с которым Митька Дойников в монастыре сталкивался, подошёл: «Слушай, земляк… Иван, тебя зовут-то?..» Иван знал его отдалённо, где-то раньше видывал – из их сельсовета, но из другого колхоза парень. Да уже по дороге и в казарме немножко познакомились. Парень-то – добродушный на самом деле…
– Ну, Иван.
– А меня Фёдор, ну, Федька…
– Да я знаю уже…
– Слушай, а пошли в цирк!
– Чего? В какой цирк…
– Ну, вот, – Федька сунул в руки ему газету. – Пошли, а… Хочется. Никогда не были ведь, а и будем ли, если не сходим. Эти упёрлись, боятся, – кивнул на свою компанию в углу казармы…
– Дак, как, когда…
Федька услышал колебание в его голосе, пристал как репей.
– А вот с десяти утра. Мы на утренней поверке скажемся, позавтракаем и смотаемся… Да чего ты – в самоходы вон ходят…
– В какие ещё самоходы?
– Да на рынок вон бегали наши, без спроса… На рынок можно, а в цирк нет?..
Дойников, войдя в казарму, глянул в их сторону подозрительно:
– Вы чего там?
– Да нет, ничего… – Иван знал, что Митьку сейчас звать бесполезно, командиром отделения его назначили, дак он вдруг такой весь правильный стал, серьёзный. А в цирк Ваньке захотелось, очень захотелось. – Ну, давай! – Федьке шепнул.
Как решили, так и сделали. На утреннее представление пошли.
Шатёр цирковой неподалёку от рынка и стоял. Будто и нет войны никакой: идут дети, взрослые идут. Билеты в кабинке кассы покупают. На яркой афише у входа – черноволосая красавица в платье с широким, но коротким подолом, с какой-то вичкой в руке, а перед ней на тумбочке на задних лапках собачка кудреватая, похожая на овцу…
– Слушай, Федька, денег-то нет у меня…
– Так и у меня нет…
Стали бродить близ шатра. С одной стороны там за шатром временный забор стоял, автомобили с ярко раскрашенными фургонами… Кого-то ругали там, женский голос кричал:
– Опять напился? Я буду таскать мешки? Артисты будут таскать? Всё – будем ставить вопрос об увольнении…
Прижались к забору парни, одна доска сдвинулась… Пьяный мужичонка в чёрном рабочем халате стоял, болтаясь из стороны в сторону перед высокой строгой женщиной. Стоял тут же автомобиль с фургоном, задняя дверь приоткрыта и видны мешки.
– А давайте мы поможем, – вмиг оценил ситуацию Федька.
Женщина на него обернулась:
– Сколько вас? – раздражённо спросила.
– Двое!
– Давайте, ребята, – вот эти мешки, вон туда перетащить, – уже радостно заговорила женщина. – В другие фургоны не суйтесь, – предупредила, – там животные. Места на представление нужны? – спросила просто.
– Да, – одновременно выдохнули парни.
– Ну, я вас посажу… Так, полчаса до начала. Успеете?..
Иван и Фёдор даже раньше, чем за полчаса, разгрузили машину. В мешках, как поняли они, – корм животным, зерно… Слышно было, как за закрытыми дверями фургонов кто-то мягко по-кошачьи ходит, рычит, собаки взлаивают…
– Всё, ребята, заканчиваем, заканчиваем, пойдёмте – я проведу вас, – появилась та женщина. И по какому-то тёмному закулисью она вывела их в зал, посадила в первом ряду.
Грянула музыка, прожекторы осветили арену, и вышел красавец с пышными усами в сверкающей одежде. Набрав в выпяченную грудь воздуха, он крикнул: «Представление начинается!»
Они оказались в сказке… По команде дрессировщицы Иссидоры Быстрицкой собачки бегали на задних лапах, медведь танцевал, а тигр прыгал в огненный обруч. Воздушные гимнасты летали под куполом. Куплетисты распевали, наяривая на крошечных гармошках. Иван удивлялся: как они на кнопки-то попадают? «Будем бить фашистов стаю мы и в хвост и в гриву!..» Рыжий клоун падал, поднимался и снова падал, и слёзы из его глаз вдруг брызгали параллельными земле струйками. А потом клоун обметал метёлочкой пыль с ушей зрителей. От счастья, от волнения Иван Попов забыл себя, забыл, где он, когда клоун и его своей волшебной метёлочкой коснулся…
