За гранью времени. Vita aeterna
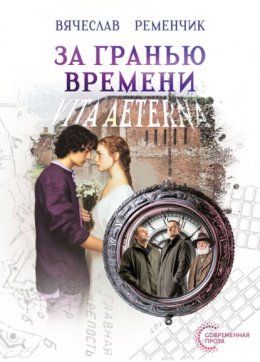
Серия «Современная проза» основана в 2024 году
© Ременчик В. Е., 2025
© Оформление. ОДО «Издательство “Четыре четверти”», 2025
И в ночи зияющая тайна
На пути настигнет всё равно,
Так ли уж случайное случайно,
Так ли уж грядущее темно.
Анатолий Аврутин
От автора
Эта история была рассказана одним незнакомым мне ранее человеком во время моей прошлогодней рыбалки на Любанском водохранилище. Я повстречался с ним в посёлке для рыболовов и охотников – милом лесном уголке, в котором приезжие любители рыбной ловли и сезонной охоты собирались компаниями и между выходами на воду или в лесную чащу коротали время за захватывающими байками под едкий матерок и традиционную хмельную чарку.
Мой новый приятель, в отличие от многих наших соседей по щитовым продуваемым всеми ветрами домикам, не имел тяги к спиртному и предпочитал ему крепко заваренный чай, сдобренный душистыми травами и луговым мёдом. Раз за разом отхлёбывая из большой алюминиевой кружки дымящийся ароматный напиток, он просиживал все вечера у небольшого аккуратного костерка, который разжигал прямо у крыльца своего временного жилища.
Неприветливое выражение смуглого бородатого лица и категорическое неприятие алкоголя гарантированно отваживали от его огня представителей необычайно разномастной и необычайно общительной толпы рыбаков и охотников. И было похоже, что он по этому поводу совсем не переживал, напротив, судя по всему, ему нравилось проводить время в одиночестве.
Уже на второй день пребывания в любимом и уютном уголке белорусской глубинки я, набравшись храбрости, подошёл к этому странному на первый взгляд незнакомцу и без лишних прелюдий попросил у него рецепт напитка, волшебный аромат которого каждый вечер проникал в комнату и не давал покоя чуткому к любым посторонним запахам обонянию. Как только прозвучало моё бесцеремонное обращение, мужчина скользнул по мне неожиданно заинтересованным острым взглядом и спросил:
– Вы тот самый столичный писатель, под которого здесь держали лучший домик?
– Да, действительно писатель, – ответил я и тут же переспросил: – А чем же мой домик лучше других?
– Этого я не знаю. Но все так считают.
Он достал из сиротливо висевшего на сучке берёзы старого вылинявшего рюкзака вторую кружку, такую же, как у него, и через несколько минут я стал счастливым обладателем душистого отвара из чудесного травяного сбора. Пока я, ещё не решаясь заговорить на другие темы, наслаждался необычайно приятным вкусом, мужчина раскрыл свой рецепт приготовления лесного чая.
– Смесь ягод клюквы и шиповника размять с листком-другим мяты, сыпануть щепотку чабреца, добавить столовую ложку мёда и несколько ягод облепихи. Если не любите облепиху, то можно заменить её малиной.
Он на мгновение задумался, будто вспоминая что-то, и с лёгкой улыбкой добавил:
– Главное при этом думать о добром, плохие мысли добавляют в напиток горечи.
Я добросовестно записал в свой дорожный блокнот подаренный рецепт, не забыв про рекомендации о позитивных мыслях, а он долил мне крутого кипятка в кружку, и душистый парок из неё зазвучал новым ароматом. Незамысловатая чайная церемония послужила своеобразным ключом к продолжению нашего общения, которое, начавшись этим вечером, длилось ещё пять долгих дней.
Мужчина представился Павлом Павловичем, военным отставником, а также счастливым мужем, отцом, дедом, прадедом, к тому же моим земляком из города Бобруйска. Он не скрывал своего довольно преклонного возраста, при этом совсем не походил на старика – крепкий, широкоплечий, с большими жилистыми ладонями и ясным молодым взглядом. Только резкие морщины на высоком лбу и вокруг глубоких глазных впадин, а также жёсткие борозды в уголках тонких, как ниточка, губ подсказывали, что этому человеку уже далеко не двадцать и даже не пятьдесят.
Я немного рассказал о себе и, между прочим, добавил про недавно вышедшую книгу.
– К сожалению, не читал, – признался мой собеседник, – но вас безмерно уважаю только за то, что вы писатель.
Заметив, как у меня удивлённо вздёрнулись брови, Павел Павлович пояснил:
– Поверьте, это не просто слепое почитание таланта, это уважение родилось благодаря одному вашему коллеге по перу, когда-то очень давно спасшему мне жизнь в тот миг, когда я сам готов был с ней распрощаться. Он сделал меня одним из героев своего романа, персонажем, скажем так, неоднозначным, что не помешало мне стать преданным поклонником его творчества. Я даже содействовал переводу и изданию книг этого автора во Франции, между прочим, достаточно большими тиражами.
Когда Павел Павлович говорил о моём коллеге, зрачки его глаз, отражая пламя костра, светились каким-то удивительно тёплым радужным светом.
– Ещё в прошлом году мы с ним здесь вместе рыбачили, и он с борта лодки поймал на спиннинг щуку аж на девять кило. А в этом году, к моему большому сожалению, уже не смог приехать. Сами понимаете – возраст, болезни. Так что воспринимайте наше знакомство как продолжение дружеской писательской эстафеты. Очень надеюсь, что и улов ваш будет соответствующим.
Узнав, что я, как и он, урождённый бобруйчанин, Павел Павлович уже в первый вечер задал мне вопрос, вначале показавшийся странным:
– Вы бывали когда-нибудь в Бобруйской крепости?
«Вот чудак, – подумал я тогда. – Кто же из бобруйчан не бывал на территории этой старинной цитадели, вернее, в тех её фортификациях, что дожили до наших дней?» Но ответил коротко:
– Бывал, и не раз. Ещё пацаном с друзьями излазил там каждый сантиметр и изучил каждый кирпич.
– Так уж и каждый? – с хитринкой в глазах подначил меня новый знакомый. – И под землёй бывали?
– Вы имеете в виду подземные ходы? – переспросил я, хотя сразу понял, что имел в виду Павел Павлович. – Лазили и там, насколько нам дозволялось, и играли в разведчиков.
– Я тоже там когда-то лазил, вот только не из праздного любопытства. И разведчики там тоже были, только с приставкой «контр».
Поймав мой заинтересованный взгляд, продолжил:
– Так сложилось, что в эти дни исполняется ровно сорок лет событиям, известным небольшому количеству ныне живущих людей и связанным с одной сокровенной тайной.
Павел Павлович пронзил меня острым взглядом, после чего морщины на его лице чудесно разгладились, и в отблесках горящего огня он показался мне намного моложе.
– Если вы составите мне дружескую компанию на рыбалке до ближайших выходных, я поведаю вам эту историю. Думаю, что для вас как для писателя она будет весьма познавательна.
Мой отпуск только начинался, свободного времени впереди было много, и я сразу согласился. Призна́юсь, что рыбак из меня весьма посредственный, но слушать интересного собеседника я могу бесконечно. Правда, земляка интересным собеседником можно было назвать с большой натяжкой, однако подкупило то видимое невооружённым взглядом простодушие, с которым он рассказывал об удивительных событиях далёкого 1983 года и не только о них.
Мой новый знакомый не обладал особым красноречием, однако имел прекрасную память. Рассказ его был наполнен мельчайшими подробностями, что позволяло с головой погрузиться в атмосферу. При этом я оценил Павла Павловича как мастера паузы, во время которой у слушателя появлялась возможность переварить и осознать услышанное в ожидании продолжения истории.
Многое из того, что было поведано у вечернего костра и среди серых любанских вод на борту крохотной резиновой лодки, показалось мне невероятным и даже неправдоподобным, но я отнёс это к погрешностям богатого воображения моего товарища.
«А почему бы не поверить?» – с вызовом говорил я себе. Разве этот человек похож на лжеца, который на протяжении пяти дней морочил мне голову?! Зачем? Да и рассказанное им настолько глубоко запало в сознание, что и сейчас, по прошествии времени, постоянно живёт во мне.
После долгих раздумий отдаюсь на справедливый суд читателю, как и подобает творцу, прикоснувшемуся к некой тайне. Не требую слепого безраздельного доверия, но очень надеюсь на сопереживание.
Ах да, чуть не забыл! Большую щуку я тоже поймал и распрощался с рыбаками, как и подобает, вкуснейшей ухой – янтарной, как вечерний воздух над водой, и душистой, как тёплая летняя ночь.
Всегда ваш,автор
Вместо пролога
Из посмертного послания священника ордена иезуитов,
физика-биолога Вольвромея Янушкевича
Бобруйск, 25 марта 1748 года
Труд всей моей жизни завершён, и поставлена в нём последняя точка. Мысли мои о вечном, подсказанные свыше, и непрерывные опыты над всем, что было доступно разуму и рукам моим, изложены на каждой его странице. Однако тот жаркий огонь, что пылал во мне все эти годы, выжег дотла мою беспокойную душу, и ничего в ней больше не осталось – ни любви, ни ненависти, ни прошлого, ни будущего.
«Кто же я? – раз за разом вопрошаю Господа. – Несчастный безумец или гений во плоти? Или всё это рукою рока смешано в одной ипостаси?» Мне не дозволено сие познать. Так пусть же это решат другие, кому суждено жить после меня.
Зато познал я то, что во веки веков не дано познать ни одному из смертных. Мне единственному из когда-либо живущих дозволено свыше прикоснуться к самой сокровенной тайне человечества, к тому, что мы называем Жизнь, и совсем не разумеем, что сие такое.
Неужели теперь я способен повелевать случаем, и формула моя лишает вставшего перед выбором права на ошибку?! Наука и вера, слитые воедино, как будто в одном чудесном эликсире, открывают светлую дорогу в вечность!
Знаю, что открытие сие не принесёт мне никакой славы и имя моё вскоре забудется навсегда. Но гордыней не тешу себя и лишь жалею о том, что сделал, и в молитвах своих денно и нощно прошу Спасителя о прощении, ибо посягнул на то, чем владеет лишь Он, и Сын Его, и Святой Дух. Что это – сошедший ко мне дар Божий или кара небесная? Молю Всевышнего открыть истину, но мольба моя возносится к небесам, а они лишь дождят в ответ. Быть может, это есть горькие слёзы созерцающих меня ангелов? Ответь мне, Господь! И снова не слышу отклика.
Все тридцать долгих лет я творил в кромешной тишине, забытый людьми и Богом, и лишь приблудный пёс, огненно-рыжий, как солнце на закате дня, стал единственным на этой грешной земле, кто даровал мне свою верность. Его печальный взор, отражающий вечность, служит мне надёжной опорой и поддерживает веру в то, что жизнь моя прожита не зря. Прощаясь с жестоким прошлым, верю, что протяжный собачий вой на рассвете у моего крыльца – это плач обо мне, покидающем сей бренный мир, уходящем, чтобы снова вернуться, но вернуться в иной мир, в иные времена, в ином обличье, но в том же сознании.
Та единственная, ради которой всё началось, на этом свете уже не будет спасена. Она день за днём является ко мне в рассветной дымке и зрит в мои глаза с немым укором, и бледные болезные уста её сочатся алой молодой кровью. Завтра, как только солнце уйдёт за далёкий горизонт, мы снова будем вместе и, как много лет назад, сольёмся воедино, чтобы уже не разлучаться никогда. И пёс мой с огненной шерстью будет вечно звать нас, воя в небеса.
Сие творение оставляю потомкам, заверяя каждого, что помыслы мои были чисты, и только вера вела меня к истокам открытия, и не было в моих исканиях ни коварства, ни корысти. Ни о чём не жалею. Да не осудят меня понапрасну.
Тот, кто при жизни звался Вольвромей.
25 марта 1748 года. Впрочем, даты уже не важны…
Глава 1
Профессор. Явление первое
Любая случайность не случайна…
Продолжить наблюдение.
Из личных записейпрофессора Э. Е. Пантелеева
Минск, 21 июня 1983 года
Если бы Василий Васильевич не оказался этим субботним вечером в центральном городском парке, то, возможно, его тихая, размеренная жизнь так бы и текла – размеренно, без лишней суеты и каких-либо потрясений. Что повлияло на выбор места для прогулки, сейчас трудно судить: или возникшее внезапно внутреннее ожидание чего-то нового, ранее ему неизвестного, или наконец установившаяся летняя комфортная погода.
Июнь в этом году выдался на редкость тёплым. Уставшие от капризной промозглой весны люди высыпали на улицы как по команде, и город сразу стал смотреться, как и подобает столице: пёстрым, шумным и суетливым.
Поддавшись всеобщему настроению, Василий Васильевич избавился от тёплых одежд и позволил себе вечерний променад по полутёмным парковым аллеям – без головного убора, в лёгком весеннем плаще. Эти неспешные прогулки в полном одиночестве позволяли отдыхать мыслям и настраивать их на позитивный лад после переполненных творческим бдением будней.
Сейчас Василий Васильевич, к собственному удивлению, испытывал истинное наслаждение от своего вынужденного одиночества. Страдания, которые его обычно терзали в покинутой женой квартире, бесследно растворились в предгрозовом воздухе, будто остались дома и поджидали, когда он, уставший и почти счастливый, вернётся в город. И вот тогда они снова обнажат свои мелкие остренькие зубки, вопьются в его нежное ранимое сердце и не будут давать ему покоя всю ночь и весь следующий день, пока ноги не вынесут уставшую от мучений душу, обгрызенную, как яблоко, на очередную вечернюю прогулку. Но к подробностям о внутреннем состоянии Василия Васильевича мы вернёмся позже, а пока понаблюдаем за ним, в данную минуту праздно отдыхающим на широкой парковой скамейке. Справедливости ради отметим, что его праздное состояние было всего лишь ширмой от любопытных взглядов и случайных знакомств. Василий Васильевич, писатель с большим творческим опытом, усиленно думал над своим будущим литературным детищем.
Это ещё не родившееся произведение он уже оценивал как свой очередной шаг к известности в кругах любителей современного детектива с захватывающим сюжетом, наполненным страшными тайнами. И в эти безмятежные минуты он с удовольствием погрузил в тёплую ласковую негу своё ещё нестарое тело и светлую голову, переполненную дерзновенными мыслями о предстоящем романе.
Нежданно-негаданно его душевная гармония испарилась, уступив место шершавому раздражению, когда, вежливо спросив разрешения, к нему подсел сухонький низкорослый старичок с профессорской бородкой, в осеннем драповом пальто, фетровой шляпе и с тросточкой в жилистой бугристой руке.
– Вы, случайно, не из соцзащиты? – неожиданно спросил источник раздражения, перед этим внимательно и довольно бесцеремонно прощупав взглядом Василия Васильевича от макушки до носков ботинок.
– Нет, – не скрывая досады, ответил Василий Васильевич.
Ему совершенно не хотелось вступать в какой-либо диалог с незнакомцем, поэтому он и сам удивился своему бессмысленному вопросу:
– А что, имеете желание пожаловаться?
– Напротив, – не моргнув глазом ответил старичок, – хочу поблагодарить. Хочу от души поблагодарить за счастливую старость.
– Разве старость бывает счастливой? – с удивлением спросил Василий Васильевич и, в свою очередь, внимательным взглядом изучил незнакомца. Несмотря на странное для летней поры одеяние, он показался вполне нормальным и, судя по всему, о счастливой старости говорил без единой капли иронии.
– Вы считаете, что драповое пальто и фетровая шляпа в летнюю пору – это показатель счастливой старости?
Шутка была довольно удачной, однако собеседник Василия Васильевича оценил её по-своему:
– А вы зря иронизируете по поводу моего облачения, молодой человек, – лицо старика не изменило своего благодушного выражения, похоже, что он совсем не обиделся. – Во-первых, мы, старики, постоянно мёрзнем, даже жарким летом. Во-вторых, это пальто – настоящий Burberry[1], и я его купил в Лондоне, а шляпу – в Мадриде во время моей недавней деловой поездки. Если вам повезёт так же, как и мне, то в старости вы тоже будете стильно и дорого одеты. Если, конечно же, повезёт, – многозначительно завершил свою тираду незнакомец.
– Не буду загадывать, – Василий Васильевич решил откланяться, и не только потому, что не любил драповые пальто и фетровые шляпы, а просто посчитал дальнейший разговор с чересчур приветливым старичком бесполезной тратой времени.
– Не сомневался в таком ответе, – подцепил его незнакомец и бережно за краешек полей поправил шляпу на голове. – У вас вид классического неудачника.
«Это уж слишком, – пронеслось в голове. – Этот антиквариат ещё смеет мне хамить!» Но Василий Васильевич продемонстрировал спартанское спокойствие:
– Интересно, по каким это признакам вы определили? По отсутствию у меня импортных пальто и шляпы?
– И по этим тоже, – продолжил наступление старичок. – Этот дешёвый плащик вам совсем не к лицу, его необходимо без промедления заменить нормальным пальто. Я уже не говорю о древних заношенных джинсах и давно не чищенных вульгарных туфлях со стоптанными каблуками. Вам безотлагательно следует придать себе приличный вид! Могу посоветовать неплохой магазинчик на бульваре Толбухина.
Василий Васильевич невольно задвинул ноги под скамейку, а старик, заметив это, понимающе улыбнулся.
– Но дело даже не в плаще и штанах. Если бы вы даже носили Prada[2], я всё равно распознал бы в вас неудачника.
И, отвечая на вопросительный взгляд явно обиженного оппонента, старик старательно аргументировал своё вероломное вмешательство в личную жизнь:
– Я наблюдал за вами, когда вы прогуливались. У вас походка неуверенного в себе человека, к тому же вы не знаете, куда девать руки (а это всё от неуверенности в себе), и держите их в карманах. Но когда изредка извлекаете на свет, чтобы почесать нос, то неухоженность ногтей сразу бросается в глаза. И, главное, молодой человек, – это ваш взгляд.
– И что же не так с моим взглядом? – Василий Васильевич старался держать себя в руках и решил дослушать незнакомца до конца.
– Такую грусть в глазах я видел только у моего давнишнего друга Миши Кацнельсона, когда на центральном пляже солнечной Евпатории у него из-под носа увели новенькое кожаное портмоне с полутора тысячами рублей хрустящими банкнотами, припасёнными на шубу для любимой женщины. А я ему говорил, что она столько не стоит…
– Шуба или женщина? – поинтересовался Василий Васильевич.
– Это уже не важно.
Собеседник на минуту задумался, наверное, возвращаясь воспоминаниями в солнечную Евпаторию, но, быстро спохватившись, продолжил издевательство над невинной жертвой:
– С таким взглядом, молодой человек, нельзя выходить в свет, если только вы не выбрались на паперть.
Видимо, посчитав, что он перебарщивает с «конструктивной критикой», старик немного смягчил тон:
– Я понимаю, что у вас могут случаться неприятности, но советую грустную мину, выходя в люди, оставлять дома. Здесь она никому не нужна, разве только в качестве экспоната кунсткамеры под названием «Так не надо жить».
Старик пристально посмотрел ему в лицо и, улыбнувшись краешками губ, сказал:
– Но усы у вас очень смешные.
После этих слов Василий Васильевич передумал уходить и решил во всеоружии принять бой.
– Извините, как вас зовут?
– Меня? – зачем-то перепросил его старичок.
– Вас, вас, – уточнил Василий Васильевич, – или в нашей беседе принимает участие ещё кто-то?
– «Ещё кто-то» здесь тоже присутствует, – старик посмотрел на собеседника с новым интересом и тут же представился: – Пантелеев Эраст Ефимович, доктор наук, профессор.
– Шаганов Василий Васильевич, – ответил мужчина, без удовольствия пожав сухонькую ладошку Пантелеева. Литератор решил пока не говорить профессору, чем занимается. Старичок уточнил неразборчиво прозвучавшую фамилию и что-то бегло пометил ручкой, играющей золотым отливом, в маленьком, извлечённом из внутреннего кармана пальто блокнотике в элегантном кожаном переплёте.
Шаганов же продолжил контратаку:
– Так вот, Эраст Ефимович, плохой вы психолог, никудышный физиономист и к тому же ненаблюдательный человек.
Не давая опомниться чересчур самоуверенному оппоненту, он стремительно развивал наступление:
– Одежду я ношу ту, которая мне удобна, при этом фасон, модный бренд и цена меня совсем не интересуют. Поверьте, в моём личном гардеробе имеются и пальто, и деловые костюмы, и даже фрак.
Василий Васильевич немного приврал, фрака у него в гардеробе никогда не было, но он посчитал, что упоминание об этом элитном предмете мужского гардероба должно впечатлить профессора. С чувством глубокого удовлетворения заметив, как округлились глаза старика, продолжил свой спич:
– Что касается моей походки, то это всего лишь ранний варикоз со всеми вытекающими последствиями. И последнее, чтобы у вас не возникало больше вопросов относительно моей внешности, – выражение моего лица, может, и не слишком радостное, ибо мне, как большинству живущих на этой планете, есть о чём грустить. Но в те моменты, когда вы так усердно и, не обижайтесь, бездарно изучали мою вполне заурядную внешность, я не предавался какой-либо грусти, а размышлял о своём будущем романе.
Старик открыл было рот, но, упреждая его вопрос, Шаганов продолжил уверенный путь к победе:
– Так как я зарабатываю себе на хлеб насущный литературным творчеством, то мыслительный процесс в моей голове, полагаю, как и в голове любого учёного, есть явление постоянное. И праздные прогулки – не совсем уединение. В это время я нахожусь рядом с моими литературными героями, с теми, о ком в данный период времени пишу или мечтаю написать. Я общаюсь с ними, пытаюсь подвигнуть на какие-то мысли, слова, действия. В общем, занимаюсь обычной писательской работой. Наверное, поэтому лицо моё не сияет весельем, а имеет маску сосредоточенности на творческом поиске, но никак не печали. А усы я отрастил ещё в десятом классе, чтобы казаться взрослее, а потом как-то свыкся с ними. Да, ещё… Таким нехитрым образом хоть чем-то внешне отличаюсь от своего брата-близнеца. Внутренне мы с ним полные противоположности.
– Так вы вершитель судеб?! – неожиданно громко воскликнул старик и, не давая опомниться оппоненту, с таким же задором продолжил: – Вы уж простите меня, ради Бога, я не желал вас обидеть. И произнесённый мною только что бессвязный бред – всего лишь способ познакомиться. Я, знаете ли, в отличие от вас, не люблю одиночества, даже боюсь его. Тем более скоро Всевышний представит мне вечность для этого неуютного состояния.
Шаганову стало искренне жаль старика. Чтобы хоть немного сгладить остроту своей стремительной контратаки перед тем, как откланяться, он решил перекинуться ещё несколькими словами, удовлетворив его жажду общения.
– Вы назвали меня вершителем судеб? По-моему, это перебор…
– Никакого перебора здесь нет! – мгновенно отреагировал Эраст Ефимович. – Нисколечко! Вы ведь только что сами сказали об общении со своими литературными персонажами: «Пытаюсь подвигнуть на мысли, слова, действия». По сути, вы дарите им жизнь и при этом говорите, как эту жизнь прожить. Что же это, как не судьбоносные решения?
– Вы вроде бы всё верно говорите, – согласился Василий Васильевич и добавил: – Но мне кажется, что вы меня необоснованно возвеличиваете.
– Это не я, а вы сами себя возвеличили. Это же не я сделал вас писателем, а вы сами, уверовав в свою исключительность, которую можно назвать литературным талантом, и взявшись за перо, выделили себя из серой людской массы, приподняли над безликой толпой в надежде обеспечить себе бессмертие.
Он пригвоздил Шаганова к спинке скамейки пристальным взглядом и кольнул вопросом, как острой иглой:
– Или я не прав?
Он был прав, и Василию Васильевичу снова захотелось уйти.
А старик как ни в чём не бывало продолжил:
– Прошу заметить, что я люблю читать и с большим уважением отношусь к писательскому ремеслу. Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский, Диккенс, Лондон, Ремарк! Это боги и небожители одновременно! Я люблю их всем сердцем и душой! Я преклоняюсь перед ними, как перед вершителями людских и не только людских судеб!
Шаганова удивила эта вспышка восхищения, и его интерес к собеседнику значительно возрос. А тот в продолжение своей эмоциональной тирады вдруг обратился к стихам:
- …Охрани меня, Боже, от и́скуса и нищеты,
- Ты меня создавал как подобье своё… По дорогам
- Поброди Человеком, в песке оставляя следы,
- И позволь мне себя хоть мгновенье почувствовать Богом.
– В этом обращении к Всевышнему Анатолий Аврутин выразил не только своё пожелание, но и чаяния всех, я уверен, всех без исключения своих коллег по перу: «Позволь мне себя хоть мгновенье почувствовать Богом…» Ах, как смело и всеобъемлюще сказано!
После этих слов Эраст Ефимович вдруг умолк и устремил свой взгляд куда-то в высокую даль за верхушки безлистых тополей, ровнёхонько выстроившихся на широкой аллее. Он как будто вспоминал о чём-то. Василий Васильевич решил его не торопить и молча ждал продолжения проникновенного монолога. Наконец Пантелеев, мягко улыбнувшись, снова заговорил:
– Я ведь не спонтанно сравнил писателя – земного творца – с Творцом небесным. Оба они творят и оба творят в вымышленном каждым из них мире, согласитесь. – Шаганов не возражал. – Ведь Господь так же, как и вы в своих книгах, когда-то выдумал мир, в котором мы имеем счастье родиться, жить, страдать и умирать. Это голубое небо, эти летящие с юга птицы, эта зеленеющая трава, эти деревья с густыми ветвями, я, вы и, наконец, вон та девушка, печально бредущая в конце аллеи, – это всё гениальная, да, да, гениальная Божья выдумка! Но грош цена была бы этому творению, если бы оно осталось в своём первозданном виде. Это была бы книга, в которую не вдохнули жизнь. Вы писали такие безжизненные книги?
Шаганов не успел ответить, но старик и не ждал ответа.
– Книга без жизни! Это очень страшно. Книга, в которой нет мыслей, чувств и действий. Ведь именно этими свойствами вы наделяете своих персонажей, кем бы они ни были. Тем же, чем наделил Всевышний разумные существа на этом никчёмном голубом шарике. Он же и Творец, Он же и читатель своего далеко не совершенного произведения.
Когда старик сделал очередную паузу, Шаганов посмотрел на наручные часы и удивился: он ни с кем из посторонних так долго не общался. Но его жест с часами Эраст Ефимович воспринял по-своему.
– Вы торопитесь? Мне, право, неловко, что я отнял у вас столь много времени, но очень прошу ещё самую малость вашего драгоценного внимания. Я как раз подошёл к главному.
Он на мгновение отвлёкся, проводив цепким взглядом замеченную им ранее рыжеволосую стройную девушку, и с не меньшим воодушевлением, чем четверть минуты назад, продолжил изложение своих мыслей:
– Ответьте мне, пожалуйста, как писатель читателю, что нужно, чтобы сюжет романа заинтересовал и заставил проглотить книгу, как говорится, в один присест?
Шаганов задумался над ответом, а старик в уже знакомой Шаганову манере не стал дожидаться:
– Интрига! Вот что нужно! А что такое интрига? Это непредсказуемость! Сюжет, который предсказуем, априори не интересен читателю и не заслуживает его похвалы. А что такое непредсказуемость? Это синоним неожиданности! А неожиданность – это случайность для того, кому она предназначена!
– Что значит предназначена? – писатель прервал увлёкшегося рассуждениями учёного.
– Странно слышать этот вопрос от того, кто ввергает в неожиданные ситуации своих персонажей, таким образом подчиняя их мысли, чувства и действия воле случая. «Предназначена», мой дорогой друг, это значит, что для каждого имеется своя неожиданность.
– Но неожиданность не может быть закономерной, – не сдавался Шаганов. Обращение «мой дорогой друг» ему было приятно, ибо его никто никогда так не называл.
– Мой дорогой друг, поверьте учёному-биофизику с огромным трудовым стажем: в каждой закономерности встречаются неожиданности. Вот, к примеру, чудо техники – авиалайнер – каждым своим движением в воздухе подчиняется законам аэродинамики, но достаточно маленькой неожиданности на его пути в виде небольшой стайки птиц, как он превращается в бесполезную жестянку. И хвала Господу, если молитвы пассажиров о спасении будут им услышаны.
Небо сверкнуло молнией, в вышине что-то заклокотало, затрещало и звучно охнуло. Эраст Ефимович посмотрел вверх и приподнял воротник своего добротного пальто, наверное, повинуясь привычке.
– Итак, мы с горем пополам подошли к самому важному моменту нашей беседы, так сказать, апогею. И мне потребуется ещё несколько мгновений вашего личного времени. Уж послушайте назойливого, но совершенно безвредного старика…
Шаганов не понял этого «с горем пополам», но не рискнул уточнить, хоть и был уверен, что аргументация будет озвучена незамедлительно, однако она может нарушить размеренный ритм разговора. Ему уже вовсе не хотелось уходить. Беседа, начатая с критики его внешности и незаметно переросшая в обсуждение теории случая, была интересна, и он ждал выводов из всего, что было озвучено профессором. Но, как оказалось, до резюмирующей части «лекции» не так близко, как обещал Пантелеев.
– Мы всё ещё говорим о литературе? – на всякий случай уточнил Шаганов, чувствуя, что вымысел и реальность начинают переплетаться в его сознании.
– Пока да, – заверил его старик и загадочно улыбнулся.
В этот миг писателю почудилось, что рядом с ним не обычный пожилой человек, а сказочный чародей, готовый вот-вот совершить волшебство. Словно в подтверждение его подозрений, старик заговорил о сказке:
– Вы, надеюсь, ещё не забыли тот самый былинный камень на распутье, что ставит богатыря перед выбором, недвусмысленно предупреждая: «Направо пойдёшь – коня потеряешь, себя спасёшь; налево пойдёшь – себя потеряешь, коня спасёшь; прямо пойдёшь – и себя, и коня потеряешь». Вот оно, вечное людское «если», то самое, что зовётся случаем!
– Но выбор всё же остаётся за богатырём! – воскликнул Шаганов и сразу осёкся, осознав пустячность произнесённого.
– Конечно же, за ним, милым, – мгновенно согласился профессор, – но вот выбирает он лишь из того, что ему предлагается. Может же повернуть назад и найти другие пути без этого дурацкого камня, так нет – упорно стремится туда, где его подстерегают роковые неожиданности.
– Действительно, – согласился писатель, – почему же он не идёт назад? Ведь это самое простое решение.
– Ответ на поверхности, мой дорогой друг, – тоном бывалого сказочника промолвил Эраст Ефимович. – Если он повернёт коня в обратном направлении, то всё равно рано или поздно столкнётся с выбором, случайным выбором неслучайных случайностей.
– По-вашему, выходит, что куда бы ни поскакал богатырь, несмотря на наличие вариантов, каждый его шаг предрешён заранее?
– Вы необычайно догадливы! – пошутил профессор. – Всё как в жизни! Достаточно привести в пример известный цивилизованному миру феномен Вольфа Мессинга. Его дар предсказывать будущее до сих пор не получил научного объяснения. Вместо того чтобы исследовать его, сделали вид, что этого не было. А ведь было! Он действительно безошибочно говорил о будущем! Этому имеется множество задокументированных свидетельств. И вот вам ответ на ваш вопрос: как можно предсказывать то, что заранее не предрешено? Конечно, как говорят некоторые доморощенные исследователи феномена Мессинга, ему ввиду врождённой способности к чувственному анализу на уровне подсознания удавалось выстраивать логические цепочки вероятных событий. Смешно и нелепо это звучит. Господа исследователи игнорируют главное! Случай! То есть ту случайность, которая способна мгновенно разрушить любую самую совершенную логику, и предсказание не сбудется! Дарованная свыше способность предсказывать будущее – это не что иное, как случайная или закономерная возможность получить доступ к тому, что уже задумано высшими силами и только ждёт своего часа.
Василий Васильевич смущённо улыбнулся. Он верил в феномен Мессинга, и поэтому аргумент сработал.
Эраст Ефимович делился с Шагановым своими мыслями так просто, словно делал это каждый день с любым встречным.
– Старик Эйнштейн мне как-то написал: «Всё предопределено, каждые начало и конец, над которыми мы не имеем контроля. Это предопределено как для насекомого, так и для звезды. Люди, овощи или космическая пыль – все мы танцуем под таинственную мелодию, которую наигрывает вдалеке таинственный волынщик»[3]. Каково? И это слова великого материалиста!
– Вы шутите? – недоверчиво произнёс Шаганов. – Вы действительно переписывались с Альбертом Эйнштейном?
– И не только с ним одним. Вас это удивляет?
– Честно говоря, да!
– Как-нибудь я покажу вам его письма. У него были проблемы с грамматикой. А теперь! – профессор парадно посмотрел на Шаганова, вернул воротник пальто в прежнее положение и в очередной раз поправил шляпу. – Достопочтимых господ прошу встать во фрунт! Дамам оторваться от пасьянса! Официантам подать шампанское!
Василий Васильевич, прочувствовав торжественность момента, готов был встать, но, приметив озорные огоньки в глазах собеседника, лишь по-офицерски выпрямил спину и приподнял подбородок.
– Многовековая мудрость, мой дорогой друг, воплощённая в былинном эпосе, – это не нынешняя развлекательная литература, так сказать, а тайны таинств естества, когда-то распознанные нашими предками и из анналов матушки-природы извлечённые на свет Божий. Кстати, о Боге, – старик глянул в небеса, как будто собирался по-дружески подмигнуть кому-то, наблюдавшему за ними из-за тяжёлых дождевых туч. – Библия – это же по сути своей былина, я бы даже сказал, поэма о Тех Троих, кому неведома случайность, так как они знают обо всём наперёд. И не только знают, но и вершат судьбы людей через эти самые неслучайные случайности.
– Отец, и Сын, и Святой Дух? – выпалил Шаганов, почувствовав себя прилежным учеником у классной доски.
– Именно! – громогласно подтвердил старик. – Я верю в их существование, и это при том, что я учёный-материалист и принципиально придерживаюсь агностических взглядов. Нет, Те Трое – не порождение человеческой фантазии, это совершенное воплощение высшего разума, управляющего бессмертной и бесконечной системой, той, что мы называем Вселенная.
– А теперь снова опустимся на нашу грешную, погрязшую в человеческих пороках, распрях и ничем не объяснимом безумии Землю. Надеюсь, вы тоже, как и я, заприметили эту милую стройную рыжунью, вроде бы бесцельно прохаживающуюся по вечернему парку?
«Ещё бы не приметить, – подумал Шаганов. – Она уже три раза продефилировала, но, судя по её скучающему взгляду, брошенному на наши изрядно потрёпанные временем обличья, мы оба ей вовсе не интересны. Девушка ищет других знакомств». Но вслух не произнёс ни слова, понимая, что Эраст Ефимович в его ответе совсем не нуждается.
– Что привело её в этот парк, мы с вами не знаем и можем только догадываться. Но пусть это останется для нас тайной. У девушки грустный взгляд, возможно, какие-то ожидания, возложенные на эту прогулку, не оправдались. Она уже скромно грезит о тихом вечере, проведённом в одиночестве на диванчике, укутавшись в тёплый плед, в своей уютной малогабаритной квартирке. В данную минуту девушка движется, может быть, не к самой лучшей для неё цели по центральной аллее в направлении выхода из парка. Обратите внимание, буквально через несколько шагов её ждёт развилка дорожек.
Эраст Ефимович не спеша протёр ослепительной белизны носовым платком толстые линзы очков и, когда они снова оседлали его переносицу, продолжил своё наблюдение.
– Если она пойдёт прямо, у неё есть все шансы вскоре оказаться под любимым пледом на диване у телевизора. Если она свернёт налево, то, вполне возможно, подвыпившие парни, вольготно разместившиеся на скамейке под старым тополем, могут создать для неё нежелательные проблемы. Я лично не хочу, чтобы эта милая девушка столкнулась с такой неожиданностью. Остаётся правая аллея. Если по воле судьбы она окажется там, то через шагов тридцать-сорок поравняется с очень похожим на моего аспиранта кучерявым парнем, который, слегка прихрамывая, движется навстречу. И если он обратит на неё внимание (а она действительно заслуживает этого), то многое в жизни девушки может измениться. Вот только не могу знать – в лучшую или худшую сторону. Ведь и за оградой этого прекрасного парка всё зависит от выбора и тех самых неслучайных случайностей: если, если, если…
– Разве он прихрамывает? Не замечаю. Но посмею возразить вам. Он не обратит на неё внимания. Уж слишком они разные, чтобы стать парой, – Василий Васильевич постарался придать уверенности своему голосу.
– Как знать, как знать… – задумчиво сказал профессор и повторил произнесённое ранее загадочным тоном: – Если, если, если…
Девушка уверенно свернула направо, но, поравнявшись с молодым человеком, скользнула по нему взглядом и отвернулась. Тот, погружённый в свои мысли, прошёл мимо. Красавица оглянулась, посмотрела ему вслед, на её милом лице читалось разочарование.
На мгновение Шаганову показалось, что эти двое знакомы. Когда же они разошлись и продолжили двигаться каждый в своём направлении, писатель самодовольно хмыкнул.
А Эраст Ефимович молниеносно отреагировал на этот хмык:
– В таких делах никогда не торопитесь с выводами, молодой человек. Случайность – госпожа весьма капризная…
Не успел профессор закончить фразу, как тяжёлые тёмно-ультрамариновые тучи над бесформенными верхушками парковых тополей блеснули бледным светом молний, потолкались друг с другом, словно расшевеливая небесную тесноту, и лениво плеснули на землю мелким дождиком. Девушка снова бросила взгляд на удаляющегося парня. Тот, уже совершив с десяток торопливых шагов, неожиданно оглянулся и раскрыл над головой большой чёрный зонт. Молодые люди встретились взглядами.
Через мгновение укрытая под круглым пузатым куполом парочка с видом только что обвенчанных молодожёнов неспешно побрела в направлении сияющего яркими огнями города. Новый знакомый Шаганова проводил молодых людей тёплым взглядом, затем элегантным движением превратил свою трость в зонт, раскрывшийся с глухим хлопком над их головами. От звука падающих на плотную материю капель на душе стало тепло и уютно, и Василий Васильевич почувствовал приятное внутреннее желание задержаться на этом месте как можно дольше.
Профессор, будто уловив новую нотку в настроении писателя, продолжил свой эксперимент:
– С данной минуты эти двое находятся в одной лодке. Они погребут вёслами какое-то время или до конца жизни по волнам новых случайностей, многие из которых вольно или невольно будут делить пополам. Но прошу заметить, мой дорогой друг, сколько даже в этой простой ситуации неслучайных случайностей. Можете не считать, но обратить внимание на все «если». Если бы не пошёл дождь, молодой человек не раскрыл бы свой зонт. Если бы не было этого зонта, юноша ввиду своей врождённой скромности, вероятно, и не нашёл бы повода сблизиться с понравившейся ему девушкой. Она бы прошла мимо, не найдя повода сблизиться с ним, так как тоже скромна и к тому же знает себе цену. И пошёл бы каждый своей дорогой навстречу новым неожиданностям, которые предназначены ему единолично. Так что, мой дорогой друг, как ни крути, а счастье – это если, если, если…
Вместе с тем моё счастье – понятие не однозначное, ведь каждый вкладывает в него свой смысл. Для кого-то – кружка «Баварского» со свиной рулькой на ужин, а для кого-то – неделя беззаботного отдыха на Занзибаре. Но в любом случае это результат удачного выбора на развилке дорог, когда наши ожидания в той или иной мере удачно реализуются. И чем чаще эта удача сопутствует нам, тем счастливее мы чувствуем себя. Счастливый человек – удачливый путник. И, наоборот, неудачник – это тот, кто обрекает себя на несчастье, раз за разом совершая неверный выбор. Он несчастлив не потому, что не умный, ленивый или безалаберный. Отнюдь нет! Это всё вторично! Первичен выбор! И всё, что следует за данным выбором, – твой рок, твоя судьба, твоя стезя, назови как хочешь, – это то, что предписано тебе сверху ровно настолько, насколько ты заслужил вольно или невольно, что-то там выбирая.
Профессор произнёс это обыденным деловым тоном, как будто находился сейчас в своей лаборатории и проводил в присутствии желторотых практикантов привычные поднадоевшие научные манипуляции.
– По-вашему, выходит так: всё, что случается в нашей жизни, независимо от наполнения случившегося, кем-то предопределено? И, как ни крути, ты всё равно получишь то, что для тебя уготовано свыше? – спросил Василий Васильевич и невольно придвинулся ближе к профессору, укрываясь под раскрытым зонтом.
– Не совсем так, мой дорогой друг, свыше нам даровано право выбора. И уже за развилкой дорог нам уготованы те самые неслучайные случайности. Я уверен, что мой отец, испуская дух под толстым стволом сосны на магаданском лесоповале, очень пожалел о том, что уступил одноногому баптисту блатную должность бухгалтера в конторе.
– Но на Колыме-то, я надеюсь, он оказался не по своей воле? – Шаганов взглянул на зонт и отметил про себя, что он совершенно новый, добротный и явно не отечественного производства.
– Конечно же, не по своей! Но это был результат его выбора – ударно работать мастером литейного цеха или расти до карьерных высот по партийной линии. Он выбрал второе и обрёк себя на незавидную долю врага народа. Можно сказать, «ему не повезло» или «удача отвернулась от него». Но что такое удача? Это и есть выбор, в результате которого ты оказываешься в нужное время в нужном месте.
Я в этом плане удачливый человек. За все страдания, перенесённые моими предками, мне дарована долгая и счастливая жизнь. Мой выбор неизменно имеет желаемый результат. У меня есть любящая и верная жена. Согласитесь, так везёт далеко не каждому, точнее, подавляющему меньшинству. Её борщи и пельмени шедевральны! К тому же она талантливый учёный. Я обязательно приглашу вас к нам в гости в «пельменный выходной». Но готовьтесь внимательно слушать её бредни о популярной теории замедления времени.
Шаганов сглотнул слюну. Он любил пельмени и уже жаждал оказаться в профессорской квартире в кругу идеальной семьи, даже через пытку теорией замедления времени. А Эраст Ефимович, озаряя окружающую дождливую морось своей лучезарной улыбкой, продолжил:
– НИИ, который я долгое время возглавляю, – это моя вторая семья. Я люблю свою работу, и она любит меня. Остаётся только одно – жить и этой жизни радоваться. Эх, если бы знать, сколько мне ещё отмерено, чтобы не плодить невыполнимых планов.
Его улыбка потеряла свой благостный свет, но через мгновение снова залучезарила.
– Не подумайте, что моя долгая жизнь – результат каких-то опытов или унаследованные от предков гены. Ничего подобного! Это обычное везение, тот самый случай… И это везение меня иногда пугает. «Не может быть, чтобы человеку непрерывно везло», – иногда говорю я себе. Конечно, чтобы мои откровения не вызвали у вас сомнений, признаюсь, что мелкие неприятности иногда случаются, к примеру, внезапное обострение артроза или жирное пятно на новом галстуке. Но эти случайности меня даже не расстраивают.
Шаганов с грустью слушал своего нового знакомого. Василий Васильевич считал себя классическим неудачником – и в жизни, и в творчестве. Ему вдруг показалось, что если его дружба с профессором Пантелеевым продолжится, то госпожа удача, принадлежащая этому невероятно успешному человеку, обязательно коснётся и его.
Тем временем Эраст Ефимович продолжил свои откровения:
– Потребности мои с каждым днём становятся всё скромнее и незамысловатее. Проснуться в моём возрасте – уже большая удача. Этого я и желаю себе каждый вечер, укладываясь почивать. Ни спокойной ночи, ни добрых сновидений, а только одного – проснуться утром и прожить для чего-то дарованный мне ещё один день. Призна́юсь, днём сегодняшним я вполне доволен, ведь он подарил не только тёплую погоду с любимым дождём, но и утреннее общение с нашим дворником и по совместительству народным поэтом Альбертом Францевичем Кузиным, близким другом вездесущего Бахуса, почитателем великого Петрарки, человеком образованным, редчайшим интеллектуалом и прекрасным собеседником. Но самое важное моё приобретение – зарождение дружеских отношений с личностью далеко не ординарной, безусловно, талантливой, неустанно ищущей истину в бездне абсурда и бессмыслицы. Вершителем судеб!
Шаганов сразу и не сообразил, что речь идёт о нём, но профессор, заметив замешательство на его лице, молниеносно расставил акценты:
– Да, да, молодой человек! Это всё о вас! Я благодарю судьбу за нашу встречу. Уверен, что и старый выживший из ума профессор не принёс вам особых неудобств и может рассчитывать на продолжение знакомства.
Василий Васильевич снова не успел ответить. Эраст Ефимович в уже полюбившейся ему манере безостановочного монолога, словно с учебной кафедры, продолжил фонтанировать соображениями из теории неслучайных случайностей:
– Даже страшно представить, мой дорогой друг, что наша встреча могла бы не состояться. Для этого мне достаточно было, согласно своему обычному распорядку, выдвинуться на прогулку часом позже или хотя бы присесть на другую скамейку, допустим, вон ту, что еле видна в конце аллеи под старым ветвистым клёном.
– Почему же вы этого не сделали? – поинтересовался Василий Васильевич.
– Всё банально просто. В сегодняшнем вечернем телеэфире – прямая трансляция футбольного матча Лиги чемпионов. Буду болеть за «Валенсию». Вот и решил вопреки традиции прогуляться пораньше. А эту скамейку я облюбовал очень давно. Мы на ней прошлым летом с моим соседом Аристархом Амвросиевичем Гусевым, царствие ему небесное, каждый день состязались в шахматных баталиях. Эх, видели бы вы гамбит Кохрена в моём исполнении!
Добрый взгляд Эраста Ефимовича заиграл яркими шкодливыми искорками, и старик показался Шаганову ещё моложе. Писатель улыбнулся в ответ и сразу получил очередную порцию откровений:
– Мне по душе эта скамья ввиду её удобного расположения: сверху – густая тенистая акация, а перед глазами – развилка в виде трёх аллей. С этого места открывается прекрасный обзор людской суеты и людского выбора: прямо, направо, налево, прямо, направо, налево… У каждого свой выбор, своя стезя, своя судьба.
Выбор, выбор! Мы постоянно выбираем, следуя изо дня в день по дорогам случайностей! При этом сам случай влияет на наш выбор для чего-то великого. Вы знали, что основатель ордена иезуитов Игнатий Лойола[4] создал это могущественное сообщество единоверцев благодаря случаю?
Шаганов этого, конечно же, не знал. Удовлетворённый его беспомощным молчанием Эраст Ефимович продолжил:
– Тринадцатый ребёнок в семье, он не мог рассчитывать даже на мизерную долю отцовского наследства. Ему оставалось искать удачу на военном или духовном поприще. Выбрав первое, Лойола в одном из боёв вскоре был ранен в обе ноги. Прикованный к постели развлекал себя чтением религиозной литературы, в результате чего уверовал в своё сверхъестественное предназначение. Всего лишь случайное ранение – и мир потерял, может быть, талантливого полководца, но однозначно познал гениального авантюриста и обрёл его воистину бессмертное творение, живущее и поныне. Вот он, случай, повлиявший на выбор!
Лишь в двух природных необходимостях нам право выбора не дано – в нашем рождении на свет и естественном уходе в мир иной. Сии великие таинства пока подвластны лишь Тем Троим. Но это пока…
После многозначительного «пока» старик умолк и снова устремил взгляд поверх деревьев, в серое дождливое небо, будто там, за тяжёлыми свинцовыми тучами, он высматривал Тех Троих. Заметив, что дождь прекратился, он бережно закрыл зонт, вернув его снова в состояние трости, потом опять старательно протёр носовым платком линзы очков, в очередной раз поправил и без того идеально восседавшую на голове шляпу и, наконец, повернулся к собеседнику лицом.
– Так что наша встреча, мой дорогой друг, – результат моего выбора. Поверьте, я никоим образом не умаляю ваш выбор. Без него бы я сейчас сидел на этой скамейке в одиночестве.
Любая встреча – преднамеренная или случайная, как у нас, – результат выбора двоих человек или более. Провиде́ние сводит их воедино не ради забавы, а для чего-то заметного, может быть, даже важного или великого. Очень надеюсь, что и наше знакомство будет иметь заметное продолжение. Во всяком случае, я рад вам. Очень надеюсь на то, что и вы не жалеете потраченного на меня времени.
– Нисколько, – незамедлительно ответил Василий Васильевич, опустил взгляд на часы и не поверил своим глазам: прошла вечность с момента их встречи! Внимательный профессор заметил этот мимолётный взгляд, брошенный на фосфоресцирующие в сумерках стрелки.
– Вы правы, пора прощаться. Футбольный матч начнётся через четверть часа. Надеюсь на такую же тёплую встречу завтра вечером, если случаю это будет угодно. Но выбор всегда за нами. Поверьте, мы найдём о чём поговорить.
Профессор, по-родственному опираясь на плечо Шаганова, с трудом оторвался от скамейки и замер на месте, близоруко оглядываясь по сторонам. Василий Васильевич из чувства солидарности покинул насиженное место и стал рядом. Пантелеев даже с учётом шляпы оказался на полголовы его ниже.
– Вот думаю, какой аллеей мне выдвинуться домой. Их три, и на каждой свои случайности.
– Идите тем путём, который короче других, – попытался подсказать Шаганов. – По-моему, это самое верное решение. Дома вас ждёт футбол, домашний уют и приготовленный заботливой женой ужин.
– Не берите на себя неблагодарную роль провидца, мой дорогой друг. Помните – об этом знают только Те Трое. И в данную минуту я знаю лишь одно. То, что я хочу с вами встретиться снова! Завтра в это же время на этой же скамейке. Прошу не опаздывать! – с тоном лектора произнёс он и на прощание бросил: – Но не будем смешить Всевышнего, посвящая его в наши планы…
Шаганов долго смотрел ему вслед, желая этому странному, но, безусловно, неординарному и талантливому человеку благополучно добраться до дома и провести вечер так, как тот задумал.
Небо очистилось от туч, дождь больше не намечался. Только усилившийся ветер, озорничая, сбрасывал с густых крон деревьев крупные капли воды на траву, асфальт и редких прохожих.
Из дневника поручика Петра Аркадьевича Перова
Петропавловская крепость, 11 марта 1827 года
С великим сожалением и болью в душе узнал сегодня из письма Насти, или, вернее будет сказать, княжны Анастасии Ильиничны Тумановой, суженой моей, что она таковой уже для меня не является. Не скрою, что с трепетом в душе ждал этого известия, но всё же надеялся, что оно не придёт, хоть по-иному и быть не могло. Наказанный Всевышним Правителем и державной властью бунтарь – не ровня светской красавице, звезде бомонда и дочери высокопоставленного чиновника.
Голубушка моя! Знаю от маменьки, что батюшка Ваш ещё боле повысился при Дворе, то и есть причина Вашего отречения от меня – вечно Вашего покорного раба.
Я прощаю Вас! И слова худого о Вас, голубушка, никогда не промолвлю! И вы будьте милосердны ко мне, простите, ради Христа, за принесённые страдания! Да дарует Вам Всевышний бескрайнее счастье с Вашим новым избранником. Насколько мне ведомо, он человек достойный и к тому же высокого сословия. А я продолжаю любить Вас с не меньшей страстью, хоть уже и без надежды. И даже если было бы мне дозволено свыше каким-то чудом жить бесконечно, то, не задумываясь, отдал бы Вам каждую кроху своего земного бытия, а иначе не вижу в нём никакого смысла.
Некогда питавшая меня верой в завтрашний день жажда жить в исстрадавшейся груди иссякла и уже совсем не ощущается.
Завтра этапом с сотней таких же, как я, несчастных, отправят меня на прежнее место моей службы – крепость на Березине. Вот только стены её уже не будут как прежде родными мне, как не может быть родным острог для кандальника. Одно лишь желание – хоть мельком увидеть стариков моих и сестрицу Глафирушку, перед тем как отправиться в адово чистилище. Так Богу, значит, угодно – теплит жизненные силы в моём бренном теле.
Глава 2
Неудачник Вася Шаганов
Если бы начинающий юный писатель Вася Шаганов не посвятил свой первый рассказ с немудрёным названием «О любви» однокласснице Эле и если бы после его публикации в популярном молодёжном журнале «Смена» красивая Элеонора Наумкина не обратила внимания на автора этой, по её определению, «милой баечки», вероятно, жизненный путь автора был бы иным – более удачливым, более светлым и сполна насыщенным многими добрыми событиями. Но что случилось, то случилось.
Ещё в школе парень понял, что обречён дальнейшую жизнь влачить жалкое существование классического неудачника. Конечно же, всё познаётся в сравнении. А Василия было с кем сравнивать. Удачливый во всём брат-близнец Алёшка был всегда рядом. Контраст между ними бросался в глаза даже самому ненаблюдательному болвану.
– Эх, братики, – иногда, будучи в состоянии вечернего подпития, говорил им отец Василий Григорьевич, простой литейщик, передовик производства. – До чего же вы одинаковые! И до чего же вы разные!
Алёшка после этих слов неизменно улыбался, а Вася хмурился. Он хотел во всём походить на брата – не только лицом, но и характером. Однако абсолютное сходство было априори невозможно, а к старшим классам их, наконец, стали различать одноклассники – вечного весельчака Алика и серого угрюмыша Васю.
И та самая Эля – героиня Васиного рассказа – всегда тянулась к его брату, но всё изменилось после публикации в журнале, когда эта неприступная для всех красавица поцеловала при всём классе не балагура Алёшку, а его, скромнягу Васю. Тогда он понял, что тоже достоин счастья.
Он даже изменился внешне: из вечно угрюмого отрока с потухшим, уткнутым в пол взглядом волшебно преобразился в лучезарного симпатягу. Теперь их с братом различали с трудом. Пользуясь этим, братья делили сдачу выпускных экзаменов на двоих, в результате чего и хорошист Лёшка, и троечник Вася отчитались за весь школьный курс на отлично.
Парень сиял от счастья, когда прибыл на выпускной бал, трепетно держа за руку Элю – мечту каждого одноклассника, и ловил на себе завидущие взгляды мужской части гостей, находившихся в огромном спортивном зале, украшенном разноцветными шарами и плакатом с надписью «В добрый путь!».
Не сговариваясь, Вася и Эля выбрали для поступления московские вузы: она – ГИТИС, он – литературный институт. Жили вместе в крохотной съёмной квартирке на Хитровке, которую юноша оплачивал, подрабатывая по ночам и в выходные водителем хлебовозки. Пара поженилась на втором курсе. Благодаря усилиям состоятельных Элиных родителей свадьбу сыграли в Минске в одном из лучших ресторанов. Брат Алексей приехал на торжество из Новосибирска, где учился в военном училище. С ним была симпатичная девушка Маша, которую он всей немногочисленной родне представил как будущую жену, на что Маша скромно улыбалась, стреляла в Алёшку голубым взглядом и еле слышно произносила: «Это мы ещё посмотрим». Вскоре и они поженились, но на свадьбу никого не позвали, потому что Алексей по распределению попал служить в Забайкалье, и Маша как верная жена офицера последовала за ним. В письме родителям (брату он не писал) Лёшка обещал собрать всех за свадебным столом в первом же отпуске, но приехал только через пять лет на похороны отца. Маша осталась в Чите с новорождёнными близнецами. Василий увидел её, только когда семья Алексея прилетела в Белоруссию к новому месту службы главы семейства. К тому времени майор Шаганов окончил высшие курсы военной контрразведки и успешно пошёл вверх по карьерной лестнице.
Василию тоже было чем похвастать. Он издал несколько сборников рассказов, а на счету его жены, актрисы Эльвиры Шагановой, был не один десяток ролей на сцене столичного драматического театра. Детей они так и не завели и были по уши погружены в свою любимую работу, постепенно отдаляясь друг от друга.
Мама Василия и Алексея ненадолго пережила мужа и, уйдя в мир иной после тяжёлой болезни, оставила братьям в наследство крохотную двушку на бульваре Толбухина, где и проживала сейчас творческая чета Шагановых. Ту долгожданную семейную встречу Василий Васильевич запечатлел в своей памяти как одно из самых тёплых воспоминаний, словно чувствовал, что эти счастливые мгновения уже никогда не повторятся. Брат вихрем ворвался в их тусклую однообразную жизнь – и в вечно безмолвном жилище в этот вечер стало шумно. Эльвира отнеслась к нежданным гостям холодно (в качестве желанных гостей она воспринимала только свою высокочинную родню и многочисленных подруг), а Василий был по-настоящему счастлив.
Как только накормленные всем, что было на столе, близнецы Славик и Владик без чувств свалились на приготовленное им на полу в гостиной лежбище, а женщины удалились на кухню мыть посуду, братья Шагановы вышли перекурить на балкон. Они впервые за весь день остались наедине друг с другом, а это значило, что, наконец, можно поговорить о сокровенном без стеснения и притворства, как когда-то давно, по-братски.
Но это откровение для Василия было неожиданно острым и больно задело его ранимую душу, и без того измученную внутренними противоречиями.
– У тебя, брат, со зрением всё в порядке? – спросил Алексей, глубоко затягивая дым сигареты.
Василий сразу понял, о ком пойдёт речь, и внутренне напрягся. Вслух же ответил коротко:
– Не жалуюсь…
– А ты изыщи в своём писательском графике часок-другой и сходи к окулисту! Пусть он тебе резкость наведёт. Может, тогда внимательнее рассмотришь своё ближайшее окружение! – Брат снова пыхнул сигаретой, уколол Василия острым взглядом и, давая понять, что отпираться перед ним бесполезно (всё же контрразведчик с опытом), резанул наотмашь: – Меня не проведёшь!
А Василий и не собирался отпираться, но и говорить ничего не хотел. Зачем говорить, когда и так всё ясно без слов.
– Одно тебе скажу, брат: таких пустых глаз, как у твоей благоверной, я давно не видел. Она за весь вечер произнесла одну фразу: «Хочу к морю». Не твоя она и ты уже не её! Зачем мучаетесь друг с другом?! Жизнь-то одна, но, если бы она длилась триста лет, не стоит даже часть её тратить на бесполезное. Знаешь, что мне Маша шепнула после оценки обстановки в вашей семье? И это при том, что моя жёнушка – человек совершенно не наблюдательный. Она щекотнула моё ухо короткой, но очень ёмкой фразой: «Они чужие!»
Слова брата Василий вспомнил тогда, когда захлопнулась дверь за ушедшей к другому женой.
– Я не хочу жить с неудачником! – таким был её прощальный вердикт на фоне упакованных чемоданов.
– Какой же я неудачник? – вяло возразил Шаганов. – Я достиг в жизни всего, о чём мечтал.
– Сними розовые очки, Шаганов! Посмотри вокруг! Ты об этом мечтал?! Об этой задрипанной двушке с холодильником ЗИЛ? О столетнем письменном столе в спальне, за которым ты живёшь? О дешёвых платьях на твоей красивой жене и бюджетном отдыхе в санатории «Рассвет»? Или ты ослеп, Шаганов, от своей безостановочной дешёвой писанины?
Муж молча слушал жену и вспоминал недавний разговор с братом. Прав был Лёшка, действительно ослеп… Ежедневно общаясь со своими литературными героями, не видел, что происходит у него под носом.
Когда он выглянул в распахнутое окно, то сразу заметил припаркованный у подъезда новенький жигулёнок и узнал в курящем рядом статном седовласом мужчине Аркадия Дружина – ведущего актёра драматического театра, в котором работала Эля. Со слов жены, Дружин был «талантищем, каких свет не видывал, и мужчиной олимпийской красоты». Шаганов мысленно пожелал Элеоноре удобно устроиться на новом месте и продолжил начатую утром работу над очередной повестью. Однако бурную деятельность он только изображал перед уходящей женой, которая всё никак не уходила, бестолково топталась в прихожей и что-то возбуждённо говорила, словно оправдывала свой уход. Чувствовалось, что она готовила свою речь, но произносила её взволнованно, сумбурно и чересчур театрально, как будто играла роль на сцене перед восхищёнными почитателями её таланта.
– Что же ты столько времени терпела неудачника, как будто Господом тебе даровано триста лет жития? – неожиданно вырвалось у Василия.
– А я надеялась, что ты когда-нибудь прозреешь! Но чуда не случилось! Придётся оставшиеся столетия прожить без тебя! Ах, какая утрата!
Эля схватила за ручку громадный чемодан, но, не осилив его вес, беспомощно посмотрела на мужа. А он не сдвинулся с места и спокойным, холодным тоном произнёс:
– Ты ошибаешься, я прозрел. И, слава Богу, это случилось не через триста лет…
Глава 3
Странный блокнот профессора
Если бы Василий Васильевич в тот вечер без промедления отправился домой вслед за профессором Пантелеевым, то вряд ли бы обнаружил забытый блокнот в красивом кожаном переплёте со странным для непосвящённых содержанием. Но сегодня домой он не торопился, впрочем, как и в любой другой вечер. Парк плотно укутался вечерней темнотой и совершенно обезлюдел. И только писатель Шаганов одиноко сидел на скамейке под большой ветвистой акацией, вглядываясь в глубокую июньскую темень, как будто пытался рассмотреть те самые неслучайные случайности, ожидающие на жизненном пути.
Собеседники расстались полчаса назад, и его новый знакомый, вероятно, уже приближался к своему парадному. Поэтому Василий Васильевич, движимый намерением завтра же вернуть находку, небрежно опустил её в просторный карман плаща, перед этим ощутив под пальцами приятную рифлёную поверхность. Блокнот вроде бы удобно расположился под плотной тканью, но уже через несколько секунд стало казаться, что этот чужеродный предмет вступил в непримиримый конфликт с обнимавшей его материей. Шаганов несколько раз пытался устроить его там удобнее, потом переложил в другой карман, но блокнот словно не желал покоиться в тёмной тиши.
Помучившись какое-то время, Василий Васильевич сообразил, что эти неудобства создаёт его собственное любопытство – жгучее желание узнать содержимое блокнота, особенно ту фразу, которую профессор занёс у него на виду. И он решил прекратить свои мучения, решительно выдернул книжицу из кармана и без промедления распахнул её в ладонях. Открытые в полутьме страницы ослепили своей идеальной белизной. Контрастно на них выглядела чёрная бязь заметок, небрежно изложенных крупным неровным угловатым почерком: где поперёк линеек, где по диагонали листа.
«Мысли о вечности», – эти слова украшали первую страничку блокнота и, по всей видимости, являлись заголовком следующего за ней содержания. А содержание было вот каким:
«Любая случайность не случайна, продолжить наблюдение.
Законы физики написаны не нами. Нам же позволено раскрыть лишь малую часть из них. А большее недоступно… Узнать больше, пока живу.
На квантовом перекрёстке выбор всегда за тобой, и только тебе дано выбирать направление дальнейшего пути.
Нет ничего невозможного. “Невозможно” хранится у нас в голове. Достаточно вычеркнуть из своей жизни это странное слово – и тебе откроются новые, неведомые ранее горизонты. Но возможно лишь только то, что предрешено.
Если воскрешение Иисуса Христа не воспринимать как чудо, ниспосланное сверху Создателем, а принять как физическое явление, соответствующее законам физики, ещё доселе неизвестным, но определённо существующим вне нашего понимания, то это приведёт к великому открытию, о котором человечество и мечтать не смеет.
Жизнь конечна, и исход наш предрешён, пока Вершитель судеб о нас помнит. Пока помнит! О Господи! Неужто Ты денно и нощно заботишься о каждом чаде своём без устали и передыху? Или всё же…
Наша жизнь – уравнение со многими неизвестными, неизвестными только нам. Однако любое уравнение имеет своё логичное решение.
Формула жизни может меняться. Но лишь избранным сие подвластно. Кто эти избранные? Есть ли они среди нас? Продолжить наблюдение.
Шаганов Василий Васильевич. Мой удачный выбор! Моя неслучайная случайность! Он напишет об этом…»
Его, конечно же, взволновала последняя запись. Он прочёл её несколько раз. «Шаганов… Мой удачный выбор… Он напишет об этом…» Действительно, на страничке значилась его собственная фамилия, хоть и написанная весьма неразборчиво. При этом на него возлагалась обязанность о чём-то написать. О чём?! Это просто мимолётная блажь сумасшедшего профессора? Или он стал участником игры с пока ещё неведомыми ему правилами, в которой на него возлагается какая-то важная миссия? Что имел в виду хозяин блокнота?
Василий Васильевич вернулся к первой странице и более внимательно перечитал весь текст, попытавшись вникнуть в смысл. Понимание приходило с трудом, вернее, не приходило вовсе. Ясно было только одно: в блокнот заносились мысли, которые внезапно в различных обстоятельствах приходили в голову профессору – человеку, судя по всему, незаурядному, к тому же прекрасно образованному. Вникнуть в суть каждой записи было невозможно, так как неведомым было то, что подвигло автора на эти выводы, что стояло за ними, какие цели он преследовал, фиксируя их на бумаге.
Не вызывало сомнений одно: весь этот явный эклектизм был объединён общей темой, которую можно было бы сформулировать как гармония науки и религии. «Однако! – подумал Шаганов. – За такие дерзновения можно и по шляпе получить в виде партийного нагоняя или выволочки на учёном совете». Но тут же остудил себя: «Может быть, он самый обычный шизофреник и сейчас переживает стадию весенне-летнего обострения? Может быть… А пока будем считать, что Эраст Ефимович – человек заслуженный и в научных кругах авторитетный, поэтому его мысли можно воспринимать как безобидную блажь заматеревшего светила. В любом случае при следующей встрече нужно будет расспросить об этом. Несомненно, он сам жаждет продолжить начатый сегодня разговор».
«Он напишет об этом…» – что же всё-таки имел в виду старик?
После запоминающегося эффекта, произведённого на своего случайного (или не случайного?) читателя, блокнот, словно успокоившись и выполнив долг, соскользнул с ладони и плавно опустился на дно кармана.
Из дневника поручика Петра Аркадьевича Перова
Бобруйская крепость, 25 марта 1827 года
Вот и прибыл я после долгой отсидки в Петропавловке в числе таких же несчастных за высокие и толстые стены неприступной, когда-то родной мне крепости на реке Березине. Только нет больше на мне офицерского мундира с золотыми эполетами. Его мне заменила позорная арестантская роба да кандальный звон. Не думал не гадал я, ветеран недавней войны, что эти стены, некогда державшие суровую осаду Бонапарта, станут для своего верного защитника лютым острогом на долгие годы. В один миг после судебного приговора будущее перестало видеться мне добрым и радостным и вовсе прекратило для меня существовать. Думается только о прошлом, о том, что когда-то волновало душу мою.
Стоял я сегодня в серой безмолвной толпе каторжан у Минской брамы в ожидании приёмки и под шум ломающегося льда на бурных весенних водах с замиранием сердца обозревал величественную и никем не побеждённую фортификацию: её высокие валы, бастионы, равелины, башни. Здесь прошло 13 лет моей офицерской службы.
Когда каторжане под размеренное громыхание кандалов по каменной брусчатке понуро побрели к баракам, я озирался по сторонам, вдыхал полной грудью родной воздух и узнавал каждый кусочек земли, обильно политой потом и кровью моими и боевых товарищей. Вот она, Соборная площадь, с пригожим домом коменданта, вот величественный собор Александра Невского. В мою служебную бытность он только строился – и вот уже упирается башнями в серое небо. А вот виднеются красные крыши казарм, а за ними – многие склады. Если свернуть на восток, то упрёшься в ворота артиллерийского, а за ним и инженерного парков. Но мы идём мимо казарм, там выстроены в ряд убогие деревянные бараки для каторжан. Для тех, кто за прегрешения свои пред данной Богом властью присланы сюда умирать.
И подступают к сердцу огненные и в тот же час наполненные гордостью воспоминания. Как трепали мы французов месяц за месяцем у стен цитадели, одерживая славные победы. И не прошёл враг! Трусливо по-рачьи пятясь, направился в утомительный обход!
До конца жизни не забыть мне тех дней, когда князь Багратион, умело совершив манёвр, укрыл своё войско за крепостными стенами, заманив тем самым польский корпус в ловушку, связав его долговременной осадой. Вот была потеха!
А началось всё с того, что наши пластуны встретили князя на левом берегу Березины и указали тайный ход под её быстрыми водами. Как в сказке, волшебно исчезнув под изумлёнными взорами неприятеля, на рысях прошла там вся конница в полный рост, пока пехотные полки старательно изображали переправу.
Не знал я тогда, что ход этот тайный навсегда войдёт в мою судьбу, приоткрыв то, что по сей день никем из живущих не изведано, а посему и не может быть никем понято.
Глава 4
Подполковник Шаганов и исчезнувшая карта
Бобруйск, 21 июня 1983 года
Если бы особый отдел Белорусского военного округа, или на профессиональном языке Центр, принял решение об отпуске начальника особого отдела Бобруйского гарнизона на день раньше, то, возможно, дальнейшие события развивались бы по-другому. Но что случилось, то случилось – по воле судьбы или воле случая, сейчас это уже не так важно.
Подполковник Шаганов Алексей Васильевич давно мечтал об отпуске и в этот душный преддождевой июньский вечер, покуривая в своём маленьком уютном кабинете, грезил о нём особенно. В сизых клубах дыма плавали стены и потолок, волшебно манила лазурная гладь моря, искрящаяся под южным солнцем в обрамлении зубатых горных высей с нанизанными на них ватными клочьями облаков. Он не был в отпуске два с половиной года. В сентябре тысяча девятьсот восемьдесят первого пузатый Ил-76 доставил его с женой Машей и близняшками Славиком и Владиком из сурового Забайкалья на аэродром Мачулищи, что под Минском. Вечером этого же дня он с нескрываемым удовольствием восседал за обеденным столом в столичной родительской квартире и в близком семейном кругу общался со своим братом Василием. Общение это было чистым и искренним, каким оно и должно быть между родными, любящими друг друга людьми. Вася поначалу даже смущался от неподдельной откровенности брата, а Алексею казалось, что он слишком сурово общается с братом, потом он даже будет жалеть о том, что так резко изложил свои наблюдения за неудачной семейной жизнью Василия и Элеоноры.
А наутро с предписанием Центра на дребезжащей всеми рессорами санитарной «буханке»[5] майор Алексей Васильевич Шаганов прибыл в Бобруйский гарнизон. Не успел молодой заместитель начальника отдела как следует разместиться в служебном жилье в военном городке Киселевичи, как громыхнули на весь Белорусский военный округ масштабные учения «Запад-81». Манёвры преподнесли ему первый после назначения сюрприз в виде бесследно исчезнувшего пистолета в роте охраны. Пропажу, несмотря на все усилия, так и не нашли. А как только стихла канонада на полигонах, перспективного офицера направили на курсы в Москву, по окончании которых он, уже в подполковничьих погонах, принял отдел от аксакала военной контрразведки подполковника Владимира Никифоровича Шубина. Об отпуске тогда и заикаться не приходилось, и Шаганов денно и нощно оправдывал оказанное ему высокое доверие. А в прошлом году, когда отпускной билет уже был на руках, Москва объявила проверку боевой и мобилизационной готовности округа, и Маша с мальчишками в очередной раз уехала в гости к маме без мужа.
Весной этого года подполковнику Шаганову назначили зама – молодого ретивого майора, прибывшего из Группы советских войск в Германии. Притирались они друг к другу недолго. Майор Егор Михайлов, выпускник Высшей школы КГБ, сразу пришёлся ко двору – смышлёный, исполнительный, расторопный. Алексей Васильевич стал подумывать об отпуске. И вот Центр дал добро! Отпускной в кармане! Завтра он с семейством, большим чемоданом и томиком Агаты Кристи погрузится в скорый поезд Минск – Симферополь, и через полутора суток – здравствуй, солнечная Ялта!
Он уже передал дела заму и докуривал за рабочим столом последнюю на сегодня сигарету, когда противно затрещал прямой телефон с командиром N-ской воинской части, которую он курировал и в штабе которой размещался его отдел. Ох, как же не хотелось снимать трубку!
– Василич, у нас ЧП…
Шаганов знал, что полковник Терентьев такое зря не скажет. ЧП у командира – это что-то действительно важное, способное привести к «негативным непредсказуемым последствиям для вверенной ему воинской части». Последний раз эту фразу он слышал от Терентьева год назад, когда служивый из танкового полка исчез среди ночи, прихватив с собой автомат с полным боекомплектом. Тогда всё обошлось.
– Все живы?
Это было главным при любом ЧП – жизнь людей. Остальное решалось, разруливалось, так как существовало множество вариантов решений выхода из любой, даже самой безвыходной ситуации, но только в том случае, если в этой ситуации все её участники были живы. Гибель военнослужащего исправить было невозможно и оставалось только искать виновных, чтобы потом их жестоко наказал суд или карающий меч вышестоящего руководства.
Поэтому, когда в трубке раздалось короткое командирское «да», Шаганов облегчённо выдохнул.
Командир, не доверяя телефонным проводам, скромно спросил:
– Зайдёшь?
И он, конечно же, зашёл, хоть мог свалить эту заботу на зама. Шаганов не был подчинённым Терентьева, его руководство находилось в Минске. И это руководство вчера санкционировало долгожданный отпуск. Если все живы, то о ЧП минскому начальству можно будет доложить утром, когда поезд будет уносить его в сторону черноморского побережья, а отдуваться за всё будет молодой перспективный зам. Так можно было сделать, но не Шаганову. Во-первых, он уважал полковника Ивана Ивановича Терентьева за честность, порядочность, мудрость и боевые награды за Афганистан. Во-вторых, не в его правилах было уходить от ответственности. В-третьих, он пока не доверял своему новому заместителю, не знал почему, но не доверял.
В кабинете командира было сильно накурено. «Значит, о ЧП командиру стало известно не минуту назад, – подумал Шаганов, уткнувшись взглядом в хрустальную пепельницу с солидной горкой окурков, – минимум час-полтора разбираются».
За приставным столиком на виду у командира восседал начальник штаба подполковник Маланчук. Его заметно дрожащие руки, покрасневшие глаза и виноватый взгляд говорили о том, что ЧП произошло в его «епархии».
– Присядь, Лёша, – командир обратился по-свойски, значит, дело серьёзное и начальник особого отдела приглашён не в качестве представителя надзорного органа, а как коллега, которому доверяют. Алексей Васильевич сразу оценил это.
Терентьев не спешил с докладом. Он протянул Шаганову пачку «Орбиты» и набрал трёхзначный номер на диске телефона, на другом конце провода что-то забулькало.
– Ну что? – спросил кого-то командир.
В ответ снова забулькало.
Когда трубка опустилась на рычаг, Терентьев закурил и, глубоко затянувшись, бросил тяжёлый взгляд на Шаганова.
– Карта пропала, секретная… Комиссия сегодня в секретном отделении отработала. Одного экземпляра не досчитались. Перепроверили всё десять раз, акты утилизации перелопатили. Одна карта местности отсутствует… с обстановкой по предстоящему учению, – он снова затянулся и подчёркнуто спокойно посмотрел на тлеющий оранжевым огоньком кончик сигареты. – Вот такие, Лёша, наши дела…
Терентьев перевёл взгляд на начальника штаба, тот, не дожидаясь вопроса, устало вполголоса произнёс:
– «Пятидесятка»[6], с обстановкой на местности, включающей в себя крепость и расположенный рядом участок Березины с прибрежной территорией… И, главное… – Маланчук запнулся и косо взглянул на командира.
Терентьев рявкнул на него:
– Говори! Здесь все свои!
И Маланчук послушно продолжил:
– Главное – в нанесённой на неё учебной обстановке имеются специальные объекты, – он снова запнулся, но, встретившись с суровым взглядом командира, сам же прервал паузу: – Это передислоцированные сюда по условиям учений «Пионеры»[7] с ядерными боеголовками.
Да, дела! Такого за его многолетнюю службу ещё не случалось. Бывало, что у нерадивых офицеров изредка пропадали, а потом неизменно находились различные документы с «ограничительными грифами доступа». Но чтобы исчезла карта – бумага, приобретающая какую-то ощутимую ценность, когда на неё наносятся командирские решения, раскрывающие обстановку и действия войск, – такого в служебной практике подполковника Шаганова ещё не было.
В мирное время такой документ важен только во время учений, по окончании которых его списывают решением комиссии и незамедлительно утилизируют. Кому нужна карта с учебной обстановкой, пусть даже содержащей так называемые специальные объекты? Этот вопрос в данную минуту не находил ответа в голове опытного контрразведчика, не знали его и сидящие рядом не менее опытные офицеры. В неожиданно возникшем ребусе обиженно исчезла в заоблачной дали, даже не помахав на прощание, мечта подполковника Шаганова об отпуске. Он спокойно прикурил от зажжённой начштабом спички и без удовольствия затянулся.
До краёв наполненный немой укоризной взгляд жены Маши сквозь мутное стекло плацкартного вагона он запомнил надолго.
– Я приеду, как только завершу важное дело, – эти слова, произнесённые на сером утреннем перроне, она слышала от мужа не в первый раз и, как всегда, обречённо улыбнулась в ответ.
Когда поезд тронулся, завопив протяжным хрипучим сигналом на весь мирно спящий Бобруйск, Славик и Владик радостно, почти синхронно замахали отцу из вагона. Они верили, что папа «немного задержится и через денёк-другой к ним присоединится». А Маша верила с трудом: она-то уж знала, как муж мечтал об этой семейной поездке, и теперь хорошо понимала, что задержать его могло только действительно важное дело.
Железнодорожный состав ещё неспешно тащился вдоль пыльного безлюдного перрона, а служебный уазик со сверхсрочником Серёгой за рулём уже увозил хмурого начальника особого отдела по направлению к штабу, где не прекращались поиски пропавшей топографической карты.
Тщательно умытый ранним июньским дождиком город радовал взгляд свежестью листвы на тополиных аллеях и зеркально блестящим под восходящим солнцем асфальтом. Редкие прохожие доброжелательно поглядывали на неделю назад снятый с «НЗ» армейский уазик. В этом вечном гарнизоне к военным всегда относились с почтением, да и как иначе, ведь воинские части, рассредоточенные по всему городу, являлись местом работы и службы многих тысяч бобруйчан. Если же посчитать с членами семей военнослужащих, то причастных к гарнизонным делам окажется в разы больше.
И как среди этих тысяч причастных отыскать того, кому для чего-то понадобилась секретная топографическая карта местности? Профессиональное чутьё подсказывало Шаганову, что карта не затерялась в штабных коридорах и многочисленных шкафах с бумагами и не была по ошибке утилизирована. Он чувствовал, что кто-то выкрал её не ради забавы и не в качестве упаковки для бутербродов, а для чего-то более важного. Кто? И для чего? Это он и хотел узнать и узнать как можно скорее.
Дознание, которое назначил командир части, начальника особого отдела совсем не интересовало. Шаганов решил в этот процесс не вмешиваться. Пусть копают, насколько хватает силёнок. Но пропавшая карта с грифом «секретно» – это сугубо дело военной контрразведки! Он был уверен, что его вчерашняя шифровка уже рассмотрена в Центре и ответ ждёт в штабе. Вчера, уходя домой после полуночи, Алексей Васильевич отдал распоряжение заместителю утром положить на его стол подробный список военнослужащих, посещавших секретную часть в период после последней ревизии; а также объяснительные записки от ответственных должностных лиц – начальника «секретки», начальника штаба и его заместителя; рабочую карту заместителя начальника штаба с той же обстановкой, как на похищенной; и рапорт Михайлова с предложениями по проведению первоочередных оперативных мероприятий – это было для него не менее важным.
Последняя задача, прозвучавшая безапелляционно в форме приказа, вызвала недоумение на лице зама, что очень не понравилось Шаганову. И сегодня он жаждал увидеть этот рапорт.
Ответ из Центра поступил в форме лаконичной телефонограммы, которую чересчур радостно вручил ему дежурный при входе: «Найти безотлагательно!» Генерал обладал редким качеством формулировать свои распоряжения кратко, при этом ёмко и многозначительно. Кто не умел распознавать эту видимую краткость, долго на своих должностях не задерживался. Шаганов умел. Вот и сейчас в этих двух с виду незамысловатых словах он прочитал: «Центру нужен результат! Любые уловки командования типа “случайно утилизировали” в расчёт не брать! Найти: 1. Похищенную карту (Центр уже не сомневался, что карта похищена, на то он и Центр). 2. Похитителя карты, кем бы он ни был. 3. Виновных в этом вопиющем безобразии (это уж как водится). Центр Вам доверяет и вмешиваться, во всяком случае, на этом этапе, не намерен!» Последнее Шаганову особенно понравилось.
На рабочем столе подполковник обнаружил картонную папку, а в ней – бумаги, подготовленные заместителем. Они включали: короткий список посетителей секретки – всего четыре офицера, кроме начальника секретной части: командира, начальника штаба, его заместителя (дважды) и командира инженерной роты; объяснительные секретчика, ЗНШ[8] и ротного, написанные как под копирку: «Не знаю, не ведаю» (другого он и не ожидал); аккуратно сложенную «пятидесятку» – топографическую карту местности – и рапорт майора Михайлова, изложенный убористым почерком школьного отличника.
Не успел он приступить к подробному изучению документов, как в дверь осторожно постучали. Он не ответил, так как никого не хотел видеть. В кабинет робко вошёл начальник штаба подполковник Маланчук. Шаганов ожидал этого визита, так как за последние два года хорошо изучил этого человека. Маланчук родом из Житомира, военное училище окончил на тройки, но успел дважды послужить за границей – в Германии и Венгрии, после чего ни с того ни с сего с кабинетной должности в штабе Ленинградского военного округа был отправлен на понижение в Бобруйск. Поговаривали, будто за постоянную дружбу с лукавым Бахусом. Здесь эта дружба продолжилась, и её пока терпели, так как за спиной подполковника стоял высокопоставленный дядя в генеральских погонах. Сильно помятое обрюзгшее лицо Маланчука с алыми крапинками на мясистом носу и красные белки глаз свидетельствовали о том, что начштаба не участвовал ночью в поисках исчезнувшей карты, а укреплял и без того прочные узы с Бахусом обильными возлияниями.
– Нашли карту? – Шаганов сразу настроил предстоящий разговор в максимально лаконичное и конструктивное русло.
– Нет, ну что вы… – словно извиняясь, проблеял Маланчук и притворно кашлянул в кулак.
– Принесли свою объяснительную?
– Нет, я её ещё не написал…
– Значит, имеется устная информация по этому делу? – Шаганов буквально сбивал с ног незваного посетителя своими вопросами, и, если у того в голове и была хоть какая-то даже самая примитивная схема разговора, она рушилась на глазах.
– И информации пока нет, – начштаба покосился на стул у приставного столика под большим фикусом, но хозяин кабинета не предложил ему присесть.
– Зачем же вы пришли? – Шаганов принял выжидательную позу и по-актёрски изобразил на лице крайнюю заинтересованность. Он, конечно же, хитрил, так как подозревал, что принёс ему подполковник Маланчук.
– У нас имеется предложение…
– У вас – это у кого? – Алексей Васильевич хорошо был осведомлён об умении начштаба перекладывать свою личную ответственность на чужие плечи и сразу решил пресечь его очередную попытку, так как был уверен, что командир в очередную схему Маланчука не вовлечён.
– Это в смысле… у меня, – подполковник снова посмотрел на стул, и снова его недвусмысленный взгляд остался «незамеченным».
На этот раз Шаганов промолчал и ничем не нарушил тягучей паузы, любезно предоставив незваному гостю возможность мучиться в полном одиночестве.
– Мы, точнее, я… – Он, наконец, собрался с духом и выпалил на одном дыхании, как из пулемёта: – Я предлагаю, Алексей Васильевич, списать эту злосчастную карту – и дело с концом! Вот!
Начштаба сразу же обмяк и стал походить на прислонённый к стене бесхозный рюкзак, забытый рассеянным туристом на железнодорожном полустанке. Только в его красных глазах читалось неимоверное внутреннее напряжение.
Шаганов продолжал молчать, понимая, что услышанное им – это ещё не вся «гениальная идея» Маланчука. И не ошибся.
– Последняя проверка наличия топографических карт проводилась месяц назад после учений, по её итогам комиссионным актом утилизировали девять картографических документов. В таблице осталась незаполненной одна графа, туда мы аккуратно и впишем номер утерянной карты, – начштаба рассеянно улыбнулся, как будто он говорил о какой-то невинной шутливой затее.
Пора было заканчивать этот балаган. Алексей Васильевич старался сдержать себя от нахлынувшего гнева, прижимая тяжёлым взглядом просителя к входной двери, и он, медленно проговаривая каждое слово, спокойным металлическим голосом произнёс:
– Вы пытаетесь мне подсказать, что свободная графа в таблице утилизационного акта осталась незаполненной неспроста?
Начштаба испуганно замотал головой, да так, что фуражка съехала на ухо:
– Нет, конечно же, ну что вы…
– Даже если это не так, то вы предлагаете мне должностной подлог! Вы или не осознаёте то, что говорите, или совсем меня не знаете! Уверен, что у нас ещё будет возможность познакомиться поближе. А пока будем считать, что этого разговора не было.
– Вы меня неправильно поняли, – начштаба густо покраснел и сцепил на животе дрожащие руки. – Дело в том…
– Я вас правильно понял! – Шаганов повысил голос, кроме гнева и отвращения к этому человеку, он ничего не чувствовал и в данную минуту даже не подозревал, что в этих нахлынувших эмоциях закралась маленькая, но очень важная ошибка, о которой он очень скоро пожалеет.
Маланчук мгновенно ушёл в себя, робко и рассеянно покинул кабинет, осторожно прикрыв за собой тяжёлую дверь. Эх, не знал тогда Алексей Васильевич, что ключик от разгадки в этом деле был в дрожащих руках начштаба! И он этот ключик не разглядел.
Рапорт Михайлова был блёклым и неинтересным, а Шаганов ждал от молодого заместителя даже не поражающих креативом предложений, а хотя бы какой-то заметной инициативы. Вместо этого он каллиграфическим почерком с грамотной пунктуацией старательно изобразил то, что не требовало каких-либо особых усилий: «опросить офицеров, прапорщиков и сверхсрочнослужащих, посещавших секретную часть в период после последней ревизии»; «активизировать оперативные мероприятия в подразделениях и на территории военного городка»; «провести соответствующий инструктаж негласного аппарата» и так далее. Единственное предложение, которое немного тронуло подполковника Шаганова, читалось так: «Подробно изучить все доступные объекты долговременного фортификационного сооружения, водной артерии и её прибрежной части, изображённые на топографической карте». «Вот и поручу ему изучать эти доступные объекты, и не только доступные», – подумал подполковник, вызвал заместителя и поставил задачу самостоятельно в максимально короткий срок реализовать последнее предложение в рапорте.
Это «непосильное» поручение совсем не расстроило майора – напротив, он вприпрыжку бросился его выполнять, обрадовавшись, что наконец оторвётся от бумажной работы.
Снова оставшись наедине со своими мыслями, Шаганов вытащил из тоненькой стопки документов на столе полную копию исчезнувшей карты и стал водить взглядом из квадрата в квадрат. В этом путешествии он ясно представлял знакомую местность: возвышенность со старинной крепостью, по форме похожей на потерянную на берегу реки конскую подкову, обрывистый берег, омываемый быстрыми водами Березины, и равнину с небольшой рощицей на противоположном берегу.
Сегодня крепость – это уже не грозная фортификация со всеми соответствующими строениями, а всего лишь охраняемая территория с многочисленными армейскими складами и одинокой гарнизонной гауптвахтой. Излучина реки у её стен тоже ничего особенного собой не представляла, единственное, на что можно было обратить внимание, – резкая разница глубин в этом месте и образуемые, как следствие, опасные водовороты, о чём знал каждый местный мальчишка. Что же заинтересовало похитителя на карте? Или её всё же никто не похищал, и пылится она сейчас в каком-то неисследованном штабном шкафу, и не ведает, какие страсти разгораются вокруг.
Ему вдруг вспомнился растерянный взгляд Маланчука, и Шаганов готов был пожалеть, что не дослушал того до конца. Не исключено, что хотя бы косвенно подтвердилась версия об утере карты, которую робко и неуверенно пытался подсунуть ему начальник штаба.
Он набрал номер телефона Маланчука, трубка отозвалась заунывными протяжными гудками; командир же на его вызов ответил мгновенно.
– Иван Иванович, мне бы с Маланчуком повидаться, что-то он со своей объяснительной медлит, – документ был поводом, на самом деле Шаганов решил продолжить вчерашний разговор.
Такого ответа он не ожидал:
– А Маланчук, Алексей Васильевич, внезапно почувствовал острые сердечные боли и безотлагательно слёг на лечение в гарнизонный госпиталь. Ты же знаешь, что он сердечник и кардиологические дела у него внезапно обостряются в самые важные для части моменты.
В голосе командира чувствовалась грустная ирония, он остался один на один с проблемой исчезнувшей карты. Зампотех[9], зампотыл[10] и начбой[11] не в счёт – это не их забота, а военная контрразведка в партнёры не годится, так как советуется исключительно со своим начальством.
– Ничего, Иваныч, – Шаганов постарался хоть немного ободрить загрустившего командира, – придётся мне проведать нашего больного.
Но это дело он сразу отложил, хотя поступок начштаба ему показался странным. «Неужели таким примитивным способом тот решил спрятаться от ответственности? Или всё же сдали и без того слабенькие нервы? Придётся проработать его более подробно. Но потом. А сейчас займёмся местностью. Что-то в ней есть такое, что при первом прочтении незаметно, и надо бы пристальнее всмотреться», – рассуждал Шаганов.
Ровно через пять минут начальник особого отдела под любимые водителем Серёгой душещипательные мелодии «Ласкового мая» мчался по городу на служебном автомобиле по маршруту «штаб – крепость». Он ещё не знал зачем, но подсознательно чувствовал, что поступает верно, что крепость подскажет ему путь к разгадке этой истории или хотя бы намекнёт.
– Алексей Васильевич, может, заскочим? – Серёга блеснул взглядом в сторону ресторана «Бобруйск», в котором они иногда обедали и изредка ужинали во время поездок по гарнизону.
– Ты меня, Серёжа, высади на Форштадте[12], а сам езжай на обед, потом – в автопарк. Я сам доберусь.
Сегодня караульную службу по охране складов нёс зенитно-ракетный полк, расположенный здесь же. Соблюдая служебную этику, за разрешением посетить охраняемую территорию Шаганов заглянул к командиру подполковнику Ерошевичу. Тот сам вызвался сопровождать важного гостя, но контрразведчик вежливо отказался:
– Вы, Андрей Михайлович, дайте команду начкару[13], пусть выделит разводящего, чтобы часовые не волновались. Я не с проверкой.
– Не с проверкой? – удивился командир. – Что-то случилось?
– Случилось, – не стал скрывать причину своего визита Шаганов, – но пока об этом не стоит распространяться.
Ерошевич понимающе кивнул и энергично крутанул ручку телефонного аппарата для соединения с караулом.
Через десять минут улыбчивый, со скуластым веснушчатым лицом сержант-разводящий встретил Шаганова у хозяйственных ворот старинной фортификации и, следуя на два шага впереди подполковника, обеспечил беспрепятственную прогулку по всей охраняемой территории.
– Стой! Кто идёт?! – останавливали их уставным окриком часовые, хотя при свете дня отлично видели, кто идёт. Но устав есть устав.
– Разводящий с начальником особого отдела подполковником Шагановым! – звучно проговаривал каждое слово сержант, притормаживая перед каждым постом.
Два склада на территории крепости были вскрыты – вещевой и продовольственный. Разводящий на всякий случай продемонстрировал постовую ведомость с соответствующими записями начкара. Именно в момент этой демонстрации первые крупные капли дождя упали на развёрнутые листы. Сержант, по-детски широко улыбаясь, запрокинул голову и взглянул на небо. Шаганов непроизвольно последовал его примеру. Маленькая, еле заметная тучка под ярким солнечным диском испарялась на глазах, и веселящий душу лёгкий тёплый дождик готов был, чуток пошалив, прекратиться. Но бесцельно мокнуть ни подполковнику, ни сержанту не хотелось, и они, не сговариваясь, заскочили в открытые ворота продовольственного склада, или «царства дяди Паши», как шутливо называли эти несколько небольших помещений военнослужащие гарнизона. А название приклеилось к продовольственному складу после прошлогодней окружной ревизии, когда молодой неопытный проверяющий рискнул учить дядю Пашу, а по удостоверению личности – старшего прапорщика Жука Павла Павловича, правильной раскладке продуктов на стеллажах, при этом позволил себе съязвить:
– Это при царе Горохе так продукты хранили, а сейчас, согласно приказу Министра обороны…
Дядя Паша прервал безусого майора из штаба округа:
– А вы, товарищ майор, откройте приложение четыре к инструкции, утверждённой этим же приказом. – Озадаченный ревизор стал рыться в портфеле, а прапорщик, и глазом не моргнув, продолжил: – Не ищите, товарищ майор, я эту инструкцию наизусть знаю: «Порядок временного хранения продовольствия в неприспособленных для данного хранения помещениях определяется приказом командира воинской части…» А приказом нашего командира определён именно такой порядок хранения, как при царе Горохе, – он протянул смущённому проверяющему картонную папку с приказом, – а ответственным над этим царством поставлен я! Следовательно, я и решаю, на каком стеллаже хранить гречку, а на каком – пшено.
Проверяющий, конечно же, нажаловался на строптивого прапорщика командиру, но тот, не усмотрев никакого нарушения, Павла Павловича даже не пожурил, а, напротив, по итогам проверки поощрил. И продовольственный склад с его лёгкой руки стали называть «царство дяди Паши».
Глава 5
Полочки жизни прапорщика Жука
Если бы прилежный ученик Паша Жук после окончания 18-й средней школы города Бобруйска стал студентом нархоза[14], чего очень желали его родители – ответственные работники отечественной торговли, то из смышлёного юноши мог бы получиться не менее ответственный работник важнейшей отрасли народного хозяйства страны. Светлое будущее тренера по боксу неоднократный призёр многочисленных соревнований отверг сразу, как только это предложение поступило, и неожиданно для всех с радостной улыбкой на молодых, играющих кровью губах пошёл служить в войска связи доблестной Советской армии. Там на скромной роли ефрейтора взвода материального обеспечения он не остановился и продолжил сверхсрочную службу в краснознамённом полку тропосферной связи в предместье города Читы далёкого и капризного на погоду Забайкалья. И как ни отговаривали сына в один голос желавшие ему только добра родители, старший сержант Жук поступил и с отличием окончил школу прапорщиков Забайкальского военного округа. После этого счастливого момента он всё в своей жизни разложил по полочкам, как на продовольственном складе в родной воинской части, который возглавил в скромном, но ответственном звании прапорщика. Полочки размеренной и насыщенной служебной деятельностью жизни (что было исключительно важно для прапорщика Жука) он шаг за шагом заполнял скромным, но стабильным жалованьем, квартирой (не в центре, но двухкомнатной и с большим метражом), семьёй с некрасивой, но верной женой, послушными дочкой и сыном – школьными хорошистами, а также любимыми всепогодными занятиями – рыбалкой и охотой. И не было у простого бобруйского паренька Паши Жука, всей душой полюбившего суровое Забайкалье, никаких видимых проблем. И лицо его неизменно светилось счастьем, и завидовали этому простому, но желанному для каждого благостному состоянию многие сослуживцы. В то счастливое и безмятежное для семьи Жуков время Пашкин отец был назначен на должность торгового представителя СССР во Франции, и родители дружно укатили в Париж, откуда присылали сыну и внукам посылки с импортным шмотьём и открытки ко дню рождения, Новому году, Первомаю и Дню Великой Октябрьской социалистической революции.
И жизнь прапорщика Жука, постепенно возмужавшего и превратившегося в дядю Пашу (хоть и было ему от роду не более тридцати), текла своим чередом, пока не стал он покашливать. Кашель как кашель, с кем не бывает – простыл на рыбалке или в суточном наряде. Однако после тщательной диспансеризации сказано было местными Авиценнами, что заработал он на забайкальском ветру нехорошее лёгочное заболевание и, чтобы не превратилось оно в серьёзную проблему, надлежит ему незамедлительно сменить климат на более мягкий. Дядя Паша, посоветовавшись для проформы с верной супругой, так и поступил. Даже в этом непростом деле ему здорово повезло: в родном Бобруйске в N-ской воинской части внезапно освободилась должность начальника продовольственного склада, и Павел Павлович с его громадным опытом военного продовольственника был принят новым командованием, как говорится, с распростёртыми объятиями. Не прошло и года, как сделал дядя Паша из своего склада образцовый тыловой объект, за который было не стыдно перед любой высокой комиссией. И довольное командование при любой возможности награждало инициативного прапорщика и крепкого хозяйственника в одном лице почётными грамотами, а раз в год – небольшой, но вызывающей зависть коллег денежной премией.
Прапорщик Жук, перед тем как по состоянию здоровья отправиться в Бобруйский гарнизон на смену «залетевшему» по уголовному делу предшественнику, заглянул на огонёк к Шаганову и принёс с собой бутылку французского «Наполеона». Алексей Васильевич брать презент категорически отказался, но, почувствовав, что гость обиделся, пригласил его на семейный ужин, который опытная жена Маша накрыла на кухне за считаные минуты.
За неспешной беседой, постепенно перетёкшей в откровенный разговор добрых товарищей, «Наполеон» был побеждён очень быстро. Раскрыл тогда дядя Паша перед Шагановым схему хищений на продовольственных складах округа, в реализации которой главную роль играли ревизоры, назначаемые штабом тыла на плановые проверки в войсках.
А дело было так. Сарафанное радио загодя приносило на один из продовольственных складов, как правило, с новым и неопытным начальником, весть о скорой ревизии. Уважающий себя начальник склада встречал проверяющего во всеоружии – без недостач, без просрочек, с идеальными маркировками и документацией, как говорится, с хлебом, солью и хмельной чарочкой. Но не тут-то было! Ревизор исправно отрабатывал свою роль, а его жертва – молодой прапорщик – даже не догадывалась, что её ждёт. А ждало вот что… Проверяющий – непременно офицер с опытом, не один год возглавлявший продовольственную службу какой-нибудь воинской части, – скрупулёзно совершал ревизию согласно инструкции штаба тыла. Не найдя существенных недостатков, он под традиционную, вернее сказать, обязательную трапезную бутылочку как бы невзначай просил о дружеском одолжении – выдать ему на недельку-другую пару коробочек свиной тушёнки. Кто же откажет ревизору за безупречный акт проверки?! Тем более этот самый ревизор клятвенно заверял начальника склада в том, что в ближайшие полгода какие-либо проверки не планируются. Но не успевал простыть след ревизора со свиной тушёнкой, взятой под честное слово, как на пороге склада волшебно возникал новый ревизор, который тотчас же обнаруживал недостачу той самой пары коробок, что совсем недавно уехали с его коллегой. Прапорщик, конечно же, пытался оправдаться и честно рассказать о должнике, но новый проверяющий проявлял непоколебимую принципиальность. Ситуацию спасали ещё несколько коробок свиного деликатеса. Не успевал начсклада ознакомиться с актом ревизии, как в часть прибывал очередной проверяющий продовольственник. В результате череды таких проверок склад облегчался на солидную часть запасов тушёной свинины, которые вскоре оказывались на прилавках местных рынков. Отдавать долг никто не собирался, а прапорщик, подвешенный на крючок, становился послушной игрушкой в руках мошенников и делал то, что ему приказывали, а точнее, обворовывал себя и свой склад, пока не оказывался в поле зрения надзорных органов – военной прокуратуры или контрразведки. После всех разбирательств на смену штрафнику приходил очередной «желторотик» – и отработанная схема запускалась по новому кругу.
Прапорщик Жук одно время сам болтался на таком крючке, и, если бы не помощь местных цыган, с бароном которых он водил близкую дружбу, сидеть бы молодому начсклада на судебной скамье. Как только дядя Паша понял, что его провели, он обратился за подмогой к тому самому барону, и вся тушёнка с местных рынков (конечно же, не бесплатно) в течение недели с лихвой была доставлена обратно на склад.
Тогда было арестовано девять человек, а за раскрытие дела майора Шаганова поощрили почётной грамотой. Но к тому времени прапорщик Жук уже убыл к новому месту службы.
Глава 6
Царство дяди Паши и 15-я камера
Спустя некоторое время Шаганов и Жук встретились снова, чему оба были рады – всё же старые приятели. И Павел Павлович как коренной житель, хорошо знакомый с местными нравами, обычаями и уникальным менталитетом бобруйчан, здорово помог Алексею Васильевичу «внедриться в обстановку». Многое из этой науки потом помогало молодому начальнику в ежедневных заботах. К примеру, Шаганов сразу усвоил, что местную власть бобруйчане безмерно уважают и неизменно относятся к ней как к Божьему дару, но, кроме этой самой власти, в городе есть известные всем или многим авторитетные люди, как правило, еврейской национальности, способные решать любые важные вопросы.
– Вот, положим, недавно, – рассказывал ему дядя Паша для лучшего уяснения, – перед руководством одного предприятия встал выбор: покупать дешёвые, но недолговечные станки из Китая или дорогие, но надёжные из Германии. Директор склонялся к дешёвому варианту, ибо не собирался править заводом вечно. Но к правильному решению его подтолкнул дядя Зяма, бессменный продавец известного всему городу маленького магазинчика «Военохот», что скромно ютится недалеко от центрального входа на городской рынок. Племянник дяди Зямы – «простой» инженер в отделе снабжения – так и сказал на планёрке после оглашённого директором самоличного решения: «А дядя Зяма сказал брать немецкие!» Директор на это растерянно улыбнулся, и через неделю на завод завезли немецкие Weiler.
В могуществе авторитетных евреев Шаганов убедился лично, когда безуспешно рыскал с Машей по городу в поисках обоев для новой служебной квартирки. Хорошие обои, даже отечественные, были тогда в дефиците, и найти что-либо приличное было практически невозможно. Помогла тётя Рая – «простой» продавец отдела бытовой химии магазина «Тысяча мелочей». По протекции дяди Паши на клочке обёрточной бумаги она написала короткую записку «простому» кладовщику универсального склада: «Фима, ето от меня», – и некий Фима, а по паспорту Ефим Адамович Ахтверд, с удовольствием и приветом тёте Рае осчастливил семью Шагановых десятью трубками модных польских обоев, а за красивые глаза – чешской люстрой.
– Пал Палыч! Принимай гостей! – окликнул старого знакомого Шаганов, когда они с сержантом оказались на складе.
Ему никто не ответил. Только подвешенный к толстой потолочной балке большой боксёрский мешок с сильно потёртой на плотных боках кожей обращал на себя внимание. То ли от сквозняка, то ли от недавнего прикосновения мешок слегка покачивался, заставляя поскрипывать деревянную балку с металлическим креплением по центру.
– Дядя Паша, отзовись!
И снова молчание.
– Начсклада где? – спросил разводящий заглянувшего в помещение часового.
– Так здеся он, – ответил удивлённый солдат, – с девяти утра туточки копошится.
Вдруг в самом тёмном углу за большим стеллажом с мешками какой-то крупы будто из-под земли возник дядя Паша собственной персоной – небольшого росточка, но широкоплечий, кряжистый, в вечной фуражке с козырьком набок, начищенных хромовых сапогах в гармошку и рабочем переднике поверх военной формы.
– Ты, видать, дядя Паша, используя бобруйские связи, оккупировал царство Аида! – приветствовал старого приятеля Шаганов.
Дядя Паша хорошо учился в школе и потому знал, кто такой Аид.
– Нет, Алексей Васильевич, не оккупировал, а взял в аренду до завершения моего пребывания в рядах доблестной Советской армии.
Они крепко пожали друг другу руки.
– Вот благодаря предшественникам оборудовал отличное хранилище для овощей и солений. Продукты в этом подземном бункере лежат как в холодильнике, – дядя Паша кивнул в сторону открытого люка с широким квадратным проёмом.
– Подвалы здесь, наверное, знатные, – по-дружески, но без видимого интереса поддержал тему Шаганов.
– Ничего особенного. Обычные крепостные помещения, – дядя Паша внимательно посмотрел на подполковника, словно измеряя степень его заинтересованности в услышанном. – Наши предшественники, видать, в них тоже картошку хранили. Этот родной для начпрода запах даже порохом не вытравишь.
– Точно, – безразлично бросил Шаганов.
И дядя Паша решил сворачивать своё повествование. Он глянул на наручные часы, цокнул языком, стал стаскивать с себя рабочий фартук и одновременно подытожил:
– Зато капуста там в бочках засаливается на зависть врагам – такая же белая, как на грядке, и притом хрустит, что в глазах искрит.
Дождь за воротами прекратился. Шаганов, поблагодарив дядю Пашу за приют, направился к выходу.
– А ты, Алексей Васильевич, чего заходил-то? Неужто про капусту мою прознал?
Шаганов в ответ на шутку также отшутился:
– Капуста твоя, дядя Паша, на весь гарнизон благоухает. Я в следующий раз, чтоб слюной не давиться, со своей посудой за ней приду.
– Под это дело не грешно и чарочки хмельные пригубить, – заулыбался прапорщик. – Приходи, Алексей Васильевич, тебе всегда рад.
Приятное общение с давним товарищем подняло настроение Шаганову, он даже похлопал разводящего по плечу и с улыбкой произнёс:
– Вот такая, брат, у нас с дядей Пашей дружба…
Крепость своими добротными красными строениями огораживала их от всего остального мира, и жизнь на этом кусочке земли казалась уж слишком неспешной. Встретившаяся им новая смена постов бесшумно, как в замедленной киносъёмке, двигалась по тропке, обильно источающей пар после дождя, и птицы кружили над головой медленно и вальяжно.
Вещевой склад, находившийся в ста метрах от «царства дяди Паши», был уже закрыт и сдан под охрану. Его сообразительный начальник, прознав о визите высокого гостя, решил на всякий случай ретироваться, дабы «не напрашиваться на комплименты». У свежеопечатанных ворот с новеньким амбарным замком высилась неаккуратная стопка деревянных ящиков, низкорослый часовой в плаще с капюшоном отмеривал шаги по периметру здания.
– Давай-ка, браток, заглянем на гауптвахту, – обратился Шаганов к заметно приунывшему разводящему и постарался его приободрить: – И я тебя отпущу восвояси.
Серая глыба гауптвахты, как неприступный бастион, хмуро возвышалась в стороне от основных укреплений. Она представляла собой бесформенное здание, будто бы строившееся в несколько этапов, каждый из которых помогал ей обрастать новыми конструкциями. «Странно, – подумал тогда Алексей Васильевич, – гауптвахта совершенно не гармонирует со всей остальной фортификацией, как будто строилась отдельно».
Приблизившись по извилистой тропке к территории, где отбывали наказание нарушители воинской дисциплины, Шаганов остановился, ещё раз окинул внимательным взором серое крепкое, как монолит, здание с крохотными окошками-бойницами и снова про себя удивился. С первого взгляда можно было понять, что этот высокий дом когда-то выполнял иные функции и под гауптвахту был приспособлен благодаря толстенным стенам, маленьким окнам и открытому, хорошо обозримому пространству вокруг. Только бастионы крепости в пятистах метрах по фронту немного закрывали обзор, а в целом приближающихся к зданию можно было заметить даже на приличном расстоянии.
Часовой у калитки пропустил их во двор, где начальник караула – молоденький круглолицый лейтенант в новенькой форме и до блеска начищенных сапогах с франтовскими наглаженными голенищами – смотрел за тем, как прибывшая с постов смена разряжает оружие. Когда начкар молодцевато представился, Шаганов по-отцовски притронулся к его плечу и доброжелательно произнёс:
– Ну, лейтенант, веди, показывай своё хозяйство.
Начкар, видимо, был не из робкого десятка, на просьбу подполковника смело ответил:
– Конечно же, покажу, вот только я здесь хозяин на сутки, а вот он, – лейтенант указал рукой на какого-то человека, стоявшего у самого входа в здание гауптвахты, – на этом хозяйстве вечно.
Мужчина спокойно ждал приближения проверяющего, а когда тот подошёл к нему на расстояние в пару шагов, так же спокойно представился:
– Старшина гауптвахты прапорщик Урбонас.
Шаганов посмотрел на прапорщика и невольно задержал на нём взгляд. Старшина гауптвахты – худощавый высокий мужчина лет сорока – сорока пяти. Но особого внимания заслуживало его лицо – узкое, матово-бледное, будто никогда не видевшее солнца, с острым подбородком, крупным горбатым носом и тонкими, как ровная ниточка, губами. Из-под козырька фуражки на Шаганова пристально смотрела пара бесцветных то ли серых, то ли голубых глаз. Их выражение было настолько умиротворённым, что состояние покоя мгновенно передалось Алексею Васильевичу. Он как будто утонул в этом необычайно тихом взгляде. Удивительная безмятежность стоявшего напротив человека пронзила его насквозь, затаилась где-то глубоко внутри, и жизнь вокруг словно замерла. На какое-то время Шаганов даже забыл о цели своего прибытия на объект, а когда мысль о пропавшей карте снова вернулась, то вокруг уже были серые стены гауптвахты и широкие металлические двери, расположенные по левую сторону широкого коридора.
– Камер здесь немного – всего двенадцать. Сейчас в них размещается девятнадцать человек, – казалось, что этот густой незнакомый ему голос раздаётся откуда-то издалека.
Он видел перед собой узкую спину прапорщика, неспешно идущего впереди. Начальник караула, как и положено по уставным нормам, сопровождал его, для приличия чуть-чуть приотстав. Три пары подкованных каблуков издавали громкий раскатистый звук, который на удивление не заглушал рассказ старшины гауптвахты.
Словно угадав его мысли, прапорщик сделал небольшую ремарку в своём повествовании:
– Здание построено так, что любой, даже самый незначительный звук отчётливо слышен в каждом уголке, но в камерах, когда-то служивших подсобными помещениями в храме, что бы ни случилось, всегда царит полная тишина.
– Особенно в 15-й камере, – шутливый возглас начкара совсем не вписывался в общую картину всё больше захватывающего Шаганова повествования, но профессиональное чутьё взяло верх.
– Камер всего двенадцать, а у этой номер 15. Почему так? – подполковник посмотрел на прапорщика, но тот в ответ лишь пожал плечами. – А что там такого особенного в этой 15-й камере? – Шаганов обратился к начальнику караула.
– Ничего, – ответил за лейтенанта Урбонас, – камера как камера. Насочиняли небылицы и тешатся ими, словно дети малые.
Он даже не повысил голоса, а проговорил спокойным, монотонным тембром, не повернувшись к собеседникам.
Лейтенант недовольно хмыкнул, но в спор с прапорщиком не ввязался. Шаганов чувствовал, что того так и подмывало возразить старшине гауптвахты, но он, вопреки бойкому нраву, смог сдержать эмоции.
Полутёмный коридор с камерами быстро закончился, и в его торце у зарешечённого небольшого окошка Шаганов заметил дверь с белым номером 15 на серой свежевыкрашенной поверхности. Тщательно покрашенной была не только эта дверь, но и всё, что её окружало: такие же двери со смотровыми глазка́ми наружу, стены и даже каменный пол с идеально подогнанными друг к другу квадратными плитами. А высокий арочный потолок с закруглёнными кверху древними сводами блистал идеальной белизной. Умелая рука и опытный глаз хозяина здесь просматривались в каждом уголке.
– А вот и моя «келья», – сказал Урбонас, остановившись возле неприметной низенькой дверцы напротив камеры номер 15, и радушно пригласил: – Проходите, товарищ подполковник, отдохните немного. – И вдруг выдал то, что Шаганов не ожидал от него услышать: – Найдётся ваша пропажа, обязательно найдётся.
Подполковник застыл в изумлении на пороге: «Неужто весть о пропавшей карте уже долетела из штаба сюда? Однако… Господа офицеры – верные хранители тайн», – и сразу задал осведомлённому прапорщику вопрос:
– А с чего вы взяли, что я что-то ищу?
– А у вас вид ищущего человека: глаза внимательно изучают всё вокруг, словно вы что-то спрятали и где-то это спрятанное забыли. А руки, – он посмотрел на кисти рук Шаганова, – у вас чересчур напряжены и раз за разом сжимаются в кулаки. Вы как будто готовитесь к поединку, но противник вам ещё не известен. Похоже, что вы очень хотите найти пропажу и разобраться с виновными, чтобы как можно быстрее заняться другим не менее важным делом, предположим, тем, о чём давно мечтаете. Может быть, это отпуск.
Шаганов был искренне удивлён:
– Раз вы такой проницательный, может быть, узнаете, что я ищу и где оно находится!
– Может, и узнаю, – прапорщик повернулся к Шаганову лицом, вонзился в него своим бесцветным, но острым, как шило, взглядом и произнёс: – Но не сейчас. Всему своё время. А вы присаживайтесь, я сейчас чаёк заварю. Он у меня знатный, по рецепту дяди Паши, уверен, вам понравится.
Шаганов устало опустился на крепкий деревянный табурет.
– Извините, если мой вопрос вам покажется странным. Но у меня такое ощущение, что я попал в какое-то непонятное мне безвременье и воспринимаю происходящее в этом странном здании как во сне, тягучем, вязком, неприятно-тёплом сне.
– Ничего удивительного в этом нет, – в своей спокойной манере ответил Урбонас, – здание это – как громадный камень, полый внутри. Оно не имеет никакой вентиляции. Мы, конечно, стараемся его почаще проветривать, открывая всё, что может открываться. Но, увы, в замкнутом пространстве из-за недостатка воздуха с непривычки всякое бывает. У некоторых сидельцев даже случаются галлюцинации.
Он посмотрел на Шаганова своим на редкость пронзительным взглядом и продолжил говорить о том, что должно было если не удивить, то хотя бы заинтересовать слушателя, но подполковник, повинуясь профессиональной привычке, сделал вид, что поступившая информация его совсем не интересует.
– Хотя я больше склоняюсь к тому, что всё это от того, что наше здание – не просто стены да крыша, а Божья обитель – намоленная, со своей уникальной энергетикой. Стены такое в себя впитали, что нам с вами даже представить трудно.
Он, не отвлекаясь от своего монолога, организовывал чайную церемонию и комментировал свои действия:
– Этот рецепт чая подарил мне дядя Паша. С удовольствием и я с вами поделюсь: берёте смесь ягод клюквы и шиповника, разминаете с листком-другим мяты, затем добавляете столовую ложку мёда и несколько ягод облепихи. Если не по вкусу вам облепиха, то можно заменить её малиной.
Комната постепенно заполнилась сладковатым, с лёгкой горчинкой ароматом свежеприготовленного напитка.
Урбонас бросил в заварочный чайник ещё щепотку какой-то травы и, перехватив вопросительный взгляд гостя, пояснил:
– Это в дополнение к рецепту дяди Паши для тонуса чабрец – наш, родной, с того берега Березины. Уверен, что вам понравится.
«Странно, – подумал Шаганов, – он ведёт себя не как скромный прапорщик перед лицом высокого начальства, а как хозяин, пригласивший к себе на чай старого товарища. Ещё более странно, что меня это совершенно не напрягает. Ну да ладно».
– Так это здание когда-то принадлежало церкви? – спросил он у старшины гауптвахты и сразу выразил сомнение: – Что-то не похоже.
– Действительно, не похоже, – ответил Урбонас, – потому что это не церковь, а древний храм. Его в начале XVIII века под патронажем губернатора города воздвигли иезуиты – адепты Общества Иисуса.
Хозяин поставил перед гостем красивую фарфоровую чашку, будто только что вынутую из домашнего буфета. Свежезаваренный чай источал божественный аромат.
– Не худшие, я вам скажу, времена были. Иезуитский орден принёс сюда много полезного, прежде всего просвещение. Дети ходили в открытые иезуитами школы, изучали науки, иностранные языки и росли образованными светскими людьми.
Завершив чайные манипуляции, прапорщик так и не присел. Он смотрел сквозь крохотное зарешечённое окошко, неохотно пропускающее дневной свет в маленькое тёмное помещение, и говорил спокойно, размеренно, но в то же время искренне и вдохновенно. Шаганов, прихлёбывая небольшими глотками благоухающий травами чуть сладковатый чай, слушал Урбонаса внимательно, не перебивая.
– Мир вокруг меняется, человечество возводит к небу огромную пирамиду технологий, возле которой скромно ютится крохотная горка нравственных ценностей. И здесь, не на гауптвахте, а в вечном храме, сохранился и до сих пор существует тот нетленный дух нравственной чистоты, дарованный этому месту свыше и на века.
– Интересная философия, – Алексей Васильевич, наконец, прервал явно увлёкшегося размышлениями прапорщика и добавил: – А главное, ничего общего с религией она не имеет.
– А я в Бога не верю. И говорю сейчас о людском, о том, что в суете мирской забыто, но пока ещё не исчезло.
– А вы в этой святой обители не только исполняете служебные обязанности, но и проживаете? – окончательно прекратил философские измышления хозяина «кельи» подполковник.
– Так служба у меня такая, круглосуточная, – Урбонас произнёс это, не глядя на Шаганова, делая вид, что смотрит на что-то интересное за окном.
Алексей Васильевич отодвинул от себя ещё горячую чашку и строгим, не терпящим возражений тоном произнёс:
– На постоянное проживание, товарищ прапорщик, придётся вернуться домой. Вам ли не знать, что гарнизонная гауптвахта является режимным охраняемым объектом, размещение в ней военнослужащих определено уставом гарнизонной и караульной службы. И проживание в помещениях кого-либо, кроме суточного караула и отбывающих дисциплинарные взыскания военнослужащих, не предусмотрено!
Урбонас молчал. Его взгляд был по-прежнему светлым и бесхитростным.
– Вам всё понятно? – поднявшись со стула, строго спросил Шаганов.
– Так точно! – по-уставному ответил прапорщик и изобразил строевую стойку.
– На переселение даю вам день! А об этом безобразии обязательно сообщу командиру!
Не сомневаясь, что его указания будут выполнены, Шаганов немного смягчил тон и уже у порога спросил:
– Кто сейчас содержится в 15-й камере?
Он сам не знал, почему задал этот вопрос, словно ему кто-то подсказал. В это время в голове сильно зашумело, и «келья» Урбонаса мгновенно наполнилась лёгкой дымкой. Мягкий голос прапорщика прозвучал откуда-то издалека:
– Ефрейтор Синяков, чертёжник из штаба. Ему подполковник Маланчук вчера объявил пять суток ареста.
– За что он наказан?
– В записке об аресте написано: «за нарушение Устава внутренней службы», а подробностей я не знаю. Это вам лучше у самого Маланчука спросить. – Прапорщик явно дерзил, но Шаганову сейчас было не до него. У двери «кельи» Урбонаса его терпеливо поджидал начальник караула. Лейтенант, не скрывая радости, выполнил просьбу подполковника о предоставлении доступа в 15-ю камеру.
Когда через минуту массивная серая дверь с чёрным глазком посередине бесшумно отворилась, первое, что увидел Шаганов, было крохотное зарешечённое окошко (намного меньше, чем в комнате старшины гауптвахты), находящееся под самым потолком в торце узкого полутёмного помещения. Арестант – молодой светловолосый человек, довольно рослый, сухощавый, в солдатской форме без ремня – при виде высокого гостя вытянулся в струнку и, как подобает арестованному военнослужащему, представился:
– Ефрейтор Синяков! Отбываю дисциплинарное наказание в виде пяти суток ареста за нарушение устава внутренней службы!
– И что же вы такого нарушили, что схлопотали пять суток? – поинтересовался Шаганов, посмотрев ефрейтору в глаза. Тот отвёл взгляд и уже не так бойко ответил:
– Распорядок дня я нарушил…
И вдруг грохнулся перед Шагановым на колени и тонким мальчишеским голосом завопил:
– Заберите меня отсюда! Прошу вас, заберите! Они убьют меня!
– Погоди, сынок, не понимаю я тебя, – подполковник попытался поднять Синякова, но тот оказался на удивление тяжёлым.
– Спасите! Умоляю! Они шепчут мне о смерти! Этот шёпот везде! Вы слышите его? Слышите? Я не хочу умирать! Спасите! Христом Богом молю!
– Что здесь происходит? – свой вопрос Шаганов адресовал всем, кто стоял за его спиной.
Когда он обернулся, часовой сделал шаг в сторону, словно уклоняясь от взгляда подполковника, а Урбонас, не сходя с места, смотрел куда-то вдаль, сквозь Шаганова и арестованного солдата, как будто видел там что-то более занимательное. Только начальник караула нисколько не смутился, услышав вопрос начальствующего лица, и, не скрывая улыбки, совершенно не соответствующей моменту, бодро доложил:
– Так 15-я камера же, товарищ подполковник! Здесь такое слышится, что мороз по коже и сердце в пятки!
Его щёки пылали ярким здоровым румянцем, а зубы сияли кристальной белизной. «Мальчишка», – подумал подполковник, но вслух прочеканил, стараясь придать голосу жёсткое железное звучание:
– Вы свои фантазии, товарищ лейтенант, приберегите для будущих мемуаров! А здесь извольте соблюдать требования устава!
Ему показалось странным, что улыбка с широкого лейтенантского лица не сошла, но блеск в глазах мгновенно погас, отчего губы улыбались как-то бессмысленно, даже глупо. Желая ускорить завершение этого балагана, Шаганов приказал:
– Солдата определить в медсанбат! Пусть там им занимаются! Его командирам сообщите, что так распорядился подполковник Шаганов, – и уже мягче, скорее, для проформы добавил: – Развели тут дом с привидениями.
– Это вы ещё про белую даму не слышали, – лейтенант по-прежнему улыбался, но последнюю фразу произнёс подчёркнуто печально, уже не надеясь заинтересовать строгого подполковника местными легендами. За такое неуёмное мальчишество Шаганову захотелось отчитать молодого офицера, но он через силу сдержался.
Перед уходом Алексей Васильевич сделал запись в постовой ведомости следующего содержания: «В связи со служебной необходимостью посетил помещение гарнизонной гауптвахты и ряд охраняемых объектов. Суточный караул службу несёт исправно. Рекомендовано госпитализировать содержащегося в 15-й камере ефрейтора Синякова. – Поставил жирную точку, но, немного поразмыслив, всё же добавил: – Замечание: в нарушение УГиКС[15] старшина гауптвахты прапорщик Урбонас проживает на её территории. Незамедлительно устранить».
Когда Алексей Васильевич покинул гауптвахту, солнце уже прощалось с полуденным зенитом и клонилось к верхушкам сосен за рекой. Лёгкий ветерок встретил Шаганова мягкой вечерней свежестью и немного остудил разгорячённое лицо. Жаркий туман, плотно укутывавший заполненную заботами голову во время нахождения в бывшем иезуитском храме, постепенно рассеялся, и с каждым шагом по уже знакомой извилистой тропинке мысли приобретали обычный размеренный ход и привычную ясность.
Подполковник думал о солдате из 15-й камеры, и внезапно возникшее чувство тревоги никак не желало его покидать. Ему было хорошо знакомо это предчувствие приближающихся неприятностей, тех, что упредить не в силах, потому что предусмотреть невозможно ту напасть, что задумана кем-то свыше для чего-то в данную минуту непонятного. Это состояние посещало его неоднократно и каждый раз приходило с осознанием бессилия перед чем-то неотвратимым.
Ещё он думал о странном старшине гауптвахты, человеке совсем не военной стати, больше смахивающем на блаженного, принявшего монашескую схиму. Он виделся ему неотъемлемой частью гауптвахты, вернее, её здания – бывшей обители иезуитов. Казалось, что он и есть один из тех, кто пришёл на эту землю более трёх столетий назад и остался надолго, выполняя какую-то тайную миссию. Во время своих спутанных, ещё не сформировавшихся в стройную схему размышлений Шаганов отчётливо почувствовал за спиной пронзающий его насквозь взгляд издалека. Невольно остановившись, он обернулся в сторону гауптвахты. С этого расстояния невозможно было рассмотреть её обитателей, но ощущение острого провожающего взгляда не исчезло. Подполковник был уверен, что из окошка своей «кельи» за ним наблюдает негласный хранитель традиций древних иезуитов Витас Урбонас.
Глава 7
Левон и Игнат
Я очами воображения вижу необозримые пылающие огни и души, словно заключённые в горящие тела.
Из «Духовных упражнений» Игнатия Лойолы
Бобруйск, 11 июня 1748 года
Старший монах Серафим – необъятно толстый, с красным, побитым оспой лицом и мутно-водянистым взглядом крохотных глазок под косматыми белёсыми бровями – умел превращать любой урок по богословию в томительную изощрённую пытку. За это ученики люто ненавидели его и пытались при любой возможности напакостить, чтобы хоть как-то отомстить за издевательства, которым Серафим подвергал всех без исключения, невзирая на возраст, сословие и даже заслуги перед орденом.
Сегодня монах был необычно суров, лу́ково-бражный смрад, исходивший от него, свидетельствовал о том, что Серафим уже с утра имел откровенную беседу с благоволившим к нему Бахусом. Ходили слухи, что по причине непомерного пьянства монаху отказали в удовлетворении прошения о повышении до настоятеля Виленского монастыря. Ничего хорошего школярам это не сулило. Серафим по долгу службы отвечал за образование, получаемое при монастыре, и вся власть над учениками школы, собранными из всех близлежащих губерний, была сосредоточена в его нечистых алчных руках.
– Кто знает назубок «Духовные упражнения»? – Серафим важно расхаживал в проходах между партами и зыркал ненавидящим взглядом по лицам мальчишек, выискивая первую на сегодня жертву.
Класс ответил ему гробовым молчанием.
– Неужто никто не знает?
Крупная волосатая рука монаха крепче сжала короткими толстыми пальцами небольшую деревянную палку, ежедневно применяемую для телесных наказаний «неразумных отпрысков неразумных родителей».
Полторы дюжины учеников склонили стриженые головы над тетрадками, делая вид, что усиленно повторяют домашнее задание. Когда Серафим готов был назвать имя кандидата на эшафот, в классе раздался громкий чих. Палка в руке монаха мгновенно упёрлась в хилую грудь долговязого Левона.
– Сам вызвался, дуралей, помоги тебе Господь.
А Левон снова не сдержался, хоть изо всех сил зажимал рот маленькой тощей ладошкой, и чихнул ещё громче.
Серафим оскалился беззубым ртом и неожиданно закричал:
– Глаголь упражнения, паршивец!
Мальчишка в поисках подсказок окинул испуганным взглядом класс, застегнул распахнутый ворот рубахи, затем снова его расстегнул и, опасливо покосившись на палку монаха, жалостливым тоненьким голосочком приступил к изложению ненавистных упражнений:
– Значится, так…
– Нет там таких слов! – взвизгнул Серафим и не сильно, но хлёстко ударил палкой по плечу Левона.
– Ой! Я не это хотел сказать! – И снова удар палкой по спине, на этот раз гораздо сильнее.
Молча глотая слёзы, Левон сцепил ладони на груди, насколько мог, унял нервную дрожь в теле и, закатив глаза к потолку, произнёс первую строку:
– Я очами воображения вижу необозримые пылающие огни… пылающие огни, – палка занеслась над его головой, в ожидании удара мальчишка втянул голову в плечи и, проглотив застрявший в горле тяжёлый ком, продолжил: – Огни и души, словно заключённые в горящие тела…
Палка медленно опустилась, а мальчишка словно окаменел. Он был больше не в силах произнести хоть слово, и в этот момент чуткое ухо Серафима уловило тихий шёпот с соседней парты:
– Я ушами воображения слышу плач, вой, крик, богохульство… – шептал ему русоголовый конопатый мальчишка за соседней партой.
Палка жёстко упёрлась в грудь подсказчика.
– Так ты лучше его знаешь? Почему же руку не тянешь, остолоп?!
Мальчишка вскочил из-за парты и преданно уставился на монаха.
Серафим любил такую ретивость, и на его толстых губах появилась самодовольная усмешка:
– Давай, Игнат, глаголь. Ежели правильно всё скажешь, то получишь только пять палок за подсказку, а Левон – десять за невыученный урок.
– …богохульство против нашего Господа Христа и против всех его святых, – продолжил Игнат.
Монах удовлетворённо кивнул, да так, что двойной подбородок задрожал, как студень, но палку не опустил.
– Я обаянием воображения…
– Хватит!!! Тупица!!! – заорал Серафим. – Нет в «Духовных упражнениях» слова «обаянием»! Изложено там слово «обонянием»!
Через минуту разложенные животами книзу на своих же лавках за партами Левон и Игнат получили десять палочных ударов каждый по обнажённым ягодицам. Игнат принял наказание, смиренно стиснув зубы. На теле Левона ещё не зажили рубцы от недавней экзекуции, и он орал что есть сил, стараясь хоть криком досадить проклятому истязателю, но это лишь доставляло удовольствие Серафиму и всему классу.
После обедни, когда ученики школы от мала до велика, «дабы не морило чад неразумных в зряшную дремоту», трудились на огромном огороде при монастыре, Левон затащил Игната на их тайное место за конюшнями, где сохли под солнцем кучи конского навоза, и, заговорщицки поглядывая по сторонам, жарко задышал в лицо товарищу ядрёным чесночным духом:
– Ненавижу! Ненавижу эту жирную свинью!
Игнату показалось, что друг говорит чересчур громко, и попытался его утихомирить:
– Тишей, Левон, донесут ведь…
– Да всё равно мне уж! Подозреёт он меня, – ответил Левон, но всё же, оглядевшись по сторонам, придвинулся к Игнату вплотную.
– В чём подозреёт? – не понял Игнат.
– Не твоей башки дело, – опомнился Левон и больно ткнул его кулаком в грудь, – не ходи за мной боле, держись в стороне, а то быть беде…
Из дневника поручика Петра Аркадьевича Перова
Бобруйск, 30 апреля 1828 года
Штабс-капитан Ланевский Андрей Никитович, верный мой друг, сотоварищ по службе и арестантской муке, на глазах моих сгорает в палящем тифозном огне. Лечение, назначенное тюремным фельдшером Марковичем (имя его я не ведаю, да и по имени его никто не зовёт), совершенно бесполезно. Молю Спасителя нашего, чтобы даровал Андрею скорейшее избавление от этих адских и несправедливых мук.
В редкие моменты просветления между тяжкими приступами бреда он жадно пьёт поднесённую воду и пылко, не как обычно, говорит со мной. Тогда ему хоть на чуток становится легче. Это видать по ясному взору его и благостной, уже неземной улыбке.
«Я сделал единственно верный выбор и нисколько о том не жалею», – как-то с виду беспричинно произнёс он, глядя сквозь потолок. Мне была понятна его мысль. Я постарался поддержать моего умирающего товарища, заверив, что и сам в своём выборе не раскаиваюсь.
Это была ложь! Да простит меня Бог… На самом деле я горько сожалел о совершённом! Каждый раз, когда думал об этом, становилось больно от мысли, что у меня был выбор и можно было поступить по-другому, ведь никто не принуждал. Я лишь знал о существовании некоего Южного общества, даже подозревал в членстве в нём офицеров Повало-Швейковского, Норова и даже командира полка Василия Карловича Тизенгаузена[16]. Он спросил меня как-то: «Вы с нами? Или остаётесь в числе безразличных к судьбе Отечества?» У меня не хватило смелости ответить «нет».
Потом уже на следствии, когда мне предложили рассказать, когда и от кого известно стало о намерении покуситься на честь и трон государя-императора в 1823 году во время бытности его в Бобруйске, я не стал таить имени командира, полагая, что, если покушения не случилось, значит, и раскаиваться не в чем. Однако, когда следователь спросил, жалею ли я о выборе, сделанном в пользу заговорщиков, ответил, что весьма жалею. И тогда это была сущая правда! Как и то, что, если бы солдаты Василия Норова, караулившие покои императора, совершили его пленение, я гордился бы причастностью к этому великому делу. Увы, побеждённые всегда жалеют о позорном проигрыше! Жалеют, потому что при имеющемся праве выбирать допустили роковую ошибку и избрали неверный путь.
Глава 8
Глубина! Глубина! Назови нам имена
Творческая фантазия Алексея Васильевича по своему необычайному размаху и насыщенному колориту не уступала писательскому воображению его талантливого брата, а может, даже превосходила. Иногда это мешало сосредоточиться на технических мелочах какого-либо важного дела, но чаще помогало выстроить логическую цепочку расследуемых событий и нарисовать для себя их вероятный исход. И сейчас, когда он, следуя по направлению к реке, посмотрел на неприглядное здание гауптвахты, воображение нарисовало не серый бесформенный дом с чёрными зарешечёнными окнами, а сияющее на солнце цветной слюдой окон, простирающееся стройными шпилями в небесную высь воплощение замысла даровитого архитектора. Просторный двор с многочисленными хозяйственными постройками и гармонично вписывающимся в общую картину монастырём был заполнен людьми в неярких одеждах, занятых повседневными заботами. В глаза бросилась пара мальчишек, удобно расположившихся на траве у глухой бревенчатой стены большой конюшни. Они о чём-то оживлённо беседовали. Тот, что был выше ростом и с виду постарше, в запале постоянно пихал товарища в плечо, но того совершенно не расстраивало это, дружелюбная улыбка не сходила с его веснушчатого лица. И показались мальчуганы Шаганову очень знакомыми, даже чем-то близкими. Это странное ощущение не отпускало подполковника, пока он не заставил себя развернуться и продолжить путь к реке по извилистой, с крутым уклоном тропинке.
Березина приветливо встретила его сверкающими солнечными бликами и завораживающим взгляд потоком быстрой воды. Казалось, что это не водяная рябь, струящаяся между зеленеющими ивами берегами, а большое сияющее зеркало, отражающее солнечный свет и превращающее его в живое пространство, зажжённое случайно упавшей с неба искрой.
На маленьком жёлтом пляжике, на расстеленном цветастом покрывале возлежала дородная курчавая женщина в ярко-алом купальнике в белый горох, широкополой соломенной шляпе и тёмных очках с большими круглыми окулярами. Дама внимательно читала толстую книгу, бережно обёрнутую в газету, при этом раз за разом поглядывала на воду, где в шаге от берега плескался такой же упитанный и курчавый мальчик лет шести-семи. Послюнявив указательный палец с ярким маникюром, женщина перелистнула очередную страницу и, бросив строгий взгляд на ребёнка, колоратурным сопрано крикнула:
– Боря! Ты стал синим, как цыплёнок тёти Хаи на базаре! Беги ко мне скушать котлетку!
Боря усиленно делал вид, что не слышит, и продолжал наслаждаться купанием.
– Боря, если ты не слышишь маму, то послушай, что тебе урчит твой голодный живот! – не сдавалась она, но и этот крик души Боря «не услышал».
Шаганов улыбнулся этой милой «репризе» и переключил внимание на реку. Он разулся, закатал штанины, снял галстук и расстегнул ворот рубахи. Жёсткая свежескошенная трава приятно покалывала босые ступни. Алексей с удовольствием потоптался на месте и присел на большой округлый валун, отшлифованный до гладкости ветром и нагретый до стойкого жара летним солнцем.
Вот она, Березина! Не широкая, в отличие от Днепра или Волги, но быстрая и полноводная. Кормилица бобруйчан и помощница в делах хозяйских и фабричных. Без неё трудно представить Бобруйск.
Шаганов с досадой вспомнил, что за два года службы в Бобруйском гарнизоне он ни разу не выбрался на любимую рыбалку. А рыбалка здесь – мечта любого уважающего себя рыболова! Он хорошо знал об этом по рассказам сослуживцев – бывалых рыбаков. «Лёша, если вы ещё не ели местного судака, то спешите это безотлагательно сделать, иначе жизнь проживёте зря», – советовал ему пожилой мудрый сосед, известный всему многоквартирному дому как дядя Изя. И Шаганов обещал этому уважаемому человеку обязательно совершить акт поедания березинского судака. А дядя Изя, благодарно реагируя на обещание, говорил: «Спешите, спешите, Лёша! Вода в Березине с каждым годом теряет свои волшебные свойства! Люди бессовестно уничтожают это данное Богом сокровище!»
«Эх, Алексей Васильевич, жаль, что тебя с нами вчера не было! – сокрушался после очередной рыбалки командир части полковник Терентьев. – В Паричах на спиннинг прямо с берега пять щучек вытянул, и все одна в одну – по три кило каждая».
Шаганов знал, что щука в Березине ловится повсеместно, а ещё знал, что здесь водятся плотва и окунь, лещ и линь, чехонь и карась. А спиннингом, даже кидая блесну с берега, можно выудить и судака, и сома, и жереха.
И сейчас он с безвредной завистью поглядывал в сторону проплывающих мимо моторок с местными любителями рыбной ловли. Пообещав себе посвятить неделю отпуска рыбалке, он вернулся мыслями к делу, которое привело его сюда, к подножию старинной цитадели, краснеющей кирпичной кладкой на высоком речном берегу.
Крепость осталась за спиной, но, даже не видя её, он ощущал близость и надёжность её бастионов и равелинов. Сколько за полтора века здесь произошло важных исторических событий, сколько человеческих судеб переплелось, сколько человеческой крови, слёз и пота пролилось на этом мизерном по меркам планеты кусочке суши? Казалось, что каждая песчинка у подножия цитадели хранит эту многостраничную память о защитниках времён наполеоновского нашествия, офицерах-декабристах Южного общества, дерзнувших в помыслах своих покуситься на царскую власть, нацистском лагере смерти, поглотившем в своём ненасытном жерле многие невинные жизни.
Погружённый в размышления Шаганов не заметил, как прибрежная вода у пляжа буквально закипела от неожиданного нашествия семи-восьми местных мальчишек с бронзовым индейским загаром и обесцвеченными жарким июньским солнцем шевелюрами. Эта визжащая и смеющаяся толпа бурно наслаждалась благами лета – бодрящей душу и тело березинской водой и добрым солнцем, ласкающим своими тёплыми прикосновениями нежную детскую кожу.
Мальчишки, подобно стайке утят-желторотиков, барахтались в прибрежной янтарной воде. Шаганов невольно зацепился взглядом за эту шумную ватагу и с радостью наблюдал за невинным озорством форштадтской пацанвы. А мальчуганы, удивительно похожие друг на друга, как родные братья, самозабвенно предавались весёлой забаве, не замечая зоркого берегового дозорного. Следуя каким-то только им известным правилам, они по очереди прыгали в воду, соревнуясь в продолжительности нырка. Через какое-то время Шаганов распознал в этом с виду бессмысленном занятии незамысловатую систему, похожую на игру. Да! Это была самая настоящая игра на выбывание!
Осторожно, чтобы не спугнуть «утиную стайку», он спустился к самой кромке воды и присел в тени густой, покорно склонённой над рекой ивы. Отсюда игра была видна как на ладони. К тому же подполковник хорошо слышал озорные мальчишечьи голоса и быстро понял правила забавы.
– Глубина! Глубина! Назови нам имена! – хором горланили пацаны в то время, когда один из них сидел на дне, звучно заглотив солидную порцию воздуха перед погружением. С последним словом ныряльщик выпрыгивал и что есть силы орал: «Толик!» И названный Толиком в тот же миг исчезал в подводном царстве, чтобы через несколько секунд так же зависнуть над водной гладью с криком: «Алик!» И наставала очередь Алика сидеть под водой. Хитрость заключалась в том, что с каждым погружением стишок повторялся на раз больше предыдущего: два раза, три раза, четыре и так далее. Ныряльщики один за другим выбывали из игры, и в её финале в воде остались только двое, по очереди загонявшие друг друга в глубину. Победил коренастый круглолицый паренёк. Когда он гордо стоял по грудь в воде, запрокинув лицо с широкой улыбкой победителя навстречу солнечным лучам, проигравший соперник визгливо закричал: «Жук навозный! Жук навозный! Угодил в сортир колхозный!» Затем обидчик стремительно поплыл к берегу, где уже одевались его белобрысые товарищи.
Оставшийся в воде парень не спешил возвращаться. Когда друзья со смехом и прибаутками умчались в сторону Форштадта, он поплыл к берегу, рассекая воду сильными красивыми гребками. Выбравшись на сушу у тенистой ивы, где сидел Шаганов, попрыгал на левой и правой ногах, стрясая на траву невидимые капли из ушей, потом, не стесняясь чужака, снял и тщательно выжал простенькие чёрные плавки, а затем быстро облачился в белую безразмерную футболку и серые широкие шорты.
– Это тебя жуком навозным дразнили? – спросил его Алексей Васильевич.
Паренёк даже не взглянул на него, но на вопрос по-взрослому ответил:
– Меня, а кого ж ещё?
– Почему же не проучил обидчика? Ты ж вроде покрепче его будешь?
В детстве Шаганов, в отличие от своего брата-близнеца, никому и никогда не прощал обид и на оскорбления немедленно отвечал крепкими натренированными кулаками.
– А я и есть Жук, фамилия моя такая. А навозный, потому что мы с батей свой огород навозом удобряем. Что в этом обидного? Навоз же не дерьмо! Только дураки навоз дерьмом называют.
Паренёк запрыгнул в резиновые вьетнамки и гордо прошествовал мимо, по-прежнему не глядя на подполковника. Уже минуя иву, малец оглянулся на «любопытного дяденьку», окинул его васильковым взглядом и произнёс неожиданное:
– Дерьмо… оно ведь не на земле. Оно в душах человеческих. Так батя говорит…
Эти слова Шаганов уже слышал от прапорщика Жука, а в широкой улыбке мальчишки от уха до уха Алексей Васильевич узнал дядю Пашу.
Подполковника приятно удивила рассудительность совсем ещё юного парня. Желая продолжить разговор, он похвалил мальца:
– Поздравляю с победой! Ловко ты в «Глубину» играешь.
– Разве ж это глубина?! – усмехнулся паренёк. – Вот мы с батей глубину видывали! И притом даже стоп не замочили. Настоящая глубина! Вам такая и не снилась!
Сначала не узнанный Шагановым сильно подросший за последнее время сын прапорщика Жука ловко забежал на горку по тропинке и исчез в густых сочно-зелёных зарослях. А в голове всё ещё звучало мальчишечье звонкое: «Глубина! Глубина! Назови нам имена».
Догадка, как всегда, родилась внутри неожиданно. «Глубина! Вот что надо было похитителю карты! Вернее, не одна глубина, а глубины на этом изогнутом участке Березины! Как же я сразу не догадался!» Словно в один миг сбросив тяжёлое бремя накопившейся усталости, Шаганов бодро спрыгнул с насиженного места и направился по извилистой тропинке, ведущей вдоль обрывистого берега вверх, к крепости. За спиной он услышал уже знакомое: «Боря, иди скушай котлетку!»
Не успел Алексей Васильевич отдышаться после крутого подъёма, как нос к носу столкнулся со своим заместителем. Майор был без головного убора и в чёрном сильно замаранном танковом комбинезоне.
– Что за вид, товарищ майор? – строго спросил Шаганов. – Вы будто только что из танка вылезли!
– Не из танка, товарищ подполковник, а из подземелья! – бодро отчеканил Михайлов. – Вы же мне сами приказали, вот я и…
– Помню, – подполковник Шаганов не любил, когда ему пытались указывать, поэтому прервал майора: – И что там под землёй, кроме царства дяди Паши?
– А там, Алексей Васильевич, по оперативной информации, целый подземный город с улицами, переулками, тупиками и обособленными помещениями. Если взяться его подробно изучать, то полжизни не хватит. И даже при наличии желания для этого понадобится схема подземных коммуникаций крепости.
– По-моему, вы переключились на негодный объект. Подземный город нам ни к чему, – назидательным тоном говорил Шаганов (в душе он был очень доволен своей недавней догадкой, но при общении с подчинённым постарался быть максимально сдержанным). – Кажется, завтра карта будет у нас, а заодно и сам похититель. Я ещё не уверен, что знаю, зачем ему понадобилось исследовать русло реки именно в этом месте, но надеюсь услышать это от него лично.
