Русские не сдаются. Жизнь за Россию
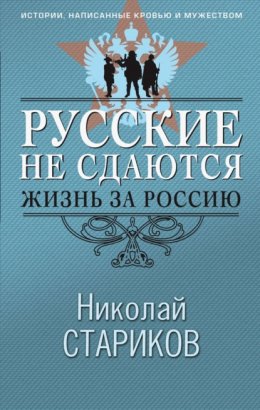
Автор выражает благодарность
Анатолию Михайловичу Балушкину
за помощь в написании этой книги.
Вместо предисловия
Будущее – это всегда идеи. Вчера они сначала возникли в чьей-то голове, потом появились на бумаге, сегодня прочно засели в сознании элиты, а завтра они станут основой будущего. Завтра они станут настоящим.
Вот почему будущее всегда вокруг нас. В виде идей – будущее всегда с нами, нужно только уметь его увидеть. Для понимания будущего гуманистам и философам начала XX века нужно было просто оглядеться вокруг и внимательно перечитать заголовки газет о уже прошедших войнах и кризисах.
Человечество придумало даже целую сферу мысли. Это – футурология. Анализируя перспективы внедрения новых технологий, футурологи пытаются спрогнозировать глобальные изменения в образе жизни человечества. Принцип такой: что будет изобретено, что внедрят, в какую сторону повернет технический прогресс, таким и будет будущее.
Это ошибка. Будущее определяется вовсе не техническими возможностями человека, а теми целями, которые перед собой ставят те, кто управляет и направляет развитие цивилизации. Иначе говоря, главное не ЧЕМ и КАК, а ЗАЧЕМ и РАДИ ЧЕГО!
Футурологи ждут будущего, о нем думают, для него работают и его пытаются предугадать, оно наступает, и оно всегда иное. Люди конца XIX – начала XX века думали, что будущее будет наполнено техническим прогрессом и гуманизмом. Для тех, кто следит только за техническим прогрессом, оставляя за скобками ИДЕИ, будущее всегда наступает неожиданно! Вроде как для тех, кто не заметил создания марксистского учения, приход большевиков к власти в России был удивителен и невероятен.
Одним из тех, кто активно размышлял о будущем, старался его анализировать, был великий русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев. Будучи специалистом в точных науках («физиком»), великий химик не был гуманитарием («лириком») и плохо разбирался в отвлеченных материях околополитических терминов. Менделеев ошибочно представлял себе движущие силы мирового развития, определяя прогресс человечества как нечто объективное, неизменное и обязательное. «Причину перемен, наступивших в мире, нельзя приписать ничему иному, как распространению во всем человечестве того, что называется гуманностью, – писал Дмитрий Иванович, ожидая от будущего только положительного – или человечностью, того, что содержится в понятиях современных реалистов о возможности избежать войн…»[1]
Все это писалось им в 1905 году, когда до страшнейших потрясений в человеческой истории оставалось совсем рукой подать. Меньше чем через десятилетие начнется Великая война[2], в ходе которой потери будут такими, каких человечество еще не видело. Технический прогресс сыграл с людьми злую шутку: артиллерия в невиданных ранее количествах, война в воздухе (дирижабли и самолеты), танки. А еще пулеметы, которые буквально выкашивали атакующих тысячами. Но и это еще не все «новинки», с которыми столкнулись солдаты на фронте в период Первой мировой войны.
21 февраля 1916 года германская армия начала наступление под французской крепостью Верден, которое вошло в историю как «Верденская мясорубка». На участке шириной всего 12 км 946 немецких орудий 10 часов подряд смешивали оборону противника с землей, стирая с лица земли окопы, блиндажи и проволочные заграждения. Справедливости ради скажем, что не только Д. И. Менделеев не мог представить себе подобного масштаба войны, но и штабы противоборствующих сторон оказались не готовы к поистине Мировой войне с применением самых последних новинок «прогресса». Идя в атаку, германская армия применила нечто, что было бы принципиально интересно для великого русского химика, не уйди он из жизни в 1907 году.
В первый же день своего наступления под Верденом немцы применили газы, во второй – огнеметы, которые тогда были новым средством уничтожения людей. Поэтому многие солдаты во французских укреплениях были неожиданно для них просто сожжены заживо.
Однако битва под Верденом запомнилась человечеству не огнеметами, не минами и даже не газами. И не удивительной переброской войск десятками тысяч к линии фронта на автомобилях, в том числе парижских такси. Верден вошел в историю как символ огромного числа жертв! С февраля по декабрь 1916 года здесь полегло около 1 млн человек. Разнится соотношение потерь между противоборствующими сторонами, но в целом эту страшную цифру не оспаривает никто.
А ведь еще были массовые разрушения в Европе, налеты дирижаблей на мирные города. Впереди были Гражданская война в России, голод, холод, эпидемия тифа и испанки. Жестокость, расстрелы, зверства. Потом небольшой перерыв, и все повторилось снова в гораздо больших масштабах во Второй мировой войне.
Будущее уже наступило – но этого никто никогда не знает и так не думает. Будущее всегда есть в настоящем. Будущее никогда не появляется из ниоткуда. А раз оно всегда есть в нашей текущей жизни, то будущее всегда можно заметить, увидеть и… даже постараться избежать.
Но для этого нужно знать прошлое. Это ведь так просто: хочешь знать будущее – узнай прошлое, и тогда ты сможешь с его помощью влиять на будущее! А что такое прошлое?
Прошлое – это те герои, подвиг и деяния которых мы хотели бы видеть в будущем! Это их слава, их героические поступки, пример их жизни. Их память и уроки того, что уже однажды произошло и никогда больше не должно повториться. Ведь рядом с подвигом одного всегда будет малодушие, предательство и мздоимство других.
Узнаем своих героев – узнаем будущее нашей страны!
И ведь не сказать, что те, о ком мы будем рассказывать, неизвестны. Но их не знают, даже когда им стоит памятник, а некоторым из них его и вовсе нет, а должен быть обязательно.
Вперед, дорогой читатель, в будущее!
То есть – в прошлое.
Где все уже было. Были враги, была задача и была Победа!
Был мрак, и он был ими побежден.
Нашими героями.
Глава 1
Александр Иванович Казарский – потомству в пример
С 20 пушками, не более, он дрался против 220 в виду неприятельского флота бывшего у него на ветре.
Один из штурмановтурецкого флагмана «Реал-бей»о подвиге брига «Меркурий»
Я – первый слуга России, вам, генералам, надлежит быть вторыми, в противном случае – в Сибирь!
Император Николай I
Имя корабля истории очень часто известнее имени его командира. Убедиться в этом несложно. Если вы не моряк, военный или штатский, то несколько героических и легендарных кораблей русского флота вы все равно назовете. Крейсер «Варяг», крейсер «Аврора». А как звали их командиров, чья воля и действия вели эти корабли в бессмертие и сделали частью истории?[3] Ответят единицы. Еще меньше людей вспомнят бриг «Меркурий», что стал гордостью и примером для многих поколений русских моряков. А уж фамилию Александра Ивановича Казарского, командовавшего этим судном в середине мая 1829 года, назовут только очень большие специалисты.
А ведь подвиг брига «Меркурий» и его командира вовсе не забыт. Великолепный памятник стоит в центре Севастополя, и корабль с таким названием почти всегда был в составе русского флота. Но – не помнят и не знают.
Бриг «Меркурий» – это тот, кто заложил традицию, которую сегодня в России знает каждый: русские не сдаются. Не сдаются они на суше, не сдаются они на море. И не важно, что соотношение сил настолько не равно, что противник и понять не может, зачем же сопротивляться и умирать, почему русские солдаты и офицеры в большинстве случаев выбирали героическую гибель, а не пленение.
Бриг «Меркурий» и его подвиг прекрасны тем, что это «Варяг», который выиграл бой. Это тот, кто не сдался, но при этом победил и остался жив. В ситуации, когда победить, казалось бы, просто невозможно.
Но обо всем по порядку.
Россия воевала с Турцией в своей истории 12 раз. Бог даст, на этом число этих войн и останется без умножения. В XIX веке первая в этом веке русско-турецкая война закончилась буквально за несколько дней до нашествия Наполеона. По иронии судьбы разбил турок тот, кто потом сокрушит Великую армию Бонапарта: Михаил Илларионович Кутузов красивым маневром разгромил турецкую армию при Рущуке, и османы подписали мирный договор. Войну на два фронта навязать России не получилось.
Следующая по счету русско-турецкая война началась через 15 лет. Ее смысл очень созвучен сегодняшнему дню: Великобритания и Россия оспаривали друг у друга право быть сильнейшей империей мира. С той разницей, что, декларируя одни и те же цели, на самом деле две страны стремились к противоположному. Россия, еще со времен Екатерины Великой, поставила себе цель восстановить Византийскую империю. Москва же – Третий Рим, а Четвертому не бывать. Но восстанавливать «бабушка Екатерина» собиралась не абстрактное греческое царство с опорой на античность, а расширять вполне себе конкретную Российскую империю на бывшие территории Восточной Римской империи, на которых в то время была империя Османская.
И тут все складывалось почти идеально: Россия – православная держава, самая сильная и мощная. Поэтому она должна защищать православных везде, где они живут и где их притесняют. А реально защищая и часто спасая христианские души, российский император или императрица получали право на экспансию туда, где и от кого православных надо защищать. СССР боролся за права трудящихся всего мира, современные США декларируют защиту демократии, но все это лишь предлоги для красиво обоснованной внешней экспансии. И не надо этого стесняться. Добро всегда должно быть с кулаками и всегда должно быть с идеей, которая объясняет, почему применение этого кулака правильно и безальтернативно.
Эту хитрую игру Петербурга прекрасно понимали в Лондоне, но, будучи на тот момент неспособными придумать свою, взяли и позаимствовали нашу. Только несколько иначе ее применяя. На протяжении XVIII века англичане и французы старались сдержать российскую экспансию, которая и так «выпрыгнула» из Московского сугубо сухопутного царства и прямо на глазах превратилась в Российскую империю с мощным флотом. Проливы Босфор и Дарданеллы преграждали русскому флоту путь в Средиземное море и Мировой океан естественным путем. Это была самая настоящая пробка, а проливы – бутылочная горловина. Такой ситуация остается и до сих пор.
Для строительства новой Византийской (она же Российская империя) немка по крови, но русская по духу Екатерина II не только придумала Греческий проект, но давала имена своим внукам. Отсюда Александр и отсюда же Константин – имена греческие и не простые. С отсылом к Александру Македонскому и императору Константину, который сделал христианство официальной религией Рима, а Византию – центром восточной части Римской империи. Два имени бабушка посчитала достаточным для дела, и потому третий сын Павла получил имя Николай. Вряд ли ему быть на троне! Но именно ему, императору Николаю I, взошедшему на престол в декабре 1825 года, и пришлось воплощать в жизнь Греческий проект. Греция должна получить независимость от Османской империи, стать как православная страна верным партнером России. Восстановление Византийской (Греческой) империи должно увлечь греков под российские знамена и навсегда привязать к Москве. А уж на троне Российской (и Византийской тоже!) будет русский царь – и кто тогда будет ему равным в мире?
Понимая игру Петербурга и не имея более возможности путем помощи туркам сдерживать Россию, считая идеологически невозможным выступать против получения Грецией независимости, Лондон решает тоже начать бороться за греческую свободу. Чтобы самому контролировать греческое государство и не дать ему стать частью русской зоны влияния. И вот уже двое заклятых врагов плюс Франция вместе борются «за свободу греков»[4]. 11 апреля 1827 года правителем – президентом – Греции на семь лет народ выбирает графа Иоанниса Каподистрию. Пикантная подробность: шесть лет до этого грек Каподистрия был министром иностранных дел Российской империи. Это как сегодня правителем другой страны выбрали бы Сергея Викторовича Лаврова. Ясно же, что никакого российского влияния в ней не будет! Вам же это ясно? Вот и англичанам все было понятно. Поэтому через очень короткий срок Каподистрия был застрелен в городе Навплии двумя братьями Мавромихалисами. Смерть графа «закупорила» России выход в Средиземноморье, потому что далее англичане навязали грекам монархию с иностранной династией, которая оказалась (о чудо!) пробританской. 3 февраля 1830 года в Лондоне был принят Лондонский протокол, по которому Стамбул официально признавал независимость греческого государства, получившего название Королевство Греция[5].
Но это еще только будет, пока же Петербург и Лондон вместе принуждали Константинополь-Стамбул дать грекам вольную, надеясь перехитрить и переиграть друг друга. В 1821 году в Греции началось восстание, превратившееся в полномасштабную войну за независимость. Помогать грекам становилось модным и даже обязательным. Знаменитый английский поэт Джордж Байрон не только передал свое имущество в помощь грекам, но даже сам отправился в Грецию, чтобы помочь объединению отрядов повстанцев. Где заболел и впоследствии умер, но какая же этому делу придана романтика!
Летом 1826 года в Лондоне был подписан договор: Россия, Англия и Франция договаривались помочь борьбе греков за независимость. Обращает на себя внимание дата его подписания только что провалилось восстание декабристов, корни которого уходили за границу, в масонские ложи, в Великобританию. Это обычный способ «работы» англичан: не получилось устранить Российскую империю путем организации смуты – подпишем договор и постараемся задушить в объятиях. Вывод напрашивается очень простой: не важно, что там себе думали рядовые участники восстания декабристов, но результат их действий должен был помочь Великобритании получить контроль над Грецией, что означало сохранение контроля над морскими путями и недопущение выхода русских в Мировой океан. Чистая геополитика. Мятеж в столице, убийство государя, смута и хаос, и русским уже не до Турции и греков. Ничего этого не получилось – но ведь попытаться стоило, не правда ли?
В июле 1827 года была подписана Лондонская конвенция, которая предусматривала коллективные действия ее подписантов в отношении Османской империи, чтобы принудить ее прекратить военные действия против греков и предоставить Греции автономию. Султан Махмуд II отвергает давление ведущих держав того времени, тогда Россия, Англия и Франция посылают свой флот. В Наваринской бухте Ионического моря турки собирают свой под командованием Мухаррем-бея.
А дальше произошла непредвиденная трагедия – для англичан. За один день 8 (20) октября 1827 года в этой Наваринской бухте османский флот был уничтожен. Шестьдесят лучших кораблей были сожжены, потоплены или захвачены. При этом в то время английский флот был сильнейшим в мире, а значит, от его поведения зависел и исход боя. Тем более что командовал объединенным флотом трех стран британский вице-адмирал Эдвард Кодрингтон[6]. Ему нужно было просто проучить турок, сделать их сговорчивыми и выставить в итоге Британию в виде главного и лучшего друга греков. Получив такие инструкции, Кодрингтон и начал их выполнять. Вместо атаки турецкого флота вице-адмирал послал к ним для переговоров британского офицера. Турки лейтенанта Фиц-Роя просто-напросто застрелили. Памятуя об инструкциях, английский вице-адмирал отправил второго парламентера, но турки застрелили и его, а параллельно с этим открыли артиллерийский огонь по союзной эскадре. Тут уже с чувством выполненного дипломатического долга адмирал Кодрингтон, воевавший еще в Трафальгарской битве, отдал приказ турок атаковать! Вследствие этого и произошло полное уничтожение турецкого флота, а главным героем состоявшейся битвы стал флагман русской эскадры – 74-пушечный парусный линейный корабль «Азов»[7].
Но победа есть победа, а победителей, как известно, не судят. Российский император Николай I наградил Эдварда Кодрингтона за Наваринскую победу орденом Св. Георгия 2-й степени. В письме ему царь писал: «Вы одержали победу, за которую цивилизованная Европа должна быть вам вдвойне признательна…» Но «цивилизованная Европа» в лице английского короля Георга IV, награждая своего адмирала орденом Бани, лишь горько усмехнулась. Историки оставляют нам два варианта записи короля на полях документа о награждении: «Кодрингтона следовало бы повесить, но придется наградить его орденом» («Я посылаю ему ленту, хотя он заслуживает веревки»).
Как пишут историки, после Наваринского сражения разногласия между европейскими державами только усилились, и Лондон с Парижем вдруг вышли из борьбы против турок. Турки не дают русским выходить в Мировой океан, поэтому разбивать Османскую империю, чтобы ее осколки подобрал Петербург, англичане не хотели. Британцы и французы оставляют Николая I один на один с турками, план таков: турки разобьют русских, русские ослабят турок, а потом англичане продиктуют свою волю и тем и другим.
Чтобы видеть всю картину целиком, нужно помнить, что в этот момент шла еще и русско-персидская война. Она началась в 1826 году по подстрекательству англичан, и когда Россия в коалиции с Лондоном и Парижем пыталась давить на турок, то Николай I вовсе не собирался полномасштабно воевать с турками один на один. Но – пришлось.
Через два месяца после Наваринского разгрома, 27 декабря 1827 года, султан Махмуд II обратился с воззванием к своим подданным, в котором заявлял, что Россия золотом и коварством устроила восстание в Греции и является главным врагом. Стамбул объявил себя свободным от всех обязательств в отношении Петербурга, отказался признавать Аккерманскую конвенцию[8], чего без гарантий невмешательства Англии и Франции султан сделать бы не рискнул. После чего султан закрыл для русских кораблей Босфорский пролив и призвал правоверных быть готовыми к священной войне. Закрытые для русских судов турецкие проливы означали не просто дерзкий вызов и отказ от обязательств, но и экономическую блокаду, и попытку разрушения русской внешней торговли.
Тут британский план впервые дал осечку: Россия как-то очень быстро и победоносно закончила войну с персами – 10 февраля 1828 года Персия усилиями Грибоедова (того самого!) подписала Туркманчайский трактат о мире, и Петербург получил свободу рук. Уже 26 апреля 1828 года в Санкт-Петербурге было обнародовано два Высочайших Манифеста. Царь объявлял войну Османской империи и оповещал о чрезвычайном рекрутском наборе – по два человека с 500 душ. Заканчивался он словами: «Государь Император предпринимает сию войну для необходимого охранения трактатов, нарушенных и как бы не признаваемых Портой… Россия, вопреки разглагольствованиям Порты, не имеет ненависти к сей державе и не умышляет ее разрушения».
Русская армия перешла границу и быстро установила контроль над территорией вассальных по отношению к Османской империи Дунайских княжеств. Что такое Дунайские княжества? Это общее название княжеств Валахии и Молдавии, возникших в XIV веке[9]. Далее была взята Варна, на Кавказе русские войска взяли под контроль крепость Карс. Но вскоре нашу армию начала выкашивать эпидемия холеры, что резко ослабило боеспособность войск. В конце 1828 года одна российская эскадра заблокировала пролив Дарданеллы и турецкую столицу Константинополь со стороны Средиземного моря, а другая – еще и со стороны Черного, таким образом обложив османов с двух сторон.
Весной 1829 года наступала решающая кампания этой войны. Вот и настало нашему герою выходить на сцену. Александр Иванович Казарский родился 16 июня 1798 года в местечке Дубровно на территории современной Белоруссии, а тогда – Витебской губернии Российской империи. Начнем прямо с фамилии: произношение и написание многих сегодняшних фамилий еще 200 лет назад допускало варианты. Вот и фамилия нашего героя иногда звучала иначе, через «о»: Ко́зарский[10]. Но в историю России он вошел именно в таком написании: Казарский! Семья Казарских, отставного губернского секретаря Ивана Кузьмича и его супруги Татьяны Гавриловны, управляла имением князя Любомирского. Детей было пятеро: Прасковья, Екатерина, Матрена, Александр и Иван. Саша Казарский окончил церковно-приходскую школу.
В 1808 году к Казарскому-отцу приехал его двоюродный брат Василий Семенович Казарский, недавно назначенный на чиновничью должность в одном из управлений Черноморского флота. Предложение дяди отправить двоюродного племянника в Николаев[11] и там определить в Черноморское штурманское училище попало на благодатную почву. Родители были «за», хотел этого и сам 10-летний подросток. Ведь традиции службы на флоте в семье Казарских были сильны: дед нашего героя Кузьма Иванович Казарский служил и сражался на Черноморском флоте в лейтенантском чине еще в золотой век Екатерины Великой. Биографы Казарского подчеркивают, что, прощаясь с сыном, отец Иван Кузьмич сказал ему: «Честное имя, Саша, это единственное, что оставлю тебе в наследство». А. И. Казарский это напутствие отца услышал!
Через пять лет, 30 августа 1813 года, волонтер Александр Казарский был записан в Черноморский флот гардемарином[12]. Еще через год получил производство в свой первый офицерский чин. Он послужил на бригантинах «Десна» и «Клеопатра», потом в Измаиле – командиром отряда канонерских лодок. Уехав из родного дома до нашествия Наполеона, Александр Казарский стал офицером после разгрома великой армии Бонапарта. Приехав домой, в Дубровно, в отпуск, он не застал в живых отца и младшую сестру Матрену. В 1812 году, спасаясь от насильников из европейской армии, Матрена Казарская бросилась в Днепр и предпочла смерть бесчестью. Отчий дом был сожжен, а все остальные члены семьи разъехались кто куда. Посетив пепелище и побывав на могиле отца и сестры, Казарский уже больше никогда туда не возвращался. Полагаю, что ярость благородная ко всем врагам России в тот момент клокотала в его жилах и свою роль в несгибаемом характере нашего героя вся эта печальная история явно сыграла.
А выглядел он так. Некто Е. Фаренникова, его знакомая, оставила нам описание: «Молодой человек, невысокого роста, худенький, с темными волосами, приятным, умным, подвижным лицом. Когда, бывало, приезжал он к нам… всех обласкает, всю прислугу обделит подарками. Живой говорун, остряк, шутник и любезный со всеми, он не любил сидеть на одном месте. Как теперь вижу скорую его походку по комнате, слышу живой, приятный разговор, громкий смех и неустанное истребление изюма»[13].
Перечислять все места службы Александра Казарского, названия судов и фамилии командиров мы здесь не будем. Слишком большой это список, а история русского флота столь блестяща, что о ней надо писать отдельно, много и постоянно! Укажем, что отличился Казарский при осаде… Анапы[14]. За успешную 3-недельную артиллерийскую дуэль с крепостными пушками он был произведен в капитан-лейтенанты, потом отличился под Варной, получив золотую саблю с надписью «За храбрость». В таком звании в начале 1829 года Казарский назначается командиром брига «Меркурий». Казарский и раньше служил на нем, чтобы потом уйти на линейный корабль, а потом вернуться и теперь уже стать «номером один».
В апреле 1829 года «Меркурий» был отправлен к городу Сизополю на соединение с отрядом крейсеров капитана 1-го ранга Скаловского. Первый успех не заставил себя ждать: «Меркурий» находился в разведке у Босфора, когда один из греческих шкиперов рассказал, что в местечке Пендераклия достраивается турецкий линейный корабль. К рассказу прилагалась схема батарей, прикрывающих вход в бухту. Отряд русских кораблей сжег противника прямо на стапелях.
14 (26) мая 1829 года бриг «Меркурий» и его командир Александр Иванович Казарский шагнули в бессмертие. Это небольшое разведывательное судно вышло победителем из схватки с двумя линейными кораблями противника, с флагманами турецкого флота.
А вот как это получилось. Блокируя турецкую столицу и проливы с двух сторон, русские корабли постоянно дежурили у входа в Босфор, чтобы своевременно обнаружить попытку турецкого флота выйти в море. В мае 1829 года в «разведку» был назначен отряд судов под командой капитан-лейтенанта П. Я. Сахновского. В него входили 44-пушечный фрегат «Штандарт», 20-пушечный бриг «Орфей» и 18-пушечный бриг «Меркурий». Корабли вышли из Сизополя 12 мая 1829 года и взяли курс на Босфор. В 13 милях от пролива отряд заметил двигавшуюся со стороны Турции неприятельскую эскадру: 14 турецких кораблей. Командовавший русскими кораблями Сахновский отдал приказ уходить, выбрав оптимальный курс[15]. Турки бросились вдогонку – впереди 110-пушечный «Селимие» под флагом капудан-паши и 74-пушечный «Реал-бей», младший флагман. Для 18-пушечного «Меркурия» столкновение с такими гигантами сулило быструю гибель – слишком неравны были размеры судов и число их пушек. Казарский дает приказ – уйти от преследователей. Но турецкие корабли все ближе, а два русских корабля «Штандарт» и «Орфей» оторвались и скрылись за горизонтом.
Сейчас за прошествием лет пояснить, почему бриг «Меркурий» в отличие от коллег не смог уйти, сложно. Когда надежда на стихший ветер и возможность оторваться на веслах развеялась посвежевшим бризом, турки открыли огонь носовых пушек. В этот момент капитан-лейтенант Казарский собрал военный совет. Вопрос был, что называется, одним из двух главных русских вопросов: что делать?[16]
Первым высказался поручик Иван Петрович Прокофьев, который сразу предложил сражаться с турками, а если бриг будет в сражении разбит настолько, что более не сможет сопротивляться, то, сцепившись с одним из турецких кораблей, взорвать бриг вместе с ним. Смелый поручик предлагал повторить бессмертный подвиг российской дубель-шлюпки № 2 под командованием капитана 2-го ранга Христофора Ивановича Остен-Сакена[17], этнического немца, который за 41 год до описываемых нами событий первым во флоте ввел новое правило – русские не сдаются! Ценой своей жизни.
Дубель-шлюпка представляла собой небольшое парусно-гребное судно, имевшее 42 весла, одну мачту с парусом и 15 пушек небольшого калибра. Экипаж составлял примерно 70 человек. Такое судно было тихоходным и обладало плохой мореходностью. 20 мая 1788 года дубель-шлюпка капитана Сакена была направлена командующим Днепровской гребной флотилией (принц Нассау) в Херсон с донесением А. В. Суворову. На тихоходное судно напало сразу тринадцать турецких кораблей. Видя, что от турок не уйти, фон Сакен отправил шлюпку с девятью матросами, отдал им знамя и велел передать, «что ни он, ни дубель-шлюпка не будут в руках неприятеля». Турки пошли на абордаж и, пользуясь численным превосходством, захватили русский корабль. В этот момент русский капитан фон Сакен взорвал дубель-шлюпку. На воздух взлетели все четыре галеры противника, а турецкие моряки получили приказ на абордаж русских судов более не ходить. Через несколько дней тело капитана 2-го ранга Остен-Сакена вынесло на берег Бугского лимана. Его опознали только по Георгиевскому кресту: ни головы, ни рук на теле не было. Потрясенная подвигом офицера Екатерина II щедро наградила его родственников…
Стоит отметить, что все остальные три офицера «Меркурия» единогласно поддержали предложение поручика Прокофьева повторить подвиг Остен-Сакена[18]. Последним высказался Александр Казарский, который перевел решение военного совета в практическую плоскость. Сражаться до конца, а когда такой возможности не останется, взорвать себя вместе с турками. Последний оставшийся в живых из офицеров должен зажечь крюйт-камеру[19], а для этого рядом с ней положим заряженный пистолет. Выстрел из него и взорвет бриг и врага.
После чего капитан-лейтенант Казарский обратился к матросам и передал им решение офицеров. Посыл командира был таков: «К нам идут награды, почести и слава!» Именно так Казарский сказал, показав на приближающиеся турецкие флагманы. У мачты был выставлен часовой с приказом стрелять в каждого, кто попытается спустить флаг, прибитый для надежности семью гвоздями, чтобы, не дай бог, турки не могли подумать, что в ходе боя русские спустили флаг и сдаются! А на верх пороховой бочки действительно был положен заряженный пистолет…
Никто из рядовых моряков не спорил, все встали по местам. Два турецких флагмана двигались к «Меркурию», а остальная османская эскадра наблюдала за грядущим развлечением. Чтобы избежать губительного огня турецкой артиллерии, Казарский много маневрировал и гораздо меньше стрелял в ответ. В ходе боя на бриге «Меркурий» погибли четыре матроса, а шесть человек получили ранения – в том числе и сам Казарский. Получив контузию в голову, Александр Иванович достал черный платок, разорвал его пополам, перевязал платком голову, а вторую часть отдал раненому матросу.
Весь трехчасовой бой он продолжал ювелирно командовать маневрами брига. «Меркурий» постоянно двигался, стреляя по двум преследователям, при этом стараясь находиться к ним узким силуэтом кормы, чтобы избежать полного «накрытия» мощным залпом противника. Наконец, турки зажали «Меркурий» между собой и начали засыпать его ядрами и «зажигательными». Вспыхнувший было пожар быстро потушили матросы, а бриг полностью скрылся в облаках порохового дыма. И тут турки совершили ошибку: стараясь замедлить свой ход, они убрали паруса, но Казарский паруса не убрал, и, когда неожиданно подул ветер, «Меркурий» резко ушел вперед и вырвался от неприятеля.
В конце третьего часа боя турки вновь стали настигать русский корабль. Но тут артиллеристам «Меркурия» вновь улыбнулась удача: удалось перебить ходовые элементы парусников на турецких кораблях, которые сразу прекратили сражаться и легли в дрейф. Однако и тут был еще один критический момент: «Селимие», на котором русские повредили такелаж, остановился, но успел дать залп, а одно из турецких ядер угодило ниже ватерлинии, – в пробоину брига хлынула вода. Беспримерный подвиг матроса Игната Гусева спас корабль: он заткнул пробоину своим телом. Но вода продолжала идти, и тогда он крикнул: «Братцы, приприте меня бревном!» Игнат Гусев пожертвовал собой – его тело вмяли в корпус, и он спас судно от затопления. Буквально в эти же минуты стрельба книппелями – полуядрами, скованными цепью, для разрушения оснастки второго турецкого корабля – заставила лечь в дрейф и «Реал-бей».
Бриг «Меркурий» не просто устоял, а вышел из неравного боя победителем! Эта победа была не просто великим подвигом, но еще и огромным подарком для русского командования! Чтобы понять все величие того, что сделал Казарский и его офицеры и матросы, нужно рассказать еще одну историю.
Имя ей – «Рафаил». За три дня до подвига «Меркурия», 11 (23) мая 1829 года, 36-пушечный русский фрегат «Рафаил», корабль куда более мощный, чем бриг «Меркурий», встретил османскую эскадру, состоявшую из шести линейных кораблей, двух фрегатов, пяти корветов и двух бригов (всего 15 судов). Попытка уйти не удалась, и тогда его капитан поступил противоположным образом[20]. Примечательный факт: капитан 2-го ранга, командир «Рафаила», ранее командовал бригом «Меркурий». Звали его Семен Стройников, и он тоже созвал военный совет. Что интересно, решение, принятое офицерами, было точно такое же, как и у офицеров брига: начать бой, в случае невозможности его продолжать – взорвать корабль вместе с противником. Не сдаваться! После чего капитан корабля отправил офицера (не сам пошел!) к матросам, и вскоре тот вернулся и заявил, что команда не хочет погибать и просит сдать фрегат туркам. И Стройников принимает решение сдаваться! Очевидно, что его личное желание было именно таким, и он лишь искал повод, чтобы не заглянуть в глаза смерти.
Так русский военный фрегат «Рафаил» был без боя, целым, сдан неприятелю. Во время боя турок с бригом «Меркурий» офицеры фрегата и сам Стройников находились на турецком флагмане «Реал-бей». Они все видели своими глазами: гораздо более слабый русский бриг героически сражался и победил! Казарский и Стройников хорошо знали друг друга, ухаживали за одной женщиной, но второй был гораздо более «перспективным» офицером, был постарше, имел более высокое звание, да и карьера его шла в гору семимильными шагами. Сказать, что император Николай I был шокирован сдачей «Рафаила» – это значит ничего не сказать. Поэтому подвиг брига «Меркурий» и его командира был так важен именно в эти дни. Если бы еще один русский корабль сдался туркам, это могло деморализовать и флот, и армию, и даже изменить ход войны, которая неумолимо клонилась к нашей победе. Да и какой позор для страны и самого императора! Поэтому подвиг А. И. Казарского был для русского царя просто манной небесной – действия «Меркурия» смыли позор «Рафаила».
Император Николай I произвел 32-летнего Александра Казарского в капитаны 2-го ранга, наградил орденом Св. Георгия 4-й степени[21]. Не только в его герб, но в дворянский герб каждого из офицеров брига «Меркурий» было добавлено изображение тульского пистолета. Того самого, что положили у входа в крюйт-камеру, чтобы не допустить попадания корабля в руки турок. Получил награду и героический корабль: «Меркурий» был награжден кормовым Георгиевским флагом и вымпелом. В русском флоте это был второй корабль, удостоившийся такой чести[22]. Император распорядился, чтобы в составе русского флота всегда был корабль с именем «Меркурий». Тут стоит отметить, что потомки царя несколько видоизменили его волю и на флоте появились корабли с именем «Память Меркурия».
Что касается предательской сдачи «Рафаила», то после окончания войны и заключения Адрианопольского мира экипаж вернулся в Россию. Вернее, те, кто из него остался в живых. Поразительно, но даже судьба военнопленных моряков с «Рафаила» оказалась печальной. Из сдавшихся туркам 216 человек живыми на Родину из плена вернулись лишь 70, и среди них покрывший позором себя и свой экипаж командир фрегата Стройников. Стоит отметить, что пример этот наглядный: потери героически боровшихся моряков «Меркурия» были несравнимо меньше, чем у сдавшихся моряков «Рафаила»[23].
По делу сдачи корабля неприятелю началось следствие. Юридической базой для работы военно-судной комиссии был «Морской устав», который разработал еще Петр Великий. В нем прямо говорилось: «Все воинские корабли российские не должны ни перед кем спускать флаги, вымпелы и марсели под штрафом лишения живота». На суде выяснилось, что посланный Стройниковым к команде офицер обманул его, сказав, что команда хочет сдачи. На самом деле матросы сказали, что сделают так, как велят офицеры, а капитан в итоге решил сдать судно. Суд решил, что Стройников виновен, он был обязан сам опросить команду. Приговор был суров: Стройникова и всех офицеров казнить и провести децимацию матросов и унтер-офицеров[24]. Царь решение суда смягчил, точно так же, как смягчил и приговор части декабристов. Офицеров разжаловали в рядовые, за исключением одного мичмана, рядовых простили. Стройникова лишили чинов и наград, дворянского звания и сослали в Бобруйск. Просидев четыре года в арестантской роте в крепости, он был позже отправлен рядовым матросом на Черноморский флот, где позже в звании офицеров служили его сыновья[25].
Захваченный «Рафаил» турки переименовали в «Фазли-Аллах». Он был уничтожен русским флотом в Синопском бою. Легенда гласит, что адмирал Павел Степанович Нахимов об этом так сообщил государю: «Воля Вашего Императорского Величества исполнена – фрегат “Рафаил” не существует». Надо ли говорить о том, что корабля с таким названием во флоте России больше никогда не было.
Вот тут бы и закончить рассказ о герое Казарском и его подвиге. Но на самом деле история Александра Ивановича гораздо больше и глубже. Подвиг Казарского стал известен всей России. К примеру, герой войны 1812 года Денис Давыдов посвятил ему стихи, где назвал героя «живой Леонид»[26]. Казарского ждали слава и общественное признание, но поначалу он продолжил военно-морскую карьеру. Оправившись от контузии, он принял под свое командование 44-пушечный фрегат «Поспешный» и принял участие в одной из последних операций русско-турецкой войны 1828–1829 годов – взятии Месемврии. А сразу после победного окончания этой миссии Казарский назначается командиром линейного корабля «Тенедос». Это уже должность для капитана 1-го ранга. В мае 1830 года Александр Иванович участвует в торжествах по случаю поднятия на корабле «Меркурий» того самого георгиевского флага и вымпела. После чего следует первый международный дебют молодого любимца императора: в 1830 году он как представитель русского флота вместе с князем Трубецким отправлен в Лондон поздравить английского короля Вильгельма IV. Английские моряки, понимающие величие подвига Казарского, встречают его с огромным уважением.
Очевидно, что смелые, решительные, готовые умереть за Родину люди, для которых понятие чести не пустой звук, крайне нужны не только в армии и на флоте. После поездки в Англию Николай I присваивает Казарскому звание капитана 1-го ранга и делает своим флигель-адъютантом. Это придворный военный чин в свите императора, почетное звание, особый мундир с шитьем. Иными словами, император переводит Казарского на административную работу, поручает ему важные, ответственные и деликатные поручения. Которые можно дать только тому, кому безоговорочно доверяешь.
Казарский начинает выполнять функции, которые сегодня осуществляют аудиторы Счетной палаты: следит за расходом государственных средств. Казнокрады в Казани, Нижнем Новгороде, в Саратовской губернии бледнеют перед его строгим взором. В 1832 году Николай I отправляет своего флигель-адьютанта исследовать возможность организации нового водного пути. Императору поданы проекты строительства канала между бассейнами Балтийского и Белого морей. Казарский приходит к выводу, что осуществление проекта вполне возможно. Строить в реальности канал начали лишь спустя 100 лет – в 1931 году при Сталине. Это и был тот самый Беломорско-Балтийский канал, или коротко – Беломорканал, давший название самым популярным в СССР папиросам. Так вот строили его по проекту, который в итоге правил и дополнял Александр Иванович Казарский. В 1933 году канал длиной в 227 км вошел в строй и соединил между собой берега Белого моря и Онежского озера.
За 100 лет до этого, весной 1833 года, то есть через четыре года после бессмертного подвига «Меркурия», его командир направляется в хорошо ему знакомый город Николаев. Уж больно чудные дела тут творятся. Судите сами: с 1830-го по 1833 год ни один корабль Черноморского флота не выходил в море, учебный процесс сократился до одного месяца в году. Линкор «Париж» сгнил, прямо стоя на якорях. И такая ситуация была не только на Черном море: взойдя на трон император Николай I разгребал ужасное положение дел, оставшееся от брата. «При воцарении Николая I годных к службе в Балтийском флоте было только пять кораблей (по штату в нем полагалось иметь 27 кораблей и 26 фрегатов), а в Черноморском флоте – 10 из 15 кораблей. Штатная численность личного состава Балтийского и Черноморского флота должна была достигать 90 тыс. человек, но в действительности до штатного числа недоставало 20 тыс. человек. Имущество флота разворовывалось».
Вопросов к адмиралу А. Грейгу, командующему флотом, было очень много. Но отправил царь на Черное море не одного Казарского, а целый «десант», командировав туда же контр-адмирала Михаила Петровича Лазарева, уже вышеупомянутого нами первооткрывателя Антарктиды[27]. Внешнеполитическая ситуация давала уникальное окно возможностей: постараться взять под российский контроль турецкие проливы. Один из вассалов турецкого султана, египетский паша Мухаммед-Али поднял мятеж, разгромил основные силы султанской армии и приблизился к Стамбулу. Николай I получал уникальный шанс: под предлогом оказания помощи сделать Османскую империю своим союзником и постараться подчинить ее своему влиянию. Последовало указание российского императора готовить флот к походу в Константинополь. И вот тут начались самые настоящие чудеса. Адмирал Грейг из Николаева доложил в Петербург, что флот в поход фактически выйти не может. Очень мало готовых к походу кораблей! Да, и сам он поход возглавить не может – болеет.
Состояние флота, который оказался не в состоянии заниматься тем, ради чего построен, давало царю повод для наведения порядка на Черном море. Вот примерно в этот момент и прибыл на Черное море флигель-адъютант Казарский. И если задачей контр-адмирала Лазарева был выход флота к Константинополю, то задачей Александра Ивановича было погрузиться в изучение хозяйственных вопросов, произвести полную ревизию. Хочется отметить, что флигель-адъютант Казарский прибыл с самыми широкими полномочиями. Он действовал от имени императора, и все были обязаны оказывать ему содействие. Наверное, полномочия Александра Ивановича на сегодняшний день были бы близки к приезду высокопоставленного чиновника президентской администрации в один из регионов.
Казарский рьяно взялся за дело, забрав всю хозяйственную часть Черноморского флота в свои руки. Энергия и опыт службы во флоте помогают ему быстро снарядить и отправить эскадру под командованием Лазарева к турецкой столице[28]. После ее отправки Казарский начинает ревизию тыловых контор и складов в черноморских портах. Вначале в Одессе, где вскоре вскрывает ряд крупнейших хищений. События развиваются стремительно, и казнокрады и коррупционеры этой далекой от нас николаевской эпохи прекрасно понимают, к чему идет дело. Надежды, что пронесет, что все успокоится, нет. Лазарев выдавливает Грейга с должности командующего Черноморским флотом, а Казарский после Одессы приезжает в Николаев на ревизию центральных управлений Черноморского флота. И за обоими этими господами маячит фигура императора, который страстно желает навести порядок.
Все это казнокрадам необходимо остановить, потопить эскадру у Босфора они не могут и разгромить адмирала Лазарева им не под силу. А вот Казарского остановить можно – и через несколько дней своей работы в Николаеве Александр Иванович внезапно умирает. Выпив чашку кофе, налитую некой загадочной молодой девушкой, дочерью генерала, и после двухдневной агонии. Умирает в день своего рождения – 16 июня 1833 года.
«Много было потом толков о загадочной кончине Казарского, вероятных и невероятных, правдоподобных и неправдоподобных. Говорили, что когда он приехал в Николаев, то остановился у одной немки, которая имела чистенькие комнатки для приезжих. Гостиниц тогда еще не было в Николаеве.
Когда случилось ей подавать обед или ужин, он всегда просил ее попробовать каждое блюдо и тогда уже решался есть. Казарский был предупрежден раньше, что посягают на его жизнь; оно и понятно: молодой капитан 1-го ранга, флигель-адъютант, был назначен ревизовать, а во флоте были тогда страшные беспорядки и злоупотребления. Делая по приезде визиты кому следует, Казарский нигде ничего не ел и не пил, но в одном генеральском доме дочь хозяина поднесла ему чашку кофе. Казарский, рыцарски любезный с дамами, не в состоянии был отказать красавице и принял от нее чашку; в приятном разговоре он незаметно выпил весь кофе и через несколько минут почувствовал дурноту.
Приехав домой, Александр Иванович послал тотчас за доктором, но, как была молва, и доктор оказался в заговоре. Вместо того, чтобы дать сейчас противоядие, тем более что сам больной кричал: “Доктор, спасайте: я отравлен!”, эскулап посадил больного в горячую ванну. Из ванны его вынули уже полумертвым»[29].
Его смерть настолько похожа на отравление, что потрясенный император требует разобраться и наказать виновных. Но комиссия, разбиравшаяся в обстоятельствах смерти Казарского, сделала вывод: «По заключению члена сей комиссии помощника флота генерал-штаб-лекаря доктора Ланге, Казарский помер от воспаления легких, сопровождавшегося впоследствии нервною горячкой»[30].
Через полгода после смерти Казарского была проведена эксгумация его останков и внутренние органы отправлены в Петербург на экспертизу. Яда снова не обнаружили. Действия врача, штаб-лекаря по фамилии Петрушевский, который «лечил» Казарского, диагностировав у него воспаление легких, усадив умирающего офицера в горячую ванну, были признаны правильными. Смерть Казарского была признана неожиданной, но естественной. Даже энергии и власти императора Николая I не хватило, чтобы распутать смерть одного из своих самых преданных офицеров. Виновных так и не нашли, адмирала Грейга отправили в отставку, на том дело и зависло. Единственное, что смог сделать царь – после смерти Александра Ивановича предоставил причитающуюся ему пенсию в 1560 рублей в год брату героя – лейтенанту 40-го флотского экипажа Николаю Ивановичу Казарскому[31].
Изучая причины обстоятельств смерти А. И. Казарского, внешних изменений его тела после кончины, приходишь к выводу, что он все-таки был отравлен. Вероятнее всего – лошадиной дозой мышьяка. Это вещество научились выявлять лет через 20–30 после смерти Казарского, в то же время это было еще невозможно.
