Идеологический заповедник или Сомов на Бали
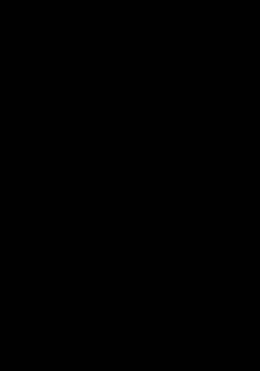
Пролог: Тропический Анекдот с Побочным Эффектом
Бали. Воздух – густой суп из запахов жасмина, гниющего манго и океанской соли. Влажность обволакивает, как мокрая простыня. Алексей Сомов сидит под соломенным навесом дешевого варунга на пляже, где песок больше похож на перемолотый коралл, чем на золото из рекламных проспектов. Перед ним – пишущая машинка «Селигер» (трофейная, купленная на первые «культвирусные» гонорары в спецмагазине для номенклатуры). Справа – почти пустая бутылка местного рома «Арак Салама» (дешево, крепко, пахнет клеем и кокосом). Слева – стопка чистейшей, ослепительно белой бумаги с водяными знаками посольства ОГРОМНОЙ страны. На ней красуется гриф: «Совершенно Секретно. Особой Важности. Только лично в руки Товарищу Послу».
Сомов смотрит на лист. Чистота бумаги режет глаза после ленинградской вечной серости, вечного дефицита, вечной замызганности всего. Он делает глоток рома. Жжет. Не как ленинградская «андроповка», а как-то… экзотично-противно. Как и все здесь.
Его взгляд скользит по пальмовым листьям, колышущимся на ветру. «Зеленые крокодилы», – думает он. – «Глумов бы оценил. Вирус «Тропический Ужас». Внедрить в подсознание туристов ассоциацию пальм с хищными рептилиями. Паника. Отмена туров. Коллапс индустрии гостеприимства вражеского региона. Да…» Он фыркает. Глумов. Тот самый полковник Глумов из Отдела «КультВирус» ГРУ, свято веривший, что можно свалить экономику Недружественной Страны, запустив в ее народ мем про ленивых коал или песню про бессмысленность пенсионных накоплений под видом хип-хопа. И что этим процессом можно управлять. Как танком.
Сомов снова смотрит на чистый лист. На нем должен быть отчет о проделанной за месяц «диверсионной» работе. Исправительные работы особого рода. Его наказание за то, что его «идейные вирусы», вместо того чтобы разрушать Запад, оказались блестящей сатирой на Родину и сделали его там тайной знаменитостью. Вместо лагеря – Бали. Вместо колючки – пальмы. Вместо зэков – загорелые туристы в вызывающе ярких плавках. Абсурд, возведенный в абсолют. Пиррова победа хаоса над системой, где победителю достается не триумф, а вечная ирония и бутылка дрянного рома.
Он вспоминает Ленинград. Сырые подъезды, вечно потные от конденсата окна в коммуналке, запах дешевого табака и капусты. Вспоминает Глумова на «мозговых штурмах», с горящими фанатичным блеском глазами, впитывающим его бред про «вирус коллективного пессимизма» или «балет деиндустриализации». Вспоминает Майора Петрову – ее холодный, буравящий взгляд, который, кажется, видел его игру, но никак не мог поверить в такую наглость. Вспоминает страх. Постоянный, кислый страх разоблачения, который запивался дешевой водкой, превращаясь в лихорадочную отвагу авантюриста.
А потом – трибунал. Ярость Глумова: «Он не ослаблял врага! Он нас осрамил! Весь мир читает его пасквили как правду о нас!» Сомов на том трибунале, кажется, был пьян. Говорил что-то про то, что настоящий вирус – это сама вера в то, что душу народа можно купить, как селедку в гастрономе, и направить, как снаряд. Говорил, что искусство – это стихия, а не артиллерия. Что его «диверсии» были единственно честным творчеством в стенах, пропитанных ложью. И что оно, это творчество, оказалось заразнее всех его выдуманных вирусов вместе взятых. Судьи смотрели на него, как на сумасшедшего. Что, в общем-то, было близко к истине.
И вот итог. Бали. Ссылка под видом «особо важной миссии». Формально – он должен «изучать идеологическую уязвимость курортных анклавов» и «разрабатывать точечные вирусы для дестабилизации туристического потока». Фактически – его спрятали с глаз долой, подальше от возможных вопросов и скандалов. «Главный креативщик идеологических диверсий» превратился в «научного сотрудника посольства по изучению курортной деградации». Его оружие – пишущая машинка. Его поле боя – пляж. Его цель – придумать, как оправдать свое существование здесь еще на месяц, написав очередной секретный отчет о… о чем? О бессмысленной красоте закатов? О гипнотизирующем действии океанского прибоя на буржуазное сознание? О том, как местные обезьяны воруют очки у туристов – явная диверсия против оптической промышленности?
Сомов делает еще глоток рома. Начинает печатать. Не отчет. Пока не отчет. Он выводит заголовок, который пришел в голову вместе с волной, накатившей на берег:
СОМОВ НА БАЛИ.
Потом добавляет подзаголовок:
(Записки неудавшегося диверсанта, или Как я не разрушил мировой капитализм, но слегка подпортил нервы одному полковнику ГРУ).
Он улыбается. Широкая, чуть кривая улыбка. Пальмы шумят над головой. Солнце бьет в глаза. Где-то там, за океаном, в Ленинграде, наверное, слякоть. А Глумов, наверное, лихорадочно ищет нового «гения» для своих вирусов. Сомову его почти жаль. Почти. Он поправляет лист в машинке. Звук клавиш заглушает шум прибоя. Он начинает печатать историю своей великой авантюры. Историю о том, как система, пытаясь использовать хаос творчества, сама стала его жертвой. Историю, которая начиналась не здесь, под солнцем, а там – в сером, вечно пьяном и безнадежном Ленинграде. История, которая привела его сюда. На исправительные работы в рай.
Вот и вся диверсия, – думает он, глядя на первые строчки. – Абсолютно неуправляемая. И чертовски заразительная.
Глава 1: Вызов в Институт Устойчивой Неустойчивости
Ленинград. Ноябрь. Не просто холод, а какая-то застарелая, въевшаяся в кирпичи и кости сырость. Воздух пахнет мокрым барахлом, дешевым табаком и тщетной надеждой. Алексей Сомов сидел на краю продавленной койки в своей комнате в коммуналке на Петроградской. Комната – шесть метров оптимизма и книг. Книги везде: на единственном стуле, под койкой, на подоконнике, заслоняя и без того тощий свет. Они были его единственным капиталом и главным доказательством его профессиональной непригодности в глазах системы. Писатель, чьи тексты не печатают – это не писатель. Это тунеядец. Или сумасшедший.
Перед ним на табуретке стояла пол-литровая банка с мутной жидкостью. Не чай. Чай был роскошью. Это был кипяток, окрашенный до бледно-коричневого цвета тремя крупинками растворимого цикория. «Кофе Глумова», – мысленно окрестил его Сомов. Если бы тот самый полковник знал, что его фамилия ассоциируется у непризнанного гения с суррогатом… Сомов хмыкнул. Глумов. Кто это вообще? И почему его, Сомова, вызывают в это здание на Литейном, 4? «Институт Культурных Исследований». Звучало невинно, почти скучно. Но Сомов не дурак. Литейный, 4 – это как минимум родственник Большого Дома. Там не изучают культуру. Там ее… регулируют. Или калечат.
Вызов пришел вчера – не по почте, не по телефону (телефона у Сомова не было), а лично в руки. Молодой человек в слишком добротном, но безликом пальто, с лицом как чищеный картофель, вручил ему серый конверт. «Товарищ Сомов? Вам. Явка завтра, 14:00. Не опаздывайте». Ни «здравствуйте», ни «до свидания». Только холодный, оценивающий взгляд, скользнувший по его поношенному свитеру и дырявому носку, торчащему из ботинка. Сомов почувствовал себя экземпляром в витрине дефектного товара.
Он допил «кофе Глумова». Вкус – как будто лизнул ржавую трубу в подвале. Встал. Оделся: тот самый свитер, потертые брюки, пальто, которое когда-то было коричневым, а теперь напоминало цвет неопределенного тона. Шапка-«пидорка», подарок какого-то фарцовщика. В кармане – три рубля и пачка «Беломора». На большее не было. И на меньшее – тоже.
Дорога до Литейного была ритуалом отчаяния. Трамвай, набитый такими же серыми лицами с утренним перегаром или вечерней усталостью (в Ленинграде время суток определялось не светом, а степенью опьянения и давкой). Сомов стоял, прижатый к стеклу, и наблюдал, как мимо плывут знакомые до тошноты фасады. «Питер – это вечная декорация к чьей-то чужой пьесе, – подумал он. – А мы – статисты, которых даже не покормят после спектакля».
Здание на Литейном, 4 не поражало воображение. Серая громадина сталинского ампира, но без помпезности. Оно просто была. Как скала. Как приговор. Внутри пахло казенным клеем, дезинфекцией и властью. Полы блестели неестественно, как в казарме после ПХД. Молодой человек с картофельным лицом (оказалось, он дежурит у входа) молча провел Сомова по бесконечным коридорам, мимо одинаковых дверей с табличками «Сектор №…», мимо женщин в строгих костюмах, несущих стопки папок с видом хранительниц мировых тайн. Тишина была гулкой, давящей.
Кабинет полковника Глумова оказался неожиданно большим и… почти пустым. Гигантский стол, покрытый зеленым сукном. Два стула – один за столом (массивный, с высокой спинкой), другой – перед ним (низкий, неудобный). Шкаф с книгами, но книги выглядели новыми, нечитанными – собрания сочинений классиков марксизма-ленинизма, уставы, справочники. На стене – портрет Генсека. И все. Ни ковра, ни растений, ни личных вещей. Кабинет-казарма.
Глумов вошел бесшумно. Невысокий, плотный, в идеально сидящем мундире без единой складочки. Лицо – круглое, гладкое, с маленькими, очень внимательными глазами. Улыбка появилась на этом лице мгновенно, как по команде. Широкая, демонстрирующая белые, ровные зубы. Но глаза не улыбались. Они сканировали.
«Товарищ Сомов! Проходите, проходите! Не стесняйтесь!» Голос был неожиданно громким, бархатистым, с легкой хрипотцой, как у актера, играющего «своего парня». Он жестом указал на низкий стул. Сомов сел, чувствуя себя гномом перед троном. Глумов обогнул стол и устроился в своем кресле-троне. Сложил руки на столе. Руки были короткопалые, пухлые, но сильные.
«Ну что, Алексей Борисович? – начал Глумов, все так же улыбаясь. – Знакомы с нашим скромным учреждением? «Институт Культурных Исследований»… Звучит, да? Как филиал Пушкинского Дома. Ха!» Он хрипло рассмеялся, но глаза оставались холодными и наблюдательными. «На самом деле, мы занимаемся… ну, скажем так, прикладным культуроведением. На переднем крае идеологической борьбы, товарищ Сомов! На острие!»
Сомов промолчал. Что тут скажешь? «На острие» пахло казенным клеем и страхом.
Глумов наклонился вперед, понизив голос, хотя в кабинете кроме них никого не было. «Видите ли, Алексей Борисович, мир… он сложный. Есть мы. Есть Они. Недружественные. Сильные. Хитрые. Опирающиеся на свои… гм… «ценности». – Он произнес слово «ценности» так, будто это было ругательство. – «Их сила – в их экономике? Отчасти. Но истинная их сила…» Глумов постучал пухлым пальцем себе по лбу. «…Здесь! В сознании масс! В их вере в свой образ жизни, в свои мифы!»
Сомов кивнул. Мысленно представил очередь за колбасой как доказательство силы наших мифов.
«И вот, товарищ Сомов, – голос Глумова стал почти шепотом, заговорщицким, – мы нашли способ бить Их в самое сердце. Не ракетами! Не шпионами! А… культурой!»
Сомов поднял бровь. «Культурой, товарищ полковник?»
«Именно! – Глумов оживился. – Вирусами! Идейными вирусами! Представьте: мы запускаем в их информационное поле… ну, скажем, художественное течение. Красивое, модное, заразное! Но несущее в себе скрытый код… код упадка, депрессии, ненависти к своей же экономической системе! Или – мем. Простой, смешной мем, который подрывает веру в их институты! Или песню… хит, который поет вся молодежь, а в нем – подсознательный призыв к бездействию, к отказу от труда!» Глаза Глумова горели фанатичным блеском. «Массы заражаются! Сознание меняется! Экономика… – он сделал выразительную паузу, развел руками, – …рушится! Как карточный домик!»
Сомов попытался представить полковника ГРУ, обсуждающего мемы. Не получилось. Абсурд достиг космических масштабов. «И… вы можете этим управлять?» – спросил он с искренним, почти детским любопытством.
«Абсолютно! – Глумов хлопнул ладонью по столу. – У нас есть методики! Алгоритмы прогнозирования «заразности»! Мы научились кодировать разрушение в красоту! Это новое оружие, товарищ Сомов! Тихое, невидимое, неотразимое! И нам нужен… главный инженер душ. Главный креативщик! Гений, который придумывает эти вирусы!»
Сомов почувствовал, как в его груди что-то похолодело. «И вы считаете, что я…?»
«Мы знаем! – перебил Глумов. – Мы читали ваши… тексты. Лежащие в столе. Очень… своеобразные. Очень… разъедающие. Ироничные. Пессимистичные. Идеальный материал для вируса деструкции! Вы, Алексей Борисович, – природный носитель идейного яда! Непризнанный гений подрывного искусства!»
«Товарищ полковник, это просто… рассказы…» – начал было Сомов.
«Не скромничайте! – Глумов махнул рукой. – Мы оценили ваш потенциал. И предлагаем вам возглавить креативную группу в нашем сверхсекретном отделе «КультВирус». Оклад – триста рублей в месяц. Плюс паек высшей категории. Плюс отдельная квартира. Плюс доступ к спецбиблиотекам и… зарубежным изданиям. Для изучения врага, разумеется».
Триста рублей. Квартира. Паек. Книги. Цифры и слова кружились в голове Сомова, смешиваясь с абсурдом «идейных вирусов». Это был шанс вырваться из нищеты, из коммуналки, из вечного страха перед тунеядством. Но ценой… Ценой стать орудием в руках этих безумцев, которые собирались рушить чужие жизни своими идиотскими «мемами»? Заражать мир своим цинизмом по заказу?
Отказ? Он посмотрел в холодные, оценивающие глаза Глумова. Отказ – это не просто «нет». Это диагноз. «Шизофрения». «Социально опасен». Психушка. Или хуже. Его тексты, лежащие в столе, были уже готовым обвинительным заключением в «клевете на действительность» и «буржуазном уклоне».
Страх – холодный, липкий – сковал его. Но вместе со страхом пришло что-то другое. Острая, почти пьяная волна азарта. Авантюра. Грандиозная, безумная авантюра. Они хотят спектакль? Хотят вирусов? Он даст им вирусов! Самых невероятных, самых абсурдных, самых неосуществимых! Он будет притворяться гением подрывного искусства, а сам… а сам будет писать. Просто писать. А они пусть верят, что это «оружие». Он выживет. Он получит деньги. Квартиру. Книги. А эти идиоты… пусть играют в свои солдатики.
«Товарищ полковник, – голос Сомова звучал удивительно ровно, – вы… меня ошеломили. Это огромная ответственность. И честь, конечно». Он сделал паузу, глядя прямо в бегающие камешки глаз Глумова. «Я… согласен. Если Родина считает, что мой скромный талант может быть ей полезен в такой… нетривиальной форме».
Улыбка Глумова стала еще шире, почти до ушей. Он встал, протянул руку через стол. «Вот это по-нашему, Алексей Борисович! Добро пожаловать в «КультВирус»! Завтра в десять. Тот же молодой человек встретит вас у проходной. Инструктаж, оформление. Не опаздывайте!»
Рука Глумова была теплой, влажной, крепкой. Рука системы, которая только что купила его, Сомова, за триста рублей, паек и обещание квартиры. Купила, чтобы он придумывал, как разрушать мир словами.
Сомов вышел на Литейный. Холодный ветер ударил в лицо. Он достал пачку «Беломора», дрожащими руками прикурил. Глубоко затянулся. Горький дым смешался со вкусом цикория и страха. И с новым, странным привкусом – безумной надежды игрока, поставившего все на кон в абсолютно проигрышной, на первый взгляд, игре.
Ну что ж, – подумал он, глядя на серое небо над серыми домами. – Начинается спектакль. Главное – не забыть свою роль. И не поверить в их бред про вирусы самому.
Он бросил окурок в лужу, где тот погас с тихим шипением, и зашагал прочь от серой скалы на Литейном, 4. Завтра. Начиналась новая жизнь. Или очень сложная имитация старой. Он еще не решил.
Глава 2: Первый Вирус, или Некроренессанс по Сомову
Кабинет, выделенный "главному креативщику идеологических диверсий" в недрах Литейного, 4, напоминал скрещенный лаборантский уголок, кабину пилота реактивного самолета и подсобку библиотеки. Один стена была заставлена серыми металлическими шкафами с грифом "СС" (Совершенно Секретно). Другая – завешана схемами, больше похожими на чертежи бредового инженера: "Структура вируса "Социальный Пессимизм"", "Алгоритм распространения мема "Всё Тлен"", графики с кривыми, подписанными "Индекс Идеологической Вязкости Целевой Аудитории". Третья стена представляла собой сплошную магнитную доску, утыканную цветными кнопками и обрывками бумаг с надписями: "Ключевое слово: Безнадега", "Триггер: Запах Плесени", "Канал внедрения: Самиздат -> Рок-музыка -> Мода".
Посреди этого хаоса сидел Алексей Сомов за столом, на котором горой лежали папки с грифом "КВ" (КультВирус), блокноты и… здоровенный прибор, напоминающий осциллограф с прищепками. Молодой техник в белом халате (фамилия, кажется, был Прохоров) только что объяснил ему, что это "Скоростемер Душевных Вибраций" (СДВ-7). "Вы пишете текст, товарищ Сомов, – внушительно говорил техник, – подключаете прищепки к пальцам добровольца из фокус-группы (у нас есть спецбаза!), он читает, а прибор фиксирует резонансные частоты деструктивных импульсов! Мы выводим коэффициент Кр (Коэффициент Разрушения)!"
