Памяти моей истоки. Книга 2
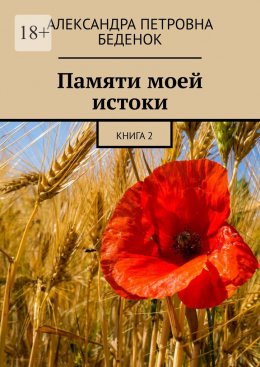
© Александра Петровна Беденок, 2025
ISBN 978-5-0067-8458-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
Александра Петровна Беденок родилась в предвоенном 1939 году, в сельской местности на Кубани Ставропольского края, на хуторе, возникшем после революции, – Первомайском. Детство её прошло именно здесь, среди бугров, покрывавшихся каждую весну алыми и желтыми горицветами, с трёх сторон дышали на хутор влагой и рыбой неглубокие пруды – счастье и горе для сельской ребятни: чем дольше длилось купание с криком и визгом, тем больше тумаков и ругани сыпалось к вечеру от родителей, вернувшихся с работы. Причиной таких взбучек были визжащие от голода поросята, куры, распустившие крылья от безводья, неподметённый двор – да мало ли чего найдут не сделанного придирчивые ближайшие родственники. Угроза лишить жизни или выгнать из дома пролетали мимо ушей, а вот от крепкого физического воздействия надо уметь увернуться и исчезнуть из глаз, например, в зарослях сливы или на самой верхушке старой вишни – там было сооружено «кубло» с подстилкой из старой фуфайки.
Богатая приключениями жизнь в детстве не могла не отразиться в творчестве автора, которого мы без сомнения можем отнести к категории деревенских писателей.
Первая книга, совместно с другим автором, вышла в 2011 году, напечатанная районным издательством «Лабиринт». Её название – «Истоки» соответствует содержанию книги: автор самобытно и исторически правдиво рассказывает о своей родословной в объёмных рассказах «Писаренки» и «Жердевы».
Вторая книга, гораздо богаче по содержанию (в 560 стр.), напечатана в 2018 г. издательством Ridero, «Памяти моей истоки».
Надо отметить, что в заголовках всех трёх книг присутствует слово «истоки», и это, надо полагать, не случайность: истоки – не только память о близких людях первого и второго поколения, но и те благословенные места, где прошло детство, юность и взрослая жизнь.
И если в первой большой книге разные этапы жизни отражены в заголовках глав («Истоки», «Все мы родом из детства», «Юность беспокойная моя» и др.), то в книге с аналогичным заголовком, но с пометой «книга вторая» отражены те же темы в рассказах, соответствующих определённому периоду жизни.
На долю детства автора выпало тяжелое время Отечественной войны и конец сороковых годов. И хотя война своим разрушительным крылом не коснулась отдельных районов Кубани (селяне видели только отступавшие разрозненные отряды немцев да слышали взрывы бомб на станции железной дороги в 15 км от хутора), детские сердца были переполнены страхом от пролетающих в небе самолётов, от рыданий взрослых при получении похоронок, от ночного крика сычей, по преданиям предвещающих горе и смерть близких.
Уже осознанно автор описывает послевоенную школу, когда переполненные первые классы учителя «разреживали» путем отчисления босоногих и одетых в тряпьё учеников. Но дети есть дети, и радость распирала грудь оттого, что их выгнали из школы.
Надо хорошо знать душу ребенка, чтобы, несмотря на тяготы жизни, увидеть смешное в потере чего-то очень нужного в быту. Например, портниха начисто испортила три метра материи, «обчикав» платье со всех сторон так, что в него без труда не влезешь. Отрезная на талии юбка напомнила картинку из «Истории древнего мира»: египетские воины с луками, одетые в короткие, чуть расклешённые юбки. И главная героиня рассказа – Шурка, придумала целый спектакль на радость дворовой детворе. Но за весельем непременно явится детское горе – месть наслышанной о «спектакле» портнихи и нагоняй от матери. В народе ведь не зря говорят: не смейся много, а то плакать будешь.
Во второй книге, как мы уже отметили, отражена та же тема – детство. Но уже по-другому, с элементами романтики, психологизма и понимания поведения взрослых. В этом плане талантливо написан рассказ «Хаминовка». Мир глазами взрослеющих детей. Девчонки – подростки водят за собою больного на голову пацана, их ровесника, оберегая его от издевательств такого же возраста ребят. «В нас, ещё далеко не совершеннолетних женщинах, бились юные сердца будущих матерей, и мы жалели убогого пацана, подкармливали его куском хлеба или сушёными абрикосами – в общем тем, что могло поместиться в карманах родительских старых фуфаек с закатанными рукавами. В несчастном глупце жила опьянённая чувством благодарности детская душа, жаждущая нашего удивления и похвалы».
Хаминовка (так называлась часть хутора по имени одного приметного жителя), не только давала обильную пищу для размышлений и обсуждений текущих событий, но обогащала ум подростков интересными природными явлениями. Дети хорошо знают, чем отличается речная белая мята от садовой: «речная мята мягкая, как бархат, зацепишь её рукой или пробежишь по ней босыми ногами – и она одарит тебя чудным запахом – удивительной смесью аромата чабреца и земляники. Зелёная садовая мята по сравнению с ней ничто: запах резкий и удушливый».
Надо отдать должное автору, знающему множество названий трав и кустарников. И это не просто перечисление, но, с точки зрения сельского жителя, их польза и предназначение: куст веничья – это хороший веник для двора; осыпаясь, он превращался в голец, но запах полынька сохранялся до конца его использования; над жёлтыми прозрачными кустами высокого донника постоянно роились пчёлы, набирая с цветков на лапки лёгкой душистой пыльцы.
Часто описанную в литературе вербу читатель хорошо знает, а вот для нашего писателя ещё не распустившиеся серёжки на этом дереве – первая после зимы зелёная еда для деревенских ребятишек. «Они были сладковато-терпкие и хорошо жевались. Если серёжки, распустившись, залохматятся и над ними появятся многочисленные пчёлы, то есть их уже не хочется: они становятся суховато-колючими и слишком терпкими на вкус».
Во второй книге тема «Мои хуторяне» раскрывается несколько по-иному, чем в первой: это наблюдения старшеклассницы, она видит в людях не только смешное, но явно полезное или отсутствие оного для сельского жителя: умение содержать хозяйство и облагораживать двор – у рачительных хозяев, заброшенность садов и огородов, немазаные облупленные стены собственного жилья – у равнодушных, любящих подолгу за двором протирать штаны и юбки на бревне. Сельская жизнь – это далеко не пастушеская идиллия, а в первую очередь – труд, забота о ближних, и тщательное планирование всего того, что помогает пережить долгую зиму.
Есть и новые темы, требующие от автора оценки жизни людей, живущих в других областях. Писательнице выпало счастье путешествовать, обретя новую специальность, – групповода или экскурсовода во время долгих двухмесячных отпусков. С удивительной точностью описано пребывание в Средней полосе России (Курская область), в Карелии, Белоруссии и несколько раз тогда ещё в Ленинграде. Прежде всего в наблюдении – это люди, окружающие ее в дальних поездках: их реакция на впервые увиденное, поведение в не домашней обстановке, долгая и весьма короткая память от общения.
Есть и тема любви в жизни женщины не первой молодости, боль от несбывшихся надежд, от того, что теперь разум и забота о детях стоят на первом месте.
Как и у многих писателей, у Александры Беденок в творческой деятельности происходят вроде бы незаметные изменения – тяга к написанию произведений более масштабного плана – к написанию повестей, например. В результате размышлений появились две повести, которыми и заканчивается книга. Первая – «От печали до радости». Образ героини Юльки – собирательный: многое происходило в жизни самого автора, но в основном – события, которые реализовались в непростой жизни её дочери – учёба на художественно-графическом факультете Краснодарского университета. В доме было много иллюстрированных альбомов и книг о русских и зарубежных художниках. Отсюда короткие описания отдельных картин и событий в жизни художников.
Вторая повесть «Аспирантура» полностью автобиографичная: трёхлетнее обучение автора в Ростовском пединституте и полугодичный период после учебы, до получения звания. Понятно, что описание процесса обучения – дело скучное даже для самих соискателей, а уж для читателя тем более. Поэтому задача автора опять-таки описание окружающей среды людей – научный руководитель, новые и старые друзья, встречи в Москве с писателями и поэтами, посещение Большого театра и т. д. Ну а весь период напряженной работы можно назвать «Через тернии – к звездам». Период далеко не простой, но полезный не только для роста интеллекта, но и для материальной жизни.
РАССКАЗЫ
БАЙСТРЮЧКА
Катерина была на пятом месяце беременности. Страшилась она не родов, а той деревенской худой славы, которая вот-вот потечёт бурным грязным ручьём по селу. Совсем неважно, что она уже была замужем, что был ребёнок. Первенец Ванюша умер в возрасте четырёх лет неизвестно от какой болезни, внезапно, за один день, истёкши кровью. Дня за три-четыре до смерти мальчика свекровь решила погонять крыс в сараях и во дворе. Отравленные галушки она разложила по норам, присыпав их землёй. То ли ядовитая приманка попала в руки, то ли склянку в яслях проглотил, или ещё какая причина была, но Вани не стало. А после похорон ребёнка не стало и жизни в доме свекрови. Был тридцать восьмой год, мужа после армии забрали на финскую войну, когда он вернётся, никому неизвестно. Ничто теперь не удерживало Катерину в доме мужа, и вскоре она ушла жить к родителям.
Катя была полная, красивая молодица, с силой в руках поболе, чем у иного мужика. По её способностям дали и работу в колхозе – прицепщик на тракторе. Занятие, сказать правду, не женское: пыль, дневная жара и ночной холод. Смена длилась двенадцать часов, пахать надо было пока погода. Никаких свободных дней; отдыхать, говорил председатель, будете зимой.
Своих механизаторов не хватало, их находили в других колхозах, где уже справились с пахотой. Катерину с плугом закрепили за трактористом из соседнего хозяйства.
– Ну, Петро, мы тебе такого плугатаря выбрали, что только паши, да меньше оглядывайся назад, а то борозда кривая будет, – шутил бригадир. – Баба – бой, ты с ней поласковей, а не то – и фингал может поставить, за ней не заржавеет.
– Да с фингалом-то оно светлее будет, сёдня пасмурно, фары на тракторе, вижу, никудышние. Не беспокойтесь, договоримся как-нибудь.
Договорились через неделю совместной работы. Сентябрьские ночи уже были прохладными. Одежонка на Катерине тонкая, негреющая. Сверху оно ничего, спасала видавшая виды фуфайка, а низ – хоть пропади: чулки на резинке да тонкие рейтузы. Поверх приходилось надевать мужские штаны. На упитанной Катерине они еле сходились, того и гляди пуговки выстрелят от натуги. Неловко было стоять рядом с мужиками, вроде бы и серьёзные разговоры велись, а глаза так и пялятся на стыдное место.
Петро был мужиком лет тридцати, работящий, умеющий легко выйти из всякой ситуации. А ситуацией был старый, неровно тарахтящий трактор. Протянешь борозду на поле без остановки – уже хорошо. Долгих остановок у Петра не бывало, чувствовал он дряхлую машину и не доводил до крайности. Смотришь, остановился вроде бы ни с чего, покопался, покрутил, постучал – и дальше потарахтел старикашка.
В одну из вынужденных остановок посмотрел Петро на согнутую неподвижную Катерину, подошёл поближе.
– Ты не уснула там? А то иди отдохни, вон как раз куча соломы рядом. С плугом я и сам справлюсь – тут земля лёгкая.
Катерина молча оторвалась от холодного сиденья, негнущимися окоченевшими ногами стала на землю. Господи, как же с места двинуться и дойти до соломы? Не будь рядом мужика, поползла бы на четвереньках. С минуту постояла, поразмялась на месте. Пошла медленно, с приподнятой головой.
Душистая солома опьянила, согрела и погрузила в сон. Несколько раз проезжал мимо трактор, но она не слышала его оглушающего рокота.
К утру Петро оказался рядом, будто сквозь дрёму она почувствовала тепло его тела, горячее дыхание в шею и грудь.
С восходом солнца она опять осталась одна. Было что-то или ей всё приснилось? Петро копался в тракторе. Когда она стала выбираться из соломы, он, повернув голову, сухо сказал:
– Иди на ток. Пахать до пересмены не будем.
– Да уж напахали, – подумалось ей. – Тихий, чёрт, да умелый, как говорится, без боя взял.
Работали ещё недели две вместе. Ни словом не обмолвились по поводу той ночи. Разговоры были короткие, деловые, касающиеся только работы.
– А может быть, ничего и не было? – сидела в голове мысль.
Через месяц стало ясно, что всё было, и не без последствий. Ходила к бабке-повитухе, советовалась, что делать. Хорошая была бабушка Букатчиха, отзывчивая на чужую беду, а главное, ничьих тайн не разглашала.
Когда в доме все уснули, взялась Катерина за лечбу от напасти: выпила горькое Букатчихино зелье, напарилась над раскалённым, опущенным в воду кирпичом, залезла на горячую печь. Утро принесло радость: слава тебе, господи, всё получилось так, как предполагала бабушка.
Позже из разговоров на току Катерина узнала, что Петро женат, имел двух детей и додельную хозяйственную жену. Так что, Катька, выкинь из головы ту нечаянную ночь. Мужик он и есть мужик: переспал, отряхнулся и пошёл. Ну да бог с ним, и то хорошо, что всё обошлось.
А через два месяца Катерина вдруг почувствовала знакомое мягкое поталкивание в животе. Первая мысль – опять бежать к бабке.
– Ну, милая, что случилось, то случилось. Не бери греха на душу и меня не принуждай. Не губи младенца. Значит, так богу угодно – оставить живым твоего дитя.
Первой заметила внешнее изменение мать.
– Ты что ж это творишь, собачья твоя душа? Позору на весь хутор! Бери кусок сала и отправляйся на станцию. Там есть хороший врач, за деньги или продукты сделает всё. Бабы наши с шестью месяцами обращались. Через день пешком домой приходили. Чисто делает.
И отправилась она с узелком на станцию. Идти семь километров. Вышла на гору, огляделась кругом. Господи, избавь меня от страха, дай силы всё это выдержать. Но, видно, бог услышал не её просьбу, а того малого, ещё неразумного, но живого существа. Посидела на горке, успокоилась. Страх, действительно, пропал. На душе стало светло и легко. Да из-за чего сыр-бор? Мне же не семнадцать лет. Рожу я этого ребёнка! Одного бог взял, другого дал. Всё так понятно и ясно. Позор? Да от него ни одна девка не застрахована. А я баба. Как говорится, сам бог велел.
Вошла в хату улыбающаяся, уверенная в себе.
– Вернулась-таки? Ну значит, так тому и быть, – неожиданно встретила мать. – Я уже и сама пожалела, что толкнула тебя на это.
Время шло. Скрывать своё интересное положение было не так уж и трудно: полнота тела скрадывала живот.
– Катька, – шутили бабы на работе, – у людей жрать нечего, а ты пухнешь, как на дрожжах.
– Да на поле ветер сильный, вот и надувает её, – подкалывали другие.
И опять стало тоскливо на душе. Роды были высчитаны с точностью до одного дня, потому как та ночь была единственной. Последние дни на работу не ходила. Чувствовала, как чешут языками бабы, как злорадствует одна из них, у которой мужиков считать – пальцев на руках не хватит.
– Ну я ж вам говорила, бабоньки, ветром надуло. Иначе откуда взяться у незамужней бабы такому пузу.
– Чья бы корова мычала…, – осадила её Ивановна, всегда жалевшая тех одиноких баб, что нечаянно «поймали рыбу».
В тот июньский тёплый день дома никого не оказалось. Часто забегал младший брат Колька, что-то искал, хлопал дверью, орал, отзываясь на клич пацанов.
Надо закрыть дверь на крючок. Просто так его не выпроводишь. Наткнувшись на запертую дверь, стучал в окно, канючил, бил ногой в стену. Ну и выродок! Как такому скажешь, что нельзя видеть пацану, как женщина рожает. Наконец стало тихо, умёлся-таки по своим делам.
Ребёнок выскользнул прямо на голый земляной пол. Запищал тонко и пронзительно. Не было ни жалости к этому окровавленному существу, ни тем более радости. Пусть лежит, глядишь – умрёт. Людям же на роток не накинешь платок. А тут как бы ничего и не было, приду на работу как ни в чём не бывало. Оставалась дома, чтобы прибраться к троице.
И тут осторожный стук в окно.
– Дочка, открой. Открой, прошу тебя Христом Богом. Всё будет хорошо. Ты не первая, не последняя, – упрашивал отец.
Надрывный крик ребёнка, уговоры отца с улицы! Это же невыносимо! Чего доброго, ещё и соседи сбегутся. Открыла и молча забралась на тёплую печь. Отец бесшумно, как птица, влетел в комнату, быстро отыскал какие-то тряпицы, завернул младенца, положил на остывающую печку-грубу, подстелив вчетверо сложенное рядно. Нагнувшись, что-то ворковал над ребёнком, поглаживал завёрнутый кокон по всей длине шершавой натруженной рукой. И дитя, почувствовав тепло и заботу, замолчало.
Отец ходил по комнате, суетился, подметал и без того чистый пол, беспокойно поглядывая то на дитя, то на печь.
– Дочка, та ты подывысь, яка хороша дивчинка! На, покорми её. НычОго, ны пырыживай, вырастим. Чей бы бычок не прыгал, а тылятко наше.
Кузьмич протянул на печь маленький свёрточек. Видя, что дочь, неподвижно уставившись глазами в потолок, никак не реагирует на него, осторожно положил рядом.
Ладно, пусть полежит немного, а когда уснёт, положу сверху подушку. Уснула и не проснулась. Виноватых нет. Такое, она слышала, не раз бывало в селе, особенно когда девка в подоле приносила.
Отец как чувствовал чёрные мысли Катерины, никуда не уходил, время от времени участливо заглядывал на печь, уговаривал:
– Покорми, дочка, голодная она.
Ладно, покормлю, пусть дед успокоится, а потом-таки сделаю то, что задумала. Ротик-пуговка нашёл сосок, зачмокал, не успевая сглатывать, девчушка смешно и трогательно подстанывала, чуть приоткрыв ещё ничего не различающие серо-мутные глазёнки. Господи, да что ж оно такое жалкое! Сосёт с такой жадностью, жить хочет! Да разве ж ты мать, ты злая мачеха, тебя саму за такое удушить надо. Ругала себя самыми последними словами. И сердце оттаяло, в грешную душу вошли спокойствие и благодать. Уснули вместе глубоким тихим сном до самого вечера. Домочадцы ходили на цыпочках, разговаривали шёпотом. Услышав покряхтывание ребёнка, опять, теперь уже с заботой и тревожной радостью подставила грудь. Ой, как сладко оно причмокивает! Молоко тонкой струйкой стекало на пелёнку. Боже! В какие грязные тряпки завёрнуто дитя! Сейчас встану, найду другие. Но как перейти эту грань, какие первые слова произнести? Не молча же сползти с печки. Здравствуйте, я вот ребёночка в капусте нашла. Вы что ж, и не рады?
– Дочка, поднимайся, вечерять будем, – буднично и спокойно просит мать, подойдя к самому краю печи.
– Угу.
Через неделю явился бригадир.
– Собирайся, пойдёшь нянькой в ясли. Там одни молодые девчата. Матери жалуются на уход за детьми. Подскажешь им, если что не так.
– Угу.
Рано утром, чтоб поменьше видели, заспешила Катерина со свёрточком, спрятанным под полу фуфайки, в ясли. Сторож открыл двери спальни и кухни.
В нос ударило спёртым воздухом, кругом грязно, не прибрано и кучи сонных мух. Да они сожрут мне дитя! В углу просторной, гудящей мухами кухни стояли впритык два вместительных шкафа, наверное, для продуктов. Открыла дверцы, посмотрела – всё пусто. Вот тут она и будет жить, моя кряхтушка.
К восьми пришли заспанные няньки – девчата-подростки. Зевая, нехотя тарахтела посудой повариха. Глядя на энергичную, работящую Катерину, сами, без понуканий стали более расторопными.
Матери сразу заметили порядок и чистоту в детских комнатах. Повеселели, заговорили оживлённо, радостно, глаза заискрились. Одно было непонятно – где ж Катькина байстрючка? Может, пока дома, на мать оставила? Спросить не решались. Поди догадайся, что дитя в шкафу живёт. Да как ей там хорошо: тихо, сухо и мухи не кусают. Без света личико сделалось белое, а от сладкого молочка круглое, как луна. Никто не слышал, как она плачет. Перепеленает малышку Катерина, покормит – и опять в шкаф. В общей комнате для детей она появилась, когда начала ползать.
– А это чья такая белашечка? Да с кудрями на затылке, – удивлялись бабы.
– А вы не знаете? Это ж Катькина байстрючка.
Март, 2010 г.
ВАЛЕТ
По уму и своему развитию мы находились в одинаковом дурашливо-беззаботном возрасте, он – в собачьем, я – в человечьем. Эмоции плескались во мне, как вода в переполненном ведёрке с карасями. Он же умел ими управлять, по-мужски бывал сдержан и вёл себя иногда с достоинством.
Отчим принёс его с Октябрьского от уехавшего в город хозяина подросшим щенком, которого, вероятно, готовили к большой карьере: отрубили хвост и обрезали ушки, чтоб уж выглядел как патентованный ризеншнауцер. Очень скоро обнаружилось, что над его родословной хорошо поработал дворняга: шерсть хоть и волнилась на спине, но оказалась коричневой с пятнами различных оттенков, а бакенбарды, гордость и краса названной породы, и совсем не отросли, да и на кой чёрт они сдались метису, вечно мокрые и пахнут тем, что потреблял только что с мужицким аппетитом.
Зато ростом он был с телёнка, откормленного неразведённым молоком.
Весна, уже припекает по-летнему солнышко, и я усаживаюсь на завалинке с чашкой пахнущего зажаркой супа. На солнце и свежем воздухе варёная пища приобретает совсем другой вкус и запах, гораздо аппетитнее, чем в помещении. Валет, усевшись напротив, выжидательно смотрит на меня, облизывается, сглатывает обильную слюну. От нетерпения нервно приподнимается, потом опять усаживается, ища более удобную позу, наклоняет голову то на один бок, то на другой. И что, так и будешь вычерпывать ложкой, пока дно не покажется? Не жирно ли будет для девчонки-школьницы? Вон посмотри на своё пузо, оно уже из-под платья буханкой хлеба топорщится, а ты всё лопаешь, как с голодного края явилась. Гав! Оставь, жадина, хоть немного, пожалей верного друга человека.
– Успокойся, слюнявая морда, не забыла я про тебя, ишь, какой нетерпеливый, обязательно тебе гавкнуть надо, – произношу я воспитательную речь, кроша кусок хлеба в оставшийся суп.
Пристыженный, подошёл к своей миске, не спеша стал выбирать пропитанные кусочки, и только хвост-обрубок выдаёт благость насыщения: крутится часто-часто, как у селезня хвост во время птичьего грая.
Излюбленное развлечение Валета – ночью пугать доярок, идущих мимо нашей хаты на ферму. Если их много, человека три-четыре, то пусть себе идут.
А вот с одной запоздавшей тёткой можно и пошутить. Бежит псина в темноте, будто вывернутый наизнанку кожух кубарем катится. «Караул! Помогите!» – вопит ослеплённая страхом любительница поспать. А он в весёлой ярости вокруг неё – гав! гав! гав! Чё орёшь, бестолковая баба! Я тебя что? Укусил али за юбку схватил зубами? Не знаешь, что собаки спокойных и молчаливых людей уважают? Иди уж, не порти воздух около нашей хаты. И-ых, эти баламутные слабые создания!
И пошёл ко двору весь довольный, от полученного кайфа шкура на спине вздрагивает.
Утро наступает со звоном тугих струек молока о стенки подойника —дзинь, дзинь, дзинь. Немного полежишь, сладко зевая, и молоко с шапкой пены забурчит от слабых струй недовольно и глухо – пфрум, пфрум. Сейчас хозяйка плеснёт тёплого молочка в собачью миску – живи и улыбайся, домашний страж.
В полдень, когда я возвращаюсь из школы, Валет всегда сидит за двором, ждёт меня. Встречает с достоинством и мужской сдержанностью, не прыгает в экстазе на грудь и не облизывает мою физиономию, важно идёт впереди, виляя задом.
Душа поёт и просит развлечений. Я надеваю старую драную фуфайку, а мой собак уже знает, к чему это переодевание: упал на траву и, как цирковая обученная псина, катается по мягким калачикам – веселиться так веселиться!
С рычанием понарошку он тянет меня за рукав, упираясь всеми четырьмя лапами в землю, да так сильно, что ветхая одёжка трещит и рвётся на новом месте, а мой игрун стоит с клоком ваты в зубах, мотает головой – плеваться-то он не умеет. Каких только выкрутасов он не делает! Залегает, как охотник, ползёт на пузе, потом, подпрыгнув и изогнувшись в воздухе, нападает с яростью на свою упавшую ничком жертву.
Наигравшись, долго ещё лежим на траве, изучая облачное небо.
Вот и мамка вернулась с работы. Я в спешке подметаю земляной пол, изображаю из себя старательную горничную, хмурю недовольно лоб – развели грязь, как можно жить тут нормальному человеку?
– Свинье воды наливала? Молчу.
– Бурьяну тоже не давала?
В сердцах выхватывает у меня из рук веник и, пока размахивается, я пулей вылетаю через открытую дверь, дай бог ногой не зацепиться за высокий порог в сенцах. А Валет уже тут как тут! Он органично вписывается между мной и мамкой, нарочно замедляет ход, путаясь у неё под ногами.
– Да черти б вас забрали! Пошёл вон, окаянный! – и веником по спине хрясь защитника детства.
Собак утробно гыкнул и отскочил в сторону. Бьёт она меня! Да мне твой веник как мёртвому припарка! Мог бы и огрызнуться, да связываться со злой бабой только себе во вред. Собаки для Шуркиной матери – твари низшего сорта, они и едят, чавкая, и лают, как ветры пускают. Хорошо, что её ангельский ребёнок думает совсем иначе.
Не спеша потрусил вслед за убежавшей девчонкой, победно вертя хвостом-обрубком.
А беглянка уже в речке купается. Подошёл к кучке сброшенной одежды, долго с наслаждением нюхал: платье, нижняя сорочка и косынка вкусно пахли ошпаренной курицей, видно, вспотела, когда бежала. Утром, когда она отправляется в школу, от неё пахнет бабочкой капустницей, запах, конечно, не из приятных, но, по людским меркам, это признак чистоты и свежести. У людей свои вкусы.
Валет любит дремать у меня в ногах, когда я читаю книжку. Бумажные листочки шу-шу-шу, как лёгкий усыпляющий ветерок. Потом потянется, зевая, и протяжно заскулит: сколько можно сидеть, пора бы и поразмяться.
Шуркина мамка, строгая и почти всегда сердитая хозяйка, гремит посудой, собирается борщ варить. Лучше бы с курицей, конечно. И тогда мне достанутся одуряюще вкусно пахнущие кишки. Головку успевает схватить кот Ёсып, ну и проныра, скажу я вам. Если бы я его тогда догнал, с него бы клочья шерсти полетели по ветру. Взмыл, пройдоха, птицей на самую верхушку вишни. Сидит урчит, рот не раскрывает, боится упустить лакомый кусочек. Ладно уж, твоя взяла!
Май – конец последней четверти в школе. По дороге домой мы с подружкой находим множество съедобных трав. По буграм растут белёсые мягкие зайчики (медвежье ушко), из воды уже виднеются зелёные иголки молодого камыша; потянешь за верхушку – а оторванный конец её белый и сладкий-пресладкий. В конце огородов и на меже растёт молочай, лапуцики толстые, покрытые прозрачной шероховатой кожицей; её надо содрать, а стволик покатать в ладонях, приговаривая: молочай, молочай, иди бабу покачай. Горечь впитывается в ладони, и тогда можно с удовольствием похрустеть, наслаждаясь вкусом с еле приметной горчинкой и особым запахом. Молочай, наверное, потому так назвали, что растение, когда срываешь, выделяет белое горькое молочко. Но надо уметь от него избавиться.
Козлики попадаются редко, их тоже надо очистить от узких бледно-зелёных листочков, а стволик съесть.
Ели мы и болиголов, когда он ещё молодой и внешне похож на петрушку. У нас его называли бузиной, мы думали, что слово произошло от глагола «бузить», то есть дуреть. Голова и вправду слегка кружилась, если бузины нахвататься натощак. Потом всё быстро проходило, и, как показало время, мозги наши ничуть не пострадали от растения, способного наводить на ум бузу.
На прогоне наши дорожки разошлись, и я пошла по тропинке по-за огородами одна. И вдруг вижу впереди шевелящийся блестящий чёрный комок! Всяких рептилий я боялась до тошнотворной брезгливости и замирания сердца. Не помню, как я очутилась в соседнем огороде, метров за пятьдесят от греющихся на солнце ужей. Прибежала домой красная от волнения и страха, с похолодевшими пальцами на руках.
– Ужей не надо бояться, они только ущипнуть могут. В отличие от гадюк, у них ушки жёлтые, – спокойно объяснила мамка.
Валет прислушивался, пытаясь понять, кто обидел его белоголовую ковылУ.
Наутро я приглашаю друга проводить меня до мостика через речку. Направляю его, чтоб шёл по дорожке впереди, вдруг опять чёрные верёвки вылезли погреться на солнышке. Идёт принюхивается, в полной готовности кинуться на врага. Перед концом дорожки вдруг остановился как вкопанный, затанцевал на месте и стал неистово лаять. Да так рьяно и громко, что уши ужей покраснели, и они мгновенно ретировались в камыши.
С кем собака живёт, на того и становится похожей. Валет жил с детьми и своим характером и повадками напоминал шаловливого ребёнка.
Однажды к нам во двор пришла соседская девчонка, моя ровесница, с приличным куском хлеба в руках, натёртого чесноком. Валет выжидательно смотрел на неё, вертя головой, а Райка как сухой чурбан: никакого внимания на проголодавшуюся псину, у которой от желания проглотить хоть кусочек слюни прерывистой ниткой тянутся до земли. Не вытерпел – хвать из рук аппетитный кусок, но Райка тут же взъерошенной квочкой налетела на разбойника и вмиг завладела законно принадлежавшим ей пахучим ломтем. Валет не уступил ей в быстроте реакции и вырвал добычу, не дав опомниться хозяйке пшеничной выпечки. Злополучный кусок переходил несколько раз изо рта в руки, как военный объект в жестоком бою. Наконец Райка окончательно победила, держа в руках запылённый ослюнявленный, изрядно помятый предмет сражения. И что с ним делать?
– На, жри, чтоб ты удавился им, – добровольно уступила позицию пострадавшая и отошла в сторону.
В следующий раз Райка пришла в новом ситцевом платье, выразительно выставив живот в обнове. Валет долго и внимательно осматривал её, потом решил испробовать одёжку на вкус: спокойно подошёл и, почти не раскрывая пасти, цапнул зубами чуть выше пупка, проделав пустую полосу до интересного места. Вырванную дорожку продолжал тянуть на себя так же, как таскал клочья старой фуфайки на мне, когда мы резвились на траве.
Тонко и пронзительно завыв, Райка побежала к себе во двор. Слышу тёти Катин разгневанный крик:
– Да чтоб он на пузе у них сдох, этот кобель проклятый. То на людей нападает, то хлеб отнимает, то одёжу на детях рвёт. А у хозяев и за ухом не чешется. Проучить бы их вместе с кобелём!
Живя с детьми в неразумном веселье и беспредельной дурашливости, не чувствовал Валет, что над его головой с каждым днём сгущаются чёрные тучи.
Во двор к Жердевым однажды пожаловали три доярки, прямо с фермы. Их Валет часто встречал за двором ночью, а тут днём припёрлись. Ну и прёт же от них навозом! Почти как перегаром от вечно пьяного Митьки. Перегар, конечно, похуже. И тут вспомнился Валету удушливый, тошнотворный запах от Нинки, когда она собралась идти на выборы – вот уж хуже не бывает! «Купила духи фиялка» – хвасталась она соседке Марфе. – Хоть по праздникам освежиться, почувствовать себя женщиной…»
Попробуй пойми этих непонятных людей…
Доярки были настроены воинственно, не улыбались, а говорили, как били из пулемёта.
– Пока что просим привязать кобеля, в другой раз без предупреждения идём в сельсовет, пусть там с вами разбираются.
– Он кого-нибудь укусил?
– Да чёрт знает что у него на уме, бегает круголя как заполошный, а нам ори и отбивайся кажную ночь. В три часа ночи мы не на прогулку идём, как понимаете. А тут руки и ноги трясутся от стараний вашего кабыздоха. Мы вам всё сказали.
Неуправляемую собаку согласился взять к себе дед Писаренко, отец Нинки.
Привязал его хозяин к яблоне, вроде бы пацаны стали воровать ранние яблоки.
Не визжал, не скулил, не лаял в отчаянии. Просто лежал сутками и ничего не ел. Сам себе выкопал ямку, лёг в неё и через неделю умер.
К несвободе надо приучать постепенно: резкие перемены в жизни даже люди редко выдерживают, а животные и подавно.
Май, 2018.
В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА
Через неделю Рождество. Дед, когда в лёгком подпитии, учит нас, детей, рождествовать, то есть, навещая родственников и просто хороших знакомых, петь молитву-приветствие. Он становится на колени перед иконой Николаю Угоднику, которая закреплена в святом углу под самым потолком, и речитативом, с прерывающимся слёзным голосом тянет: «Рождество твое, Христе Боже на-а-а-ш…» Далее слова сливаются во что-то длинно-непонятное, с остановками там, где у деда уже духу не хватает вымолвить ни одного дальнейшего слова. Выдохнув задержанный в груди воздух, дед продолжает буровить: «возсиями раисатразума-а-а…». Далее ещё интереснее: «внём по звездам звездою очахуйся-а-а…». Сидеть и слушать неразбериху у нас нет терпения, и мы начинаем пошаливать: вертимся, шушукаемся, толкаем друг друга; старший, Колька, что приводится нам дядей, исподтишка щипанёт впереди сидящего, и тот завоет не своим голосом от боли, и ему же за это и попадёт от бабушки; виновник же с открытыми честными глазами сидит сзади неподвижно, как нарисованный идол. Орущего уведут в другую комнату, неотапливаемую, и, завернув его в драное одеяло, будут ждать конца дедовой молитвы. Колька незаметно слиняет в сенцы, там у него и фуфайка, и шапка, только его и видели до самого вечера.
Господи, да когда же дед перестанет страдать и жалостливо тянуть славу Христу и его рождению?
Впереди меня на лавке клюёт носом самый меньший из нас, трёхлетний Лёнька-кацап, наш с Марусей двоюродный брат. Подняв соломинку на земле, я тихонько, еле касаясь ершистых желтоватых волос, вожу ею у самого уха. Маруся поглядывает по сторонам, следя, чтоб взрослые не увидели, и если что, она незаметно толкнёт локтем меня в бок. Лёнька вначале сонно потрясывает головой, потом начинает отбиваться рукой. Наконец, не выдержав назойливости мнимого насекомого, орёт: «Да посла на куй, прицепилась, бляцка муха!».
Дед соскочил с колен и грозно уставился на внука: «Я тебе голову оторву за такие слова! Во, кацапы чёртовы, им что материться, что песни петь – всё равно!»
Отлепившись от окна в прогон (это её наблюдательный пункт), Таиска, Лёнькина мать, накинулась на свёкра: «Да вы, папаня, сначала разберитесь, кто озорует. Какие мухи зимой-та? Энто ваши сверестёлки сзади сидят и дурью маются. А вы мамУ Лёньке уже уши надорвали. Сказано, нет отца рядом, некому защитить…»
– А у кого из них отец рядом? – нашёлся дед. – У Шурки? Так у неё его и не было. Или у Маруськи? Ксенька таку же бумагу с фронта получила, как и мы, – без вести пропал. А то получается, что ты тут у нас самая несчастная.
И матерЯ «сверестёлок» где сейчас? Одна в холодных амбарах зерно лопатит, другая управляется с худобой во дворе. А ты у нас барыня: зад отставишь – и целый день у окна торчишь, так-то оно легче жить…
Таиска, оскорблённая, нервно одевается и собирает Лёньку, сейчас побегут к своим кацапам жаловаться.
– И черти ж вас сюда занесли, думали, на Кубани рай, манна с неба сыпется, – бурчит дед после того, как щеколда на двери сама заскочила в прорезь от резкого удара.
А мы с Маруськой притихли и рады, что в перепалке дед забыл про нас, значит, пронесло, думаем.
А вот я бы Лёньку и не наказывала: если матюки есть в молитве, то малому можно было простить и не шлёпать его всякий раз по губам. Вон Мироненкова орава сыплет матюками налево и направо – и никто им ничего не говорит такого, а уж если и скажут, то тоже с матюком.
Вечереет, дед, стрельнув в нас глазами, молча вышел во двор. Таскать в хату отсыревший бурьян, чтоб подсох за ночь, – это его каждодневная обязанность.
Мы втроём сидим на уже остывающей печи; видим, как язычок щеколды на двери медленно поднимается вверх, дверь с жалобным протяжным «и-и-и» открывается – и в хату вползает ворох пахучего бурьяна на дедовых кирзовых сапогах. Лохматый оберемок с мягким шумом обрушился около печки, открыв деда сверху донизу, всего в соринках и крошках заледенелого снега. Дед отряхивается, растирает почерневшие стылые ладони, скользит по нас беглым взглядом и незло бурчит:
– И куда эта сатанюка рукавицы подевала? Вечно сунет в непотребное место, хрен найдёшь их…
Я наклоняюсь к уху Маруси и шепчу: «А хрен – это матюк или не матюк?
«Ну, хрен же – это то, что едят. Наверно, не матюк…» И мы долго думаем, почему надо искать с хреном.
Дверь с «той хаты» открылась – и вышла дедова сатанюка, с едко-загадочной улыбкой, дескать, всё слышала…
– Тут один дед свои мокрые рукавицы постоянно бросает на лавку, а вот сатанюка их подбирает и раскладывает в духовке, чтоб просохли.
– О! Явилась матушка-спасительница! – заплясал дед, подобострастно подогнув колени, был бы хвост, он им бы вилял, как наша Хрынка, когда провинится. – Ну, спасибо тебе, заботливая ты наша!
И лезет обнимать бабушку.
– Да ладно тебе, сначала пёрднешь, а потом оглядываешься, кабыть наоборот…
Бабушка гремит железными мисками, раскладывает ложки, нарезает на груди каравай хлеба и большие, как у арбуза, скибки складывает в плоское блюдо – готовит ужин.
– Да ты, мать, не спеши, до ужина мы ещё представление с тобой посмотрим – и поглядывает на нас, хитро сощурив глаза.
В тревожном предчувствии сердце шевельнулось мягким котёнком и сорвалось куда-то вниз: не забыл-таки нашей с Марусей шалости.
– Ну-ка, перепёлочки, слазьте с печи.
«Хоть бы сорваться нечаянно наземь, повредить что-то и орать, орать… Мож, пожалеет тогда» – крутится в голове.
– Та-а-к, становитесь спиной друг к дружке…
Стали, прислонились… Слышим, связывает наши косички в один узел. Потом нагнулся и связал подолы платьев. И вдруг толкнул нас вместе на кучу бурьяна.
А теперь вставайте!
Мы крутимся, толкаем друг друга, боком никак не получается. Я думаю, что это Маруська такая неловкая, а она так обо мне думает, и начинаем драться локтями, пищим, визжим. А деду весело! Потом начал плевать на нас, нарочно не попадая, и мы замечаем рядом с нашими мордахами клочки обвисшей на бурьяне белой слюны.
– Ну ты, батько, совсем сдурел, – вступилась бабушка. – Хватит нам представления, отпускай их, вечерять пора.
– Не-е-е, хай покаются, будут знать, как исподтишка вредить…
Каяться нам совсем не хотелось. Но я была более сговорчивой, стала бубнить себе под нос, что больше так делать не будем. Маруся родилась упёртой, и, если уж попадёт ей вожжа под хвост, никакими уговорами её не проймёшь. Напрасно я толкала её ногой и локтем – девчонка, как упрямая лошадка, закусила удила – и ни с места. И если бы не бабушка, долго бы нам пришлось валяться на сыром холодном бурьяне.
Маруся молча полезла на печь, отказавшись от еды. Бабушка потом совала ей под подушку горбушку хлеба, завёрнутую в тряпицу.
Я долго крутилась у мамки под боком, потому как мы спим на одной кровати-сетке. «Спросить или не надо?» – крутилось у меня в голове.
– Спи уже, мне завтра рано на работу на ток.
– Ма, а можно спросить?
– Ну спрашивай, только быстро, неймётся тебе никак.
– А что такое «очахуйся»?
– Пф, – пхукнула губами мамка. – И где ты такое слышала?
– Дедушка вчера несколько раз сказал, когда молитву читал.
– Ну вот у него завтра и спроси…
– Не-е-е, он меня по губам бить будет.
– А-а-а, значит, сама знаешь, что это плохое слово. Спи давай…
Про наши шалости вскоре было забыто, как про паньковы штаны, и мы считали, сколько дней осталось до праздников.
Дня за три все в хате забегали, заспешили: бабушка в большом чугуне грела воду, дед в сенях визжал оселком по косе, Колька таскал из стожка солому и складывал её кучей посреди двора, потом они с дедом сняли со старой кладовки дверь и положили рядом с соломой.
– Так, – скомандовала бабушка, – всем на печь и не выглядывать в окна!
Мы уже знали, что дед с кумом будут резать кабана, и нам не разрешали смотреть на это. Высунули головы только тогда, когда пронзительный визг прекратился, исходя на хрип. Над продолговатым бугорком весело заплясали язычки горящей соломы, Колька подкладывает её небольшими пучками. И страшно, и жалко кабанчика, и уже слюна скапливается от смолёного запаха шкуринки. Дедушка ходит вокруг с наточенной до блеска косой, снятой с косья, трогает, послюнив большой палец, полоску лезвия и, оставшись довольным, стоит наготове: сейчас он покажет сноровку в работе.
Сгребли нагоревшую пушистую золу, обмели веником-гольцом полтуши, и кум начал мочить влажной тряпкой обсмаленный бок. Дедушка, растопырив ноги над тушей, начал скоблить косой от головы, да так ловко у него получалось: сразу выбеливалась квадратная местина шкуры, чистая, кое-где подрумяненная и без единой щетинки. Дед знает своё дело! Кольке досталось ножом обработать ножки и уши, тоже старался без халтуры. Это он дурит, когда мается без дела, но в работе в нём просыпается рукатый мужик, не по годам ловкий, да ещё с собственной удачной придумкой.
И вот нам велено одеваться: пора душить кабана. Очищенную тушу перетащили на приготовленную дверь, укрыли сначала свежей соломой, потом старым одеялом, чтоб пропарилась шкурка на сале, была мягкой и легко прокусываемой. Нас усадили втроём на кабана: мы с Марусей по бокам, а посередине Лёнька, замотанный в фуфайку. И тут нам дают по кусочку обсмаленного хвоста и поделённое на три части зарумяненное ухо. Да что ты!
Удовольствие на все сто, оставшееся в нас где-то внутри на всю жизнь.
С годами померкла сладость обгрызанного кусочка хвостика и нежная хрумкость свиного уха. Но благостные ощущения детства остались.
Слышим разговор деда и бабушки, мол, колбасы начинять не будем, потому что такая орава слопает всё мясо, и не с чем будет сварить супа. Грустно нам от этого: и что за Рождество без колбас?
Свесившись с края печи, наблюдаем, как бабушка бросает в кипящую солёную воду увесистые куски свежего мяса; примерно, через полчаса она вытаскивает их и складывает в большую макитру, мужики опустят её в погреб и, когда рассол остынет, зальют им мясо на хранение. Внутрь куска соль не проходит, только сверху немного солоновато. Варево даже чуть подсаливают. Дух от варёной солонины такой, что ожидание обеда – пытка для нас.
В четверг в переднюю, отапливаемую хату (комнату) дед с Колькой вкатывают кадушку – бочку без верха, готовят семейную баню, так сказать.
На плите уже готова горячая вода, вёдра с натоптанным снегом заносят по мере надобности. В бочку, чтоб не всплывала грязная пена, добавляют щёлок, приготовленный из золы от сожжённых подсолнечных шляпок.
– Ну-ка, девчата, – командует дедушка дочерям и невестке, – ведите своих пострелят в сенцы на ведро, не то в кадушку напудёхают. А то нам тогда в подсоленной воде купаться.
Пропускаем вперёд Таиску с Лёнькой, она ещё держит своего матершинника над ведром.
Какая мука сидеть на ледяном ведре! Хотя его края и не острые, но в наши нежные зады и ноги они впиваются моментально, и мы поднимаемся с выразительным красным кругом ниже спины. Отметились, так сказать!
Самому малому преимущество: его Таиска опускает в чистую, никем не замутнённую воду. Лёнька в горячей воде разрумянился, вылезать не хочет, визжит, как разгулявшийся поросёнок в луже, выскальзывает из рук матери и орёт в детской ярости: «Пусти меня, кацяпская модра!»
– Ты погляди на ево, чё делат! Щас надаю по голому заду…
Все хохочут от Лёнькиных подслушанных слов, Таиска, сама красная, то ли от пара, то ли от смущения, заматывает неслуха в одеяло почти с головой: не то – опять чё-нить ляпнет всем на забаву.
Нас с Марусей посадили в бочку вместе, как мелкую рыбёшку в банку.
Загнав детей на печку, купались по очереди взрослые.
Ну вот, очистились перед праздником всей семьёй: во грехе и в грязи блага не бывает.
6-го вечером, когда носят кутью, мы с Марусей остались дома, потому как ходить по сугробам было не в чем: под кроватью пылились черевики с ушками, да ещё около двери стояли огромные, не по размеру опорки, отрезанные от старых валенок; в них мы выбегали до ветру за сарай или за хату.
Рано утром 7 января в окно поочерёдно стучали мужики – просились рождествовать. Их пускали – считалось, что в такой день первым должен войти в дом мужик, чужой или родственник – всё равно, – символ здоровья и благополучия; бабы сидели по домам чуть ли не до полудня, встретить их даже на улице было совсем нежелательно.
Мы, чистые и принаряженные, первыми уселись за стол, зная, что будет праздничная еда – пирожки с разной начинкой и холодец с горчицей. И тут вдруг бабушка опустила на стол огромную сковороду… с зарумяненной колбасой, свёрнутой спиралькой. Мы рты разинули от удивления: когда же она её готовила? Ночью, что ли? И ведь вслух рассуждали с дедом, что колбасы в этом году не будет. Побольше бы такой брехни…
И брехня, как в сказке «По щучьему велению», снова удивила нас дня три спустя: на столе появился почти коричневый бугристый кОвбык – начинённый мясом свиной желудок, с чесночком, небольшими кусочками сала и разными специями. Тут уж командовал дед: отрезАл тонким ломтем на всю толщину, потом делил пополам – для взрослых, и ещё пополам – для нас, чтоб, не дай бог, из жадности не объелись.
В сплошном, как в наши времена, благополучии счастье не просматривается, а тогда оно высвечивалось чистыми жемчужинами средь несытной каждодневной пищи. От обновы в одежде будто бы вырастали крылья за спиною; иду, бывало, в школу в новом платье с малюсенькими красными розами по тёмно-синему полю; обмётанные вишнёвыми нитками оборочки на груди пошевеливаются от лёгкого ветерка, подол мягко облепляет ноги, сзади надувается пузырём – это вам не толстая фланель, а тонкая, нежная, светящаяся насквозь материя с весенним названием – майя. Я стараюсь выглядеть серьёзной и независимой, но губы непроизвольно растягиваются в блаженную улыбку, и хочется, чтобы кто-то встретился по дороге, остановился бы и ахнул удивлённый.
А новые закрытые туфли на каучуковой подошве, которые смогли мне купить только в восьмом классе! Боже упаси сунуть в них немытые ноги! Возвратившись из школы, я протирала их от пыли влажной тряпочкой и ставила под кровать отдыхать до следующего утра. Они для меня были живыми!
Хорошо-то как! Кусты, распустившиеся мелкими густыми белыми цветочками, назывались невеста. Сломав пушистую лозу, мы примеряли её на голову, чтоб и вправду быть похожими на невесту. Цветёт она недолго, сбрасывает свой подвенечный наряд на землю и стоит на белом покрывале, пока ветер не разорвёт его и не разнесёт по всему палисаду.
Мы видели это всё! И всегда думали, что жить на этом свете можно и нужно!
ДОРОЖКА МОЕГО ДЕТСТВА
Смешно сказать, а грех утаить, но в детстве я любила куриное пение: почувствовав приход весны, леггорки брали высоко и выводили затяжной мотив до изнеможения, пока напряжённая головка с алым гребнем не начинала мелко трястись. Тогда возбуждённая солистка остановится, с удивлением посмотрит туда-сюда и снова, отдохнув минутку, заливается в весеннем экстазе. Одна сменяет другую, а то и вместе, не ревнуя и не претендуя на главную роль, поют, каждая в своё удовольствие. Даже лохмоногий глава куриного гарема в такие минуты замирает на месте, слушает, забыв на момент о своём вечном желании. Потом в нетерпении распускает одно крыло и чертит им землю, но ещё топчется на месте, как бы решая проблему, к какой певунье подкатить вначале.
В такие минуты я чувствовала замирание моего беспокойного юного сердца и безотчётную сладкую истому. Самые признанные селянами птичьи голоса – жаворонка, ласточки, иволги – не тревожили мою душу так, как весеннее куриное пение.
Чтоб не вызвать насмешек, я ни с кем не делилась своей тайной предпочтительностью, и, никем не замаранное, жило это чувство во мне долго, оставив где-то в глубине души лёгкий оттенок грусти по детским годам; они не ушли безвозвратно, не исчезли без следа, они живут в непроходимых зарослях когда-то богатого сада, в развалинах саманной хаты под камышом и всё ещё в белом убранстве старых вишнёвых деревьев.
В залётные весенние оттепели выходил на крылечко мой дедушка и, греясь на солнышке, раскуривал свёрнутую из газеты цигарку. От крепкого рубленого табака он закашливался до слёз, но, обтёршись рукавом, улыбался, незло поругиваясь:
– Эту отраву, наверное, черти придумали, а вот тянет к ней, окаянной, будто голодного к куску хлеба.
Из всех жилых помещений хаты мне больше всего запомнились сенцы – маленький узкий коридорчик без окон при входе в первую комнату Я и сейчас бы уловила особый стойкий запах, установившийся здесь – как визитная карточка нашего дома. Дух этот складывался из смазанного глиной пола, из ваксы для обуви – дедовой причуды (на дворе непролазная грязь или пыль по щиколотку, а он сапоги свои чистит до блеска!), из пучков трав – белой мяты, зверобоя и чабреца – и лука-севка в широкой корзине; бабушка оставляла его в «шубе» – мелкой мягкой шелухе, чтоб не замёрз зимою.
В тёмных сенцах даже в летнюю жару было прохладно, и дедушка иногда отдыхал на коротком топчанчике в простенке, ноги его от нехватки длины были задраны на стену, в полусне одна нога срывалась вниз, и дед недовольно рычал, мгновенно рисуя в моём воображении пса, отбивавшегося от надоедливых мух.
Бабушкино место отдыха – под кроватью на земляном полу; покрывало она опускала до самого низу, чтоб без единой щелочки, а с торцевой стороны свет заслоняла густо собранная занавеска. И чем не балдахин для богатой девицы!?
Перед дверью с выкованной щеколдой я на короткий миг останавливалась в каком-то не то беспокойстве, не то страхе: все ли здоровы и нет ли между стариками разлада. Открываясь, несмазанные петли двери тягуче и печально выводили свою неизменную мелодию: заходи-и-и-и. Первая комната, которая именовалась, как и вся постройка, – хатой, была тёплой, где на печке-грубе готовили еду, тут же, за закрытым, неудобным для сидения столом, ели. Вымытую и вытертую насухо посуду бабушка горкой складывала в этот самый стол; там же, подальше, в самых уголках, можно было найти спрятанные кусочки сахара-рафинада. Выгрызу, бывало, по сторонам маленькие подковки у двух-трёх кубиков, остаток положу на место – так можно было бабушку ввести в заблуждение: опять мыши, проклятые, завелись… Тут уж обязательно последует генеральная чистка пОлок: пожелтевшие промасленные газеты сменялись свежими, выбрасывались застарелые остатки коровьего масла, куски засохшей пресной пышки, сморщенная морковинка или усохшая половинка полосатой свёклы. Нутро стола тоже имело свой запах – как плохо вымытая деревянная маслобойка.
Моё любимое место в первой хате – лежанка на печке. Непонятно, почему небольшой квадрат с полуметровой стороной назывался лежанкой, лежать на таком пятаке мог только ребёнок до года. А вот сидеть на этом месте было тепло и уютно: под лежанкой располагалась духовка, зимой – это спасение для босоногой детворы, и мы с двоюродной сестрицей и братом, Лёнькой-кацапом, иногда дрались за злачное место в хате. Сидишь, бывало, на разогревшихся кирпичах, припекает так, что кажется, скоро пар изо рта пойдёт, а встать – значит надолго потерять подогрев и сладкую дрёму.
Этот припечек я считала своей собственностью, в семье так и говорили —Шуркина лежанка; младшая дочь Аксюта и невестка Таиска со своими детьми появятся в доме позже, и их стремление посягнуть на моё место я считала, вопреки уговорам деда, обидным и несправедливым. А надо сказать, что понятие собственности, исключительной принадлежности чего-то хорошо понимается ребёнком, и даже в изуродованной форме составляет для него особое удовольствие. Взрослые часто внушали мне, что Маруся и Лёнька – такие же родные внуки, как и я; своим детским умом я это понимала, но душа и сердце протестовали, утверждая во мне чувство исключительности и высокомерия.
В семье взрослые часто врут и думают, что дети и внуки не способны понять их притворства. Напрасно так думают. Я знала все хитрости бабушки, заранее продуманные речи и поступки по отношению к деду. Он этого, правду сказать, заслуживал, но никто не задумывался, что дети воспитываются во лжи, и если они в будущем не пойдут извилистой тропкой родителей, то это не их заслуга, а тот случай, когда поступки и характер детей формируются вопреки.
Вот на пороге появляется непрошеная гостья – Надька Репчиха, соседка и тайная страсть деда. «Тайная» – это, может быть, только дед так думает, скорее всего, ему так хочется думать. Все вокруг знают, в каком родстве она состоит с Писаренками, но при «тайных» любовниках ничего такого не говорят.
Надька начинает свою жалостливую напевную мелодию: «Ёсыповна, будь добренькой, разреши Ивану наколоть нам дров, хата совсем охолонула, девчата из-под одеяла не вылезают; я в долгу не останусь…».
Добренькая Ёсыповна не даёт ей договорить: «Да знаю я, что ты в долгах не бываешь, всегда расплачиваешься вовремя» – и смотрит выжидательно на просительницу. А та и глазом не моргнёт, будто не понимает подводного смысла сказанного. «Да вот кстати, – продолжает свою правдивую речь Надька, – от моего Лукьяна остался пиджак, он его только по праздникам надевал, отдам Кузьмичу, пусть носит на здоровье, для хорошего человека не жалко».
«У моего Ивана много чего хорошего, а одно место – в особенности, прямо-таки всем бабам нравится». «Ой, скажешь такое, Ёсыповна, не наговаривай на мужика» – стеснительно зарделась Надька. – Ну я пошла…».
Ночью дед задержался на конюшне, и Дуня понимала, что на получение долга требуется время.
Утром по разрешению супружницы пошёл помогать несчастной вдове – как-никак одна осталась, на мужа ещё в начале войны получила похоронку.
Вернулся в широченном пиджаке, болтавшемся на нём старой одёжкой, что цепляют на огородное пугало. Дуня уже заготовила речь:
– Ой, батько, хоть верь, хоть нет, но ентот пинжак на тебе как рогожный куль на медведе. Снимай: ушью, потом прикинем.
– Да сниму, конечно, ты же без подковырок жить не можешь…
Неушитый «пинжак» перекочевал в сарай, Дуня надевала его доить корову.
Майке он очень понравился, и она тщательно вылизывала его своим шершавым языком.
Уже повзрослев, я часто задумывалась, почему бабушка, зная Репчихины виды на деда, не турнула её однажды, чтоб, как говорится, и духу её не было во дворе. И лупила не раз «поганую сучку», но не далее как через неделю передавала кувшин молока или чашку картошки на борщ: подохнет же, зараза, со своими щенятами.
Потом ко мне пришло понимание, что во всепрощении заключалась житейская деревенская мудрость: люди на селе – одна большая семья, и жить соседям по-волчьи только себе во вред. Вот и дедушка наш, сколько ни ходил «по лебедям», точнее, по лебёдушкам, но дом у него был один, в котором он остался до конца жизни. Тут выросли его «сыны-орлы», тут путались под ногами «унучички-сучички», тут Дуня раскладывала на праздничном столе духмяные колбасы и круглые пироги с фруктами.
Частые перепалки в доме пугали меня в детстве, но много позже в разговоре по душам с мамой выяснялось, что для взрослых они составляли лёгкую луковую шелуху, лежащую на поверхности, подуй на неё – и там обнаружится зрелый овощ, способный перезимовать, ничуть не испортившись.
– Надька! – кричит Дуня дедовой зазнобе через прогон. – Неси чашку, молозива дам, коровка отелилась.
И Надька тут как тут с посудиной, больше похожую на тазик, чем на чашку для борща.
– Ручки у тебя не отвалятся от такой тяжести? – подкалывает Дуня, подавая полную с горкой чашку комковатого жёлтого молозива.
– Та ничё, Ёсыповна, донесу как-нибудь, зато в животе праздник моим девчатам.
– Сама-то не облопайся, а то Кузьмич выстреленного нутряного духу не переносит.
– Хи-хи-хи… И скажешь такое, Ёсыповна…
Дед Зенец, Василий Осипович, доводился моей бабушке родным братом. Вот уж я наслушалась ложных хвалебных трелей при нём и самого нелестного мнения обо всём зенцовском семействе без него. Ну пусть бабушка лебезила перед ним по старой памяти: старший брат не раз в молодости устривал её судьбу. Но почему прямолинейная взрывная по характеру моя мама ходила перед дядей на задних лапках, как хорошо выдрессированная болонка, мне было не понять моим детским умом. Дядя Вася появлялся в нашем семействе с вместительным крапивным мешком – для всего, что попадётся под руки. Ему уступали на ночь широченную двухспальную кровать, сами же старики, кряхтя залезали на печь к внукам. Утром он просыпался сущим барином: расставив на земле ноги в кальсонах, командовал: «Сапоги мне, племянничка, подай…».
– Ага, дядя Вася, обувайтесь скорее, а то земля стылая, ноги бы не захолонули…
Потом она услужливо, без его просьбы, сливала ему на руки воду над ведром, подавала полотенце.
– Чёй-то, у вас, сестрица, дух в хате тяжёлый, из лохани-то кислятиной тянет.
– Ну а как иначе, братка, в сенях лохань замерзает, а свинью кормить надо, что за Рождество без колбас да ковбыка?
– А когда думаете резать? Приеду помогу.
И приезжал без задержки. Набивали его уклунок так, что без поддачки бедняга не мог за спину закинуть. Дедушка однажды шутя на дно мешка положил деверю десятка два початков кукурузы.
– Пусть прёт, барыга чёртов, может, пропадёт у него охота помогать свиней резать.
Потом дружно вспоминали, как баба Зенчиха приглашала родственников за стол.
– Я приглашаю один раз, а не сели сразу, значит, не голодные.
Вот так и уходили не солоно хлебавши. Но зато в глаза она была умной, доброй тётей. У этой доброй тёти мамка могла украсть лифчик, засунув его в рукав фуфайки. Потом она забыла о своём приобретении, и украденная вещь демонстративно вывалилась из рукава, мамка же, будто ничего не заметив, наступила на него и сделала шаг вперёд: ничего не видела и не знаю, что за тряпки у вас под ногами валяются. Я сидела как кипятком ошпаренная, тётка скосила глаза в сторону и что-то говорила, говорила…
По дороге домой я расплакалась и стала доказывать мамке, что так делать стыдно и ещё что-то глубоко нравственное…
– Да ну их к чёрту, этих Зенцов, у них барахла – хоть возом вывози, зять офицером был, так, наверное пол-Германии ограбил.
Как же трудно было ребёнку жить среди лжи и наговоров одних родственников на других.
Моим убежищем от всякого притворства, лжи, ссор, а то и потасовок были заросший, неухоженный сад, речка со старыми вербами, а ещё дорожка к бабушке и деду, когда мы уже жили отдельно в старой хате, купленной у деда Зайца. В уединении я чувствовала себя гораздо счастливей, чем в окружении сверстников или в семье. Наверное, думать о предметах неодушевлённых гораздо приятнее, чем о людях.
Выбитый селянами односторонний тротуарчик всегда радовал босые ноги влагой и прохладой, потому как был загорожен от пыльной дороги насаженными деревьями. У Омелиных сбок дорожки росли две молодые шелковицы, на них зрели крупные сизоватые ягоды, сладкие-пресладкие. Старики Сытниковы не успевали отгонять детвору от падающих в сентябре грецких орехов. Дальше начиналось подворье Надьки Рябоконевой, открытое всем ветрам и палящему солнцу; тут тропинка давила подошвы ног засохшими после дождя острыми грудками, и надо было эту местинку проскакать согнувшись и виляя от боли из стороны в сторону; до тротуара у безмужней Надьки, жившей с малолетним сыном-байстрюком, дело не доходило. Полхаты у неё отвалилось, и дверь открывалась прямо со стороны огорода в оставшуюся комнату с окном на улицу.
Широкая хата Сербиных пряталась в глубине двора, выбившись из общего ряда, в ней жили три девочки-сироты, старшая Таня работала на железной дороге в Овечке, преодолевая каждодневно пятнадцать километров. Средняя Маша, моя ровесница, говорила, что Таня обязательно перетянет хату на станцию, чтоб далеко не ходить. Мне было интересно знать, как можно хату перетащить на другое место, да ещё через высокую гору. И Маша уверенно рассказывала: с железной дороги Таня притащит большую железяку, подложит её под хату, и они все вместе потянут её в Овечку. Эта картинка перетаскивания жилья живёт в моей памяти и сегодня: вот бы таким способом переправить мой дом поближе к городу, в котором живут мои взрослые дети.
За Сербиными начинался забор детских яслей. Тут тоже никто не позаботился посадить деревья или кустарники за дорожкой для ходьбы. Высокий ясельный дом представлялся мне казаком в красной шапке, с длинными окнами-карманами на груди. В ясли я перестала ходить за два года до школы, оставив их без особого сожаления, потому как в памяти осели обиды, нанесённые старшими детьми и няньками. Возрастных групп в колхозном детском заведении тогда не существовало, сюда детей приводили и приносили на руках. Запомнился большой зал, где на одной половине спали на матрацах малыши, на другой – дети постарше. Назойливые мухи, постоянный детский плач и тяжёлый спёртый воздух – вот что возникало в памяти при упоминании яслей.
За добротным домом яслей, который достался колхозу от врагов народа – кулаков, хата Зайцевых смотрелась распластанной черепахой с подслеповатыми окошками на улицу. Надо сказать, что ЗайцЫ расплодились на нашем хуторе независимо от родства, а так, сами по себе. Первый Заяц, (у которого мы купили хату), оставшись без семьи, по старой памяти пошёл в примаки к моей крёстной – Таньке ЛЮбой, которую со временем стали называть Зайчихой.
Вторым по счёту был ИлькО Заяц, заботливый семьянин, но вор и обжора надурняк, прямо-таки бедствие для селян: если во дворе побывал Илько, то через какое-то время хозяева обнаружат пропажу – дрючок, доску, лопату, – в общем, всё, что плохо лежало.
Так вот, многочисленное семейство Зайцевых, обитавшее рядом с яслями, ничем особым не отличалось, морковку, капусту и прочие овощи они выращивали сами и в чужой огород не заглядывали. Старая Зайчиха, вопреки своей породе, любила цветы, и за пешеходной дорожкой насадила кусты сирени, от которой хоть и недлинная, но тень всё-таки была.
А дальше начинался плетень семейства Михеенко. Старая Михеенчиха днями просиживала на лавочке, наблюдая за всеми событиями, случавшимися на проезжей дороге. А если посадить кусты или деревья за дорожкой, то улица обозреваться не будет. Вот потому отрезок дорожки около михеевского подворья был голым, но всегда чистым, прополотым и подметённым. С этим двором у меня связан один постыдный случай. Я бежала к старикам вприпрыжку, чмокая подошвами при отрыве от влажной земли. Поравнявшись с сидящей бабкой на лавке, я вдруг ощутила, как из меня непроизвольно выскочил шептун, да кабы шептун, а то что-то наподобие сердитого индюшиного клёкота.
– Во, как надо! – воскликнула удивлённая бабка. – Знамо дело: перезимуешь!
От стыда меня понесло как затравленного зайца, мне казалось, что постылый предательский выхлоп услышало полхутора. И как можно жить после этого?! С тех пор я старалась издалека разглядеть, сидит ли на своём месте бабка Михеенчиха, если да, то я проходила мимо неё не спеша, приветливо поздоровавшись. Может, забыла? Но старуха деликатно молчала, будто ничего такого и не слышала. Только бы не рассказала о моём позоре старшему сыну Николаю, которого по-уличному звали МыгОла. Мыгола вообще-то парень неразговорчивый, но если что выдаст, вся улица со смеху покатывалась.
Ну да ладно, с кем не бывает… Меньше будут знать о тебе, если сам о себе не расскажешь. А я вот до сих пор молчала и только через много лет поняла: не самый тяжкий грех совершила, бывает и хуже.
Этот случай не заслонил от меня дальнейшей красоты моей дорожки к бабушке. Самым, пожалуй, памятным оказался промежуток напротив двора Назаренко: густо насаженное вИшенье почти доставало верхушками высокий плетень, образуя тёмный прохладный коридор, который доставлял приятное удоволствие не только людям, но и животным; утром, если не стоял на страже дед Назаренко, две-три коровы непременно нырнут в этот зелёный тоннель, вынося на рогах обломанные верхушки. Иногда с жердиной в руках дежурила бабка Глушка. «Гей, трясця собачье, и прёт же вас куда не надо» – кричала она, размахивая увесистой палкой. Вообще-то, она звалась Лушкой, то бишь Лукерьей, но сельскому жителю палец в рот не клади: влепит прозвище не в бровь, а прямо в глаз – бабка была глухая. Мало сказать глуховатая, а лучше – не совсем глухая. Увидев шлёпанье губами собеседника, она без всякого напрягу отодвигала платок почти к затылку, подставляя ему крупное жёлтое ухо; мне не раз приходилось общаться с бабой Глушкой, и мне запомнился запах её уха – хозяйственного мыла с примесью керосина. Надо отметить, что керосин в те годы был панацеей от многих неприятностей в жизни: смешав с солью, им растирали больные ноги или если тебя досаждает зуд на промёрзших от холода коленях; временно избавиться от головных вшей тоже помогала эта горючая жидкость. А запах – что? Вымоешься – и нет его, лишь бы зловредное насекомое не шевелилось в твоих волосах да горела бы приятным здоровым огнём потеплевшая кожа.
А какой певуньей была баба Глушка! Она всегда начинала песню, а остальные подхватывали, но удивительно, что она никогда не выбивалась из общего тона и скорости пения.
Любила Глушка бывать на гулянках, не по приглашению, а так, если развеселившийся народ из тесного двора выходил на улицу; маленькая упитанная старушенция носилась по кругу колобком, притопывая ногами в хромовых сапожках. Не слыша гармошки, она вглядывалась в лица тех, кто ей усердно хлопал в ладоши… Уже и гармонь затихла, и ушли на перекур разгорячённые пляской мужики, и стояли в сторонке молодухи, обмахиваясь платочками, а баба Глушка продолжала отплясывать и кланяться, вызывая в круг напарников и напарниц. Потом-таки кто-то подошёл к ней и, наклонившись, прокричал в самое ухо: «Лукерья Степановна, гармонист отдыхает…» «От трясця собачье, что дурному, что глухому – всё едино» – ничуть не смутившись, прокричала в ответ Глушка и спокойно вышла из круга.
В общем, баба Глушка – это живая часть истории нашего хутора, о ней ещё много чего вспоминается, но боюсь перекособочить свой рассказ, уделив меньше внимания другим селянам.
Живёт в памяти семейство Панибрата – стоумового украинца, у которого и во дворе как в сундучке, и за двором порядок. Панибратка продуманно за дорожкой посадила кусты жёлтой дикой розы, обильной не только золотом цветов, но и мелкими густыми шипами – ну никак не сломить ни веточки, ни даже росточка с одним бутоном. Можно было отщипнуть только чашечку цветка, прилепишь его к губам и носу – и такое благоухание закружит голову, что кажется, ты во сне летишь над дорожкой.
В семействе Панибрата растёт невеста, всем подрастающим девчонкам на зависть: белолицая полногрудая красавица с весёлым нравом и притягательной располагающей улыбкой: красота каждой женщины отмечена ещё и чертами её характера. У неё сахарные зубы со щербинкой посередине – эдакая приятная завлекалочка, делающая её особенной, не такой, как многие.
Когда мы, укрывшись в кустах от насмешек взрослых, играли в дочки-матери, я, избрав роль дочери, подкладывала под платье помидоры, чтоб хоть немного быть похожей этой частью на Наташу Панибратку. Мы считали, что наш объект для подражания был всем хорош, и слава богу, что верхняя часть фигуры у нас не достигла такого размера, как у страдающей от слишком полной груди Наташи; она была образцом здоровой русской бабы, способной родить и выкормить грудью не меньше десяти детей.
Когда Наташу выдавали замуж, родители, наверное, в тоске по их далёкой родине, нарядили её украинской невестой: на голове из ярких бумажных цветов венок, с которого на спину спускались разноцветные атласные ленты.
Наши самодельные куклы были тоже украинскими невестами.
Каким-то детским чутьём мы понимали, что в настоящей семье обязательно должен быть батько, но для нашей излюбленной игры его-то как раз подобрать было трудно. Через хату от нас жили Смоленские, зажиточные благополучные люди. Кроме старших сестёр в семье рос последний – Ванюша, наш ровесник. По возрасту он подходил на роль батьки. Но… Смазливой мордахой он напоминал в большей мере девочку, чем мальчика, к тому же сестрицы для умиления и смеха наряжали его в свои платья, из которых давно выросли. Вот в таких нарядах он и проходил до самой школы. И хотя с девчачьими юбками он давно расстался, но память наша хранила белобрысую стриженую девчонку с замашками пацана: кидала камни в собак, катала на согнутой спице колесо. Но всё равно: какой же из него батько?
Батькой беспрекословно и с радостью согласился бы стать умственно отсталый Коля Мироненко; он, сколько мы ни играли в своих хатках, тихо сидел рядом, не сводя голодных глаз с обильного стола на кирпичиках. Чего только тут не было: пирожки с картошкой и печёнкой, варёные яйца и картошка в мундирах, огурцы малосольные и свежие, аппетитные куски полосатого сала, да ещё, чтобы запить, – узвар из сухофруктов в литровой банке.
Перед тем как усесться вокруг стола, понарошку мать распоряжалась: «Подайте старцу, а то он, бедняга, слюной изойдёт». На лопух накладывали целую горку снеди, и Коля торопливо запихивал в рот всё подряд, потом начинал икать, вытаращив слезливые глаза; кто-нибудь подходил и услужливо бил кулаком по спине. – Да не стучите вы по его рёбрам, оно ж больно, – опять умничала понарошку-мать, – дайте пацану попить узвару – и всё пройдёт. Насытившись, Коля тут же, рядом с хаткой, сворачивался калачиком и засыпал, а мы, чтоб не разбудить, разговаривали шёпотом.
На роль нищего он вполне годился, но никак не на роль главы семейства. А он, наверное, согласился бы стать и собакой, лишь бы его накормили: многочисленная орава Мироненко и летом и зимой жила впроголодь.
Бедных и юродивых на селе всегда жалели. Низок душою тот, кто стыдится своей дружбы с людьми, чьи недостатки у всех на виду. Разве мы сами не запятнаны всякими пороками?
А дорожка вместе со мной бежит дальше, приостанавливаясь в мыслях напротив обитателей хат: от хозяев зависела её чистота, и влажность, и вид.
Михеенко Варя – однофамилица ранее упомянутых – вдова с двумя сыновьями: старший Толик, смирный работящий парень, завидный жених, за которого любая дивчина согласилась бы выйти замуж, и младший Колька, ленивый разбышака и двоечник в школе. Его прозвище на хуторе – Мабэл. Варе пришлось доживать именно с ним, нянькой для его осиротевших детей и экзекутором для запившего от горя папаши: невестка погибла в дорожной катастрофе. Правду говорят, что даже с одного дерева плоды бывают разные.
За дорожкой Варя высадила ряд абрикосов; густо посаженные, они не сформировались в большие деревья, и плоды с них падали мелкие и, наверное, от недостатка влаги разлопавшиеся. На траве жердёлы, как у нас называли дикие абрикосы, быстро подсыхали и детишкам казались ирисками – тягучими липкими конфетами. Земля на дорожке от раздавленных плодов была неприятно липкой, а только что упавшие мягко пролезали между пальцами на ногах. Прибежишь, бывало, к бабушке – и скорей в корыто с водой: сладость приятна во рту, а не на коже рук и ног.
Дальше Вариного подворья надо приостановить свой одухотворённый бег и идти медленно, с оглядкой. Из-за Скибиного забора при закрытой калитке, как чёрт на лыжах, выкатывал рыжий кобель, который без предупредительного лая, молча хватал за одёжку так, что слышался треск разорванной ткани. Ну прямо-таки вероломное нападение Гитлера без объявления войны! Надо его, проклятого, заметить, остановиться и хоть в страхе, но закричать, угрожая убить или дать кулаком по голове. Вспоминая эти угрозы, я и сейчас смеюсь, представив свой кулак величиной с куриное яйцо и широкий собачий лоб, на котором бы любая палка треснула пополам. Но удивительно то, что этой зловредной псине, очевидно, нравилось напугать человека, а раз не получилось, он спокойно отходил в сторону, иногда приседал и одной лапой скрёб в своё удовольствие за ухом. Коль разоблачён, нечего на огонь дуть.
Из семьи Скибиных нам был интересен только Вася, подросток, старше нас года на два-три. Вот бы стать его невестой! Не только из-за вредного кобеля я замедляла ход, а вдруг Вася окажется вблизи дорожки и заметит мои кудряшки на висках и затылке, моё выстиранное платьице с синими цветочками. Я невольно выпячивала грудь с чуть бугрившимися сквозь ткань пупырышками, смиренные глазки долу, а сама вся самостоятельная и взрослая. Иду, ничего вокруг не замечаю – иду к бабушке взбивать масло. Хоть далеко ещё не зрелые, но мы уже были женщинами, а эта бОльшая по численности доля населения не способна понять, что существуют мужчины, к ним равнодушные.
По дорожке к бабушке оставалось пробежать три хаты, которые были построены много позже описанных выше подворий и людей, обитавших в них.
Понятно, что дорожка перед хатами обустраивалась не в первую очередь, да и люди ещё не успели отличиться хорошим, плохим или курьёзным поведением,
Своими историями они обрастут позже, и я о них услышу только от других хуторян. Всем известно, что предпочтительнее всего быть очевидцем, чем слушателем, потому и существует выражение: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Ах, эта дорожка моего незабвенного беспокойного детства! Воспоминания об этом времени всегда вливали в мою душу тихую, солнечную радость.
ХАМИНОВКА
Так называли мы речку и местечко перед хутором со стороны станции, где располагалось всего девять дворов: пять – по левой стороне по течению и четыре – с правой. Хаты построили люди вольно, без всякого плана, как было удобно для ведения хозяйства. Левобережные смотрели окнами на речку, но с правой стороны начиналось взгорье, какой же дурак хозяин вспашет на нём огород, чтобы во время дождей вся вода лилась во двор? Из таких соображений огороды распахали до самой воды, а хаты поставили прямо под пологими буграми, оставив неширокую плоскую дорожку перед жильём – тротуар, так сказать.
Постройки были смещёнными, и пять хат не заглядывали на огороды соседей, а те вообще любовались буграми. Так что никто никому не мешал.
Все хозяева держали гусей, и утром их выгоняли с обеих сторон на широкий каменистый перекат. Гусиные семьи, как и люди в коммуналке, собравшись вместе, долго скандалили, выясняя отношения: савченковский гусак, например, уродился, как и хозяин, страшной гулёной, чуть ли не каждый вечер он вроде бы нечаянно попадал в соседское стадо и, как ни шипел на него вожак, как ни гонялся, чтоб ущипнуть побольнее, увёртывался от нападающего, ныряя среди пышных гусынь, делавших вид, что тоже оскорблены наглым поведением чужака. Ге-ге-ге, ге-ге-ге – роптали они понарошку, но, попав в загон, усаживались вокруг него мирно, создав круговую оборону.
Тут проезжали телеги, направляясь на железнодорожную станцию; пешие хуторяне, спеша попасть пораньше на базар, искали суженную часть в воде и успешно преодолевали её разными способами: молодые девчата, приподняв плахиття, перелетали на ту сторону весёлыми пёстрыми бабочками; баб постарше и пообъёмнее дёргали за обе руки с той стороны с криком и визгом; подростки, выждав удачный момент, чтоб все заметили их прыть, разогнавшись, приземлялись так, что гукало под ногами и до слегка выбитой ямки был запас суши такой же ширины, как и над водой. «Во как надо сигать!» – говорили они всем своим видом, не спеша и будто бы совсем безразлично отходя в сторону.
Жарким летом, преодолев около пятнадцати километров пыльной просёлочной дороги (туда и обратно), возвращались домой. И речной перекат был для всех наградой за труд: и стар и мал снимали обувь и перекидывали её на ту сторону. По натруженным ступням ласково струилась прохладная водичка со своим речным говорком, иногда весёлым, иногда нарочито ворчливым, но неизменно спасительно-живым для тела и души.
Серо-зелёные камешки оздоравливающе покалывали подошвы ног, но кто-то, боясь щекотки, с визгом выпрыгивал на мягкий спорыш. Полежать на нём, вольно раскинув руки и ноги, – благодать не меньшая, чем для иных побродить по перекату.
Так вот: вернёмся к странному названию речки – ХаминОвка. Всё очень просто и очень понятно для нас, жителей хутора Первомайского. Описанное мною местечко с десятком хат называлось третьим порядком, то есть к двустороннему хутору относилась и эта третья часть. Под пологим холмом первой стояла хата деда ХаминОва, высокого поджарого старика с густой серой щетиной на лице. Он выделялся среди колхозного люда тем, что говорил на чистом русском языке, а не на хохляцком, как все остальные. Возможно, его фамилия звучала не так, как мы её произносили, скорее всего, он был Фоминов, кто его знает, местность наша долго оставалась непаспортизированной, существовали какие-то списки фамилий в сельском совете, но знакомы с ними были только конторские работники.
Из истории нашего языка известно, что буква «Ф» пришла в нашу письменность много позже и звук, который она обозначала, был непривычен для русского человека. Его заменяли теми звуками, которые усвоились с древних времён, вот почему Фёдора звали Хвёдором, а фамилия Филин произносилась как Хвилин, в быту же она сокращалась до одного слога – Хвыль. Русский выговор что хочешь переиначит на свой лад.
Хаминов считался грамотным человеком, он выступал на колхозных собраниях, и к его советам люди прислушивались, часто относились к ним одобрительно. Деревенскому мужику ведь трудно угодить, а тем более понравиться.
Люди на третьем порядке хутора жили обособленно, и мы, спеша на станцию, кто на базар, кто в среднюю школу, которой у нас не было, с любопытством смотрели на дворы и на их обитателей.
Первой рядом с дорогой стояла хата Савченко. Мы, девчата-старшеклассницы, проходили мимо двора с волнением и тайной надеждой, что вот, заметив нас, выйдет младший из сыновей – Петька, симпатичный паренёк-балагур, прозванный домашними, а потом и всей улицей – Пепа. Улыбчивый весёлый Пепа смело вступал с нами в разговор, по-взрослому интересовался учёбой и проживанием в Овечке, шутил, заливисто смеялся, а мы, заторможенные и несмелые, только поддакивали да глупо улыбались, и то сказать: Пепа был старше нас года на три-четыре. Проводив нас до речки, он возвращался к дому, мы же лелеяли надежду, что он, забыв про всё на свете, будет идти с нами до подножия высокой горы. Взобравшись на вершину, мы всегда оглядывались и часто у двора видели Пепу, махавшего нам рукою. Сердце прыгало в груди малым игривым котёнком, который по неразумности решил для себя, что Пепа в кого-то из нас безумно влюблён. И каждая из троих надеялась, что именно она причина его внимания и добродушия.
И если девчата третий порядок неизменно связывали с пребыванием в нём Пепы Савченко, до для селян гвоздём программы оторванного от хутора райского местечка считался Хаминов: для одних – дед, для других – дядька, для старшего поколения – пришлый кацап, противно произносивший «што», «разве», «кто», а не «шо», «хиба» и «хто» – как тут все говорят. «Кыто-о-о?» -скривив губы, манерно потянув голову к плечу и подкатив лисьи глаза, передразнивала его восьмидесятилетняя баба Гузыха. – Надо же так ломать язык! Нарочно не придумаешь…
Зная, что деду Хаминову бабка даёт возможность отдохнуть по субботам и заняться его любимым делом – делать из вербы дудочки, мы босиком по речке шли до хаминовского огорода. Деревенский Лель, наслаждаясь одиночеством и прохладой, сидел под вербами на лавке собственного изготовления, нарезАл зелёные палочки и что-то выковыривал из них.
– Здрасьте-здрасьте, девки красны! – приветствовал нас мастер по изготовлению сопелок, не поднимая головы.
– А с нами ещё Коля, – уточняли мы свой состав, подталкивая вперёд больного на голову пацана-подростка из многочисленного семейства Мироненко. Коля слегка упирался и рукавом рубахи тщательно вытирал мокрый рот. Обидев умом, бог наградил его хорошим слухом, и Коля правильно выводил популярные мелодии; как токующий глухарь, он никого не видел и не слышал во время пения, и в такт песне с закрытыми глазами водил головой от одного плеча к другому.
– Ну, садись, Коля, сейчас закончу и дам тебе первому опробовать музыкальный инструмент.
Коля радостно заулыбался, и с уголка рта струйкой потекла на бороду слюна.
Значит, мы будем дудеть после Коли… Да подумаешь… Ели же после него морковку, когда ещё ходили в ясли. Помню, на секунду смутившись, я вытерла замусоленную часть подолом платья и с хрустом откусила кусок поболее, ещё двое стояли в очереди и, как кролики, схрумкали сочный плод до самого хвостика.
Тут из кукурузных зарослей противоположного огорода выбралась обширная старуха в цветастом халате и, приподняв подол до колен, благополучно преодолела водный барьер.
– Здоровеньки булы, бисови работнычки! Тёща, значит, бросила дома печёное варёное, идёт помогать кур потрошить к базару, а зятёк на лавочке сидит, дудочки делает.
– И вам не хворать, Полина Власовна. Дык, Зинаида сказала, что кур щипать будем вечером.
– До вечера можно и соседских выловить…
Пошла, не оглядываясь, что-то ещё бурча и нервно подёргивая правым плечом.
Настроение деда Хаминова явно переменилось не в лучшую сторону, и он спешно стал рассовывать по карманам ножичек, отвёртку, гвоздь с петлей из суровой нитки, привязанной к шляпке.
– Ну, ребятки, оставайтесь тут, а я пошёл. А то эти две опЕзделки сейчас объединятся и вероломно нападут без объявления войны.
Необычное ругательное слово вначале смутило нас, а потом рассмешило: как же так? Если подобрать проверочное слово, например, глагол со значением «украсть», то в корне должно быть «и». Не понимая причин нашего смеха, Коля тоже хохотал и хлопал по лавочке рукой.
– Всё правильно, это такое чередование в корне, – икая от смеха, внесла ценное добавление Рая Мовчан. – Под ударением пиши то, что слышишь, а без ударения – «и».
– Ай да дед Хаминов! С такими бабами вообще забудешь про всякие там правила русского языка…
– А может, он их и не знал…
– Не-е-е, он грамотный, он книжки читает и на собраниях выступает.
В речке вдруг что-то шлёпнуло – и на минуту вода закружилась вьюном, потом выпрямилась и привычно глухо заворковала.
– Тише, девчата, тут ондатра живёт…
Мы притихли, надеясь увидеть любопытную зверюшку. Ждать пришлось недолго: свисающие с бережка плети ежевики зашевелились – и из воды вынырнула усатая морда; мы уставились на неё, а она – на нас, и нам показалось, что она молча спрашивает: «Ну, чё вам тут нужно? Ходют тут всякие…». Речная обитательница, недовольно фыркнув, нырнула с перевёртом, показав нам спину и растопыренные перепончатые задние лапки – ну прямо как у гуся – и длинный хвост-весло.
Маленькая речка, но сколько в ней интересного! И развесистые вербы, посадив которые, люди наслаждаются под их сенью покоем и прохладой; и резвящиеся на перекатах многочисленные пескари – их тогда ловили корзинами, хватками или старыми вёдрами с дырчатым дном. Зелёные лягухи выпрыгивали на травку погреться, но при нашем появлении летели по воздуху дугой, точно рассчитав место «приводнения», как заправские спортсмены. Блестящих на солнце рептилий мы, девчата, панически боялись, но пацаны быстро определяли по цвету ушек – уж это или гадюка. За ужами с жёлтыми ушками они гонялись по траве и, поймав, совали их за пазуху или наматывали на руки. Как только начиналась охота, мы, словно напуганные выстрелом воробьи, разлетались в стороны, только нас и видели! От таких развлечений девчачье сердце могло разорваться на кусочки или, оборвавшись, повиснуть на ниточке – к чему ж нам такое удовольствие?
Пора отправляться домой, но нас беспокоила ситуация в доме Хаминова: как он там? Может, мЫсля по-хаминовски, объединённые силы одновременно стреляют в него сразу из двух пушек, а острые слова-осколки бьют прямой наводкой или со свистом пролетают над головой?
Прошло более десятка лет после войны, но в Хаминове она осталась жить в его рассуждениях серьёзного и шутливого плана, в его одежде, походке и образе жизни.
Мы решили пройти мимо хаты Хаминова под предлогом попросить напиться воды. Обе «опЕзделки» мирно сидели на завалинке, намереваясь обсудить все хуторские новости за последнюю неделю; потрошение кур, действительно, было запланировано на поздний вечер, зря тёща бурчала и дёргала плечом. И дед Хаминов решил в отместку за испорченный отдых оглушить вражеский дот: он уселся совсем близко к цели, положил косьё на наковальню, и, как только одна из баб открывала рот, он начинал отчаянно бить по железу молотком. Бил невозмутимо, со старанием обязательного кузнеца, получившего срочную работу.
– Да иди ты в задницу со своей наковальней, – не выдержала внешне состарившаяся половина, для которой посылать по этому адресу деда стало привычкой.
– Только в твою, – парировал тоже по привычке Хаминов. – Там все поместятся. И он жестом показал ещё и в нашу сторону. Мы невольно стали считать, сколько же нас влезет в это самое помещение.
– Ну, закусил удила старый мерин, будет греметь, пока у самого не зазвенит в голове… Пойдёмте, мама, я вас провожу.
Поразмявшись после долгого сидения, женщины медленно поплыли к огороду, и мы невольно обратили внимание на ту часть тела, в которую соглашался отправиться дед Хаминов вместе с нами: бабкина сахарница, действительно, была кругло-объёмной и оттопыренной так, что поставь на неё ведро с водой – будет стоять и не расплескается.
По дороге домой вспомнили нашумевшую на весь хутор историю случайной краденой любви деда Хаминова.
Каждый вечер, почти без выходных, отправлялся бывший фронтовик, заставший самый конец войны, сторожевать колхозный ток на Вревском. Дорога вела его мимо последней хаты Первомайского, там обитала вдова Мария Стрекунова, красивая бойкая молодайка, фамилию которой хуторяне исказили на свой манер, вложив в неё своё отношение к бабе, которая выглядела много привлекательнее, чем замужние скромницы, – Штрекунка.
Яков Хаминов, всегда одетый в оставшуюся на память от войны одежду – видавшую виды шинель – зимой и гимнастёрку с ремнём – летом, бравым кочетом вышагивал мимо Марииного двора, весь устремлённый только вперёд и ни шагу в сторону: солдат есть солдат, без приказа – никуда. Приказ, явно носивший мирную пригласительную окраску, вскоре прозвучал из уст белолицей хозяйки хаты:
– Яков Батькович, и куда вы так всегда спешите, добро бы на свадьбу… Зашли бы на свеженький супчик с курятинкой, посидим, поговорим за жизнь…
Ёкнуло сердце бывшего солдата, давно успокоенное возле надёжной и мирной Зинушки дома и с передрёмами и перекурами на работе – чай, не военный склад охранял. Дал понять, что и не против, но и не сразу, надо же продумать…
Долгие ночи дали возможность тщательно выстроить план отступления от семейных принципов: как всё обставить мирно, не вызывая на себя огонь. Ну и, когда чего-то очень хочется, то обязательно получится. Реализация плана не заставила себя ждать.
Сердце женщины обмануть трудно, Зинушка заметила равнодушие и молчаливость супруга, но причину такого поведения на селе всегда поможет понять молва: в ней хоть и много придуманного, но доля правды всегда есть.
Летом на току люди работали и ночью, поэтому надобность в охране колхозной собственности часто отпадала, Хаминов выходил на сторожевую вахту только по распоряжению бригадира.
– Привык по ночам не спать, надо прогуляться, чтоб не маяться от бессонницы, – так объяснял Яков жене, оставляя её на мучительные раздумья.
Заметив прихорашивание мужа перед «прогулкой», решила сорвать все планы противника. Но как? Мысль явилась неожиданная и оригинальная, когда она, пока он тщательно выбривал подбородок, сидела в нужнике – мужики там любят покурить себе в усладу, а женщины продумать план действий, если таковые возникли в семейной жизни. Прервав процесс, остаток экскрементов организма аккуратно выдула из себя на газетку. Завернув со смехом ещё в один слой, вся озабоченная, вошла в сени – там уже стояли наготове начищенные хромовые сапоги для прогулки. Тишком сунула в правый – и удалилась во двор вроде бы по хозяйству. Какой возмутительный возглас вскоре вырвался из сеней, она не слышала, но видела, как её Яшка босиком, с одним сапогом в руке побежал к речке. И смех, и грех! Чего ожидать теперь в наказание? Долго сидела на бревне за сараем, но тишина, и Яшка как в воду канул. Осторожно пробралась по меже к речке, видит, сидит пострадавший на лавочке, сапог, перевёрнутый, на палке висит, стекает, значит. А бедный Яшка что-то бурчит себе под нос и руками размахивает, нервничает, значит.
Передумав всё, что могло последовать после такого вероломного действа, как-то обмякла вся – ни злости, ни жалости, ни переживаний – и улеглась спать, накрывшись с головой одеялом. Отодвинула краешек, чтоб легче дышалось, но не спится, хоть умри.
Чует, скрипнула дверь, и совсем не слышно босоногого татя в нощи, а тишина всегда пугает.
– Спишь, Зинушка? Ну спи, спи, я ещё тебе не такое устрою, долго будешь вспоминать…
И прошлёпал к двери… Куда? Что ему на ум взбредёт? Ворочалась до самого утра. Но что муженёк мирно посапывает носом на старой кровати в сенцах, даже ни разу сеткой не скрипнув, – ей такое даже в голову не могло прийти.
Кто из супругов где-то проговорился, неизвестно, но деликатная история вскоре стала достоянием не только нашего хутора, но и соседнего; начисто забыли похождение деда Хаминова, но вот поступок жены остался в памяти не одного поколения. До сих пор мучаются люди в разгадке: как же она умудрилась в сапог опростаться? Уметь надо!
Хаминовка не только давала нам обильную пищу для размышлений и обсуждений текущих событий, но обогащала наш ум интересными природными явлениями. Нашей родной речкой всегда была Казьма, заросшая камышом и кугой. Оттого что берега при обильных дождях покрывались водою, растительность на них отличалась разнообразием трав, цветов и кустарников. Здесь царствовала речная белая мята, мягкая, как бархат, зацепишь её рукой или пробежишь по ней босыми ногами – и она одарит тебя чудным запахом – удивительной смесью аромата чабреца и земляники. Зелёная садовая мята по сравнению с ней ничто: запах резкий и удушливый.
Редкими кустами селился здесь иван-чай, украшая разнотравье своими стройными розовыми каталками. Кусты веничья отличались густотой многочисленных крохотных шариков-семян, с одного куста получался хороший веник для двора; осыпаясь, он превращался в голец, но запах полынька сохранялся до конца его использования. Над жёлтыми прозрачными кустами высокого донника постоянно роились пчёлы, набирая с цветков на лапки лёгкой душистой пыльцы.
Верба росла у нас над водой роскошными деревьями с повисшими ветвями-косами. Ранней весной на ней появляются ещё не распустившиеся серёжки – первая после зимы зелёная еда для деревенских ребятишек. Они были сладковато-терпкие и хорошо жевались. Если серёжки, распустившись, залохматятся и над ними появятся многочисленные пчёлы, то есть их уже не хочется: они становятся суховато-колючими и слишком терпкими на вкус.
Речка Хаминовка на карте (о чём узнали мы много лет спустя) обозначена как Малая Казьма. Чем же привлекала она нас, на просторе голая, без всяких зарослей? Вода врезалась в ней глубоко в землю и никогда не выходила из берегов, даже весной, когда по ней плыли крыги льда. Это был настоящий ледоход, который, уже повзрослевшие, в гораздо больших масштабах мы видели в фильмах или читали о нём в художественной литературе. Первое бурное таяние снега и скопление остроконечных льдин, с шумом наползавших друг на друга, поразило наш детский ум настолько, что здесь как будто бы осталась навеки целая полоса нашей жизни – невозвратимая полоса. Плохо одетые, до костей продрогшие, мы стояли на берегу, не в силах покинуть картинку разбушевавшегося первого весеннего месяца, пронизывающего нас холодным ветром гораздо жёстче, чем зимою.
Оборванный, в ветхих одёжках Коля всегда сопровождал девчачью компанию: пацаны подтрунивали над ним и часто ради смеха толкали на сомнительные поступки. В нас же, ещё далеко не совершеннолетних женщинах, бились юные сердца будущих матерей, и мы жалели убогого пацана, подкармливали его куском хлеба или сушёными абрикосами – в общем, тем, что могло поместиться в карманах родительских старых фуфаек с закатанными рукавами.
В несчастном глупце жила опьянённая чувством благодарности детская душа, жаждущая нашего удивления и похвалы. Коля вдруг сорвал с себя дырявый отцовский пиджак и с криком «Эх, полундра! Моряком зовут недаром!» бросился в ледяную, шуршащую мелкими осколками речку. Его закрутило, завертело, как закинутый навоз в прорубь, и понесло течением. Мы бежали по берегу, кричали: «Греби, Коля, к берегу! Мы тебя вытащим!».
Наверное, сам бог не смог остаться равнодушным, иначе как объяснить то, что беспорядочно махавшего руками несчастного подростка всё-таки постепенно пригоняло к берегу. Мы с трудом смогли расцепить его одеревеневшие пальцы, чтобы оторвать от куста ивняка и вытащить на травянистую мокрую землю. Молча, не сговариваясь, поснимали с себя фуфайки и укутали совсем посиневшего, дрожащего покорителя бурной реки. «Держись, Коля! Моряком зовут недаром!» На нас смотрели печально-благодарные глаза умной больной собаки: спасибо, люди-человеки, большего мне от вас ничего не надо.
Иногда сложившейся дружной компанией мы приходили сюда летом. Берега Хаминовки даже от слабого ветерка шевелились нежным гусиным пухом, засевшего в траве в таком количестве, что за неделю можно было насобирать на подушку-думку.
От гурьбы пацанов мы старались держаться подальше, наблюдали издали, чем они заняты и чем будут нас пугать. Сидят, например, человека три-четыре со сдвинутыми головами, и все уставились вниз, в одну точку. Значит, выманивают паука: на суровой нитке десятого номера или на дратве прикреплён шарик из смолы, вот его-то и опускают в норку, туда-сюда, туда-сюда – дразнят насекомое. И наконец выныривает шарик, плотно облепленный пауком, чёрный, с белыми крапинами. Нам страшно смотреть на это, а ребятам веселье – и понеслись со своей добычей к речке – купать паука.
Но больше всего от детских неразумных развлечений доставалось бедным ящерицам; их было в ту пору много: серые – хлопчачьи, а изумрудно-зелёные, с клинчатым ожерельем на шее, – девчачьи. И чтобы насолить пацанам, мы втихаря наступали на хвосты серым ящерицам, они легко его оставляли и быстро исчезали в траве. Хвостик, то сворачиваясь в колечко, то распрямляясь, ещё долго прыгал по земле, живой. Но мы не слишком переживали по этому поводу, потому что знали, что хвост отрастёт заново. У пацанов же в подростковом возрасте жалости никакой не было. И они, обнаружив зелёную ящерицу потолще, придавливали её палкой на спине – из неё выскакивала нежно-белая гроздь яиц. В диком экстазе пацаны кричали: «Смотрите, девчата, как ваши ящерицы рожают!».
Но извели этих маленьких рептилий всё-таки, слава богу, не дети: по взгорьям пустили отары овец, своими острыми копытцами эти животные превратили богатые разнотравьем бугры в выбитые чёрные стойла. Отрава с самолётов летела не только на поля, исчезли птицы из лесополос, не стало слышно жаворонков; во множестве остались одни вороны.
В этом году нам с дочерью несколько раз довелось бывать на старом кладбище хутора Первомайского – приводили в порядок могилы наших родичей – дальних и близких. И вот в траве заюлила ящерица, маленькая, серенькая! Наверное, недавно вылезла из яйца… Потом ещё одна, и ещё несколько… И все серенькие, наверное, хлопчачьи оказались более живучими.
Пусть Бог простит наши неразумные забавы… Одно известно: там, где нет человека, природа постепенно восстанавливается. Да и человек по отношению к окружающей среде, к счастью, стал другим.
Октябрь, 2019.
Я – САНИТАРКА
Детям войны посвящается…
В детстве, когда мы начинаем осознавать себя, вдруг появляются закидоны, присущие взрослым людям. И родственники хохочут над своими малыми мудрецами: так интересно созерцать их важность, категоричность в высказываниях, копирование походки папы или мамы – как же, я уже большой!
В начальных классах появляется ещё один воспитатель – школа. Мы, дети войны, в мыслях и придуманных играх вели себя как настоящие патриоты.
Во мне всё задрожало, когда мне в руки попала солдатская фляжка, алюминиевая, изрядно побитая, в мелких и чуть покрупнее вмятинах. Её забросил, как уже ненужную вещь, мой отчим. Вода из неё казалась мне сладкой и прохладной, даже если она была из нашей горько-солёной речки.
А если уж приходилось налить в неё пресной, то она исчезала быстро, как в жаркой пустыне глоток живительной влаги.
Пресную воду мы добывали из родников в двух местах – на Вревском и на Первомайском взгорьях. Просиживали там целыми днями дети, с ведёрками и кружками.
Как-то мама раздобыла полведра дождевой воды у Лынов, у которых крыша на доме блестела на солнце красной жестью и вода по желобам стекала в «басень». Такое счастье имелось только у зажиточных людей.
Я пришла в себя, когда водички в ведре осталась на донышке. Что же делать? Из чего мамка сварит суп? Врать я не умела, оставалось ко времени возвращения родительницы с работы сбежать в сливовые заросли сада и сидеть там, пока мамка не успокоится и не начнёт искать меня. Оттого, что я нашлась жива и здорова, она помягчает душой и, глядишь, не будет кричать, обзывать меня лахудрой и отпускать буханцов по чём придётся.
Пить из фляжки на второй день оказалось нечего, лучше заняться полезным для страны делом – спасать раненых.
В фильмах мы видели санитарок в коротких юбочках, в гимнастёрках, в сдвинутых набок пилотках и с фляжками на боку. Из всего набора у меня имелось только последнее.
На чердаке нашей хаты осталось от прежних хозяев, точнее – от бабы Зайчихи, много изодранных полос тряпок для вязания половиков. Это же находка для чехла!
Сквозь пустые клеточки собственноручно изготовленного чехла просматривался тусклый сероватый металл, и сразу было видно, ЧТО это за штука в нём спряталась и для чего она предназначена. На чём же повиснет фляжка через плечо? Да вот они, неширокие тёмно-коричневые ленты из репса! Наполненная речной водой фляжка приятно постукивала по бедру, «наполовину портупея» плотно легла на плечо. Санитарка готова спасать раненых! Но сестёр милосердия в ситцевых цветастых платьях я нигде не видела. Юбка! Нужна узкая юбка! В куче тряпья для стирки я нашла старые, в заплатах штаны отчима. Не думая о последствиях, отрезала одну штанину: широкая часть – вниз, узкая – на талию, которая пусть ещё не обозначилась, но можно на животе прижать так, что она как будто есть. Через ноги я шурхнула в юбку свободно, нигде не зацепившись. Заделала учкур – юбка готова. Как раз по колено, как в кино показывают.
Нужен всё-таки опознавательный знак, что я медсестра, а не какая-то шмАра с фляжкой на боку.
Есть у мамы беленькая косынка с узеньким кружевом на длинной стороне треугольника. Тётка Зенчиха подарила. Изобразить на лбу красный крест – и готово. Красный карандаш пришлось чинить несколько раз, но косыночка тоненькая, чуть придавишь – она рвётся. Лучше крест сделать из бумаги, разукрасить и прилепить клеем.
Оценивая, посмотрела на себя в зеркало. Да просто замечательно получилось!
Одуревшим от радости козлёнком я прыгала по двору, только чтобы ощутить приятное торканье фляжки по костлявому бедру и трепет уголка косынки на ветру. Оставалось найти раненого солдата.
Тут явилась Райка, моя домашняя подруга, она на год старше меня, из благополучной украинской семьи, одета вполне прилично, но в школе меня не замечает – у неё там другие подруги.
Рассмеялась, увидев мой наряд: «Уже что-то придумал, чёртов вылупок», – так называла меня мамка, когда я её доводила до взрывоопасного состояния.
– Собирайся, у Омелиных свадьба, невеста уже наряженная, ждут жениха с Локовского. Я пока домой сбегаю, мне надо переодеться.
– Боже мой, там же шишки будут раздавать!
Шишки на свадьбу пекли по счёту – по количеству приглашённых гостей. Я знала, что всем подряд их не раздают, но иногда кто-то, бывало, поделится отломанным зубчиком – и то хорошо!
Шишки – это свадебные булочки строгой формы. Длинную полоску туго замешенного бездрожжевого теста на кислом молоке слегка раскатывали и на одной стороне делали «зубчики», потом эту полоску смазывали маслом и скручивали в рулончик, получалось круглое изделие с многочисленными острыми клинышками сверху, которые осторожно, чтобы не сломать и не согнуть ни одного зУбчика, смазывали взбитым яичным желтком. На выпечку таких изделий специально приглашали пекарьку, мастерицу в этом ответственном деле: чтоб, не дай бог, подгорят или окажутся внутри сырыми. Разговору тогда на весь хутор: у такой-то невесты шишки были сырые, или подгоревшие, допустим. И выпадет ей от этого подгоревшее или сырое счастье. Подгоревшее – это к тому, что в новой семье разгорятся скандалы, а сырое – к слезам.
Не дождавшись Райку, я в чём была помчалась к Омелиному двору. Там уже собралось много народу, и я где локтями поработала, где пригнулась, где боком проскользнула, но всё-таки очутилась в переднем ряду, как бы на виду.
Венки для невест тогда делали широкие, от середины головы до самых бровей, мелкие цветочки из белого, почти прозрачного воска символизировали чистоту и непорочность невесты.
Рая Омелина сидела на стуле в окружении стоявших вокруг, пёстро принаряженных дружек, – белая лебедь средь простых сизых голубиц. Невеста не должна быть весёлой, и у Раи на её красивых бараньих глазах выступали слёзы. Младшая сестра поддерживала сзади густо собранную, прозрачную длинную фату.
И вдруг я заметила, что впереди стоящие бабы поглядывают на меня, перешёптываются и сдержанно хихикают. В горячем желании получить хоть кусочек свадебной шишки я начисто забыла о своём наряде, а теперь, завороженная красотой невесты, пялилась на неё, приоткрыв рот. Все стоящие в полукруге с краю пялились на меня, пигалицу в странном наряде и с крестом на лбу. Тут я почувствовала, что кто-то схватил меня за руку и тянет назад, в плотную толпу людей. Это Райка, моя домашняя телогрейка, с которой мы делим все секреты и хохочем до коликов в животе над всем тем, мимо чего взрослые прошли бы мимо, не найдя ничего смешного. «Дурносмехи, одним словом», – как любила повторять Райкина мать со странным для наших мест именем – Секлета, над которым мы тоже ржали и просили разрешения называть её Света, что ещё больше смешило нас: уже старая тётка, и вдруг она – Света!
– Черти тебя припёрли на свадьбу в таком наряде, – давясь и всхлипывая от смеха, – выдавливала из себя Райка.
И тут её окликнула молодая женщина, дальняя родня Мовчана, приглашённая на свадьбу. Райка, бросив меня, птичкой полетела к тётке, и я видела, как они уминали вдвоём зажаренные до коричневого цвета аппетитные шишки. Уйти сразу не было никаких сил, в уголках рта я почувствовала выступившую слюну – так хотелось попробовать свадебного изделия. Может, Райка вспомнит обо мне и оставит хоть один острый кусочек?
Не вспомнила. Я видела, как она уже вытирает руки о поданный тёткой платочек, значит, насытилась и сейчас прибежит ко мне. Предательница! Жадная хохляцкая морда! Ты хоть когда-нибудь угостила меня грушами, что валяются у вас в саду под ногами?
В их хате в полдень всегда так вкусно пахло борщом, налитым по тарелкам, но никогда меня не приглашали за стол.
– У нас сейчас обед, пойди погуляй, пока Рая поест, – распоряжался хозяин.
И я смущённо уходила и сидела во дворе на завалинке, пока Райка поест.
– А вот ты, – продолжало кипеть у меня внутри, – всегда приходишь к нам точно ко времени, когда мамка вернётся с работы (она работала в огородной бригаде) и принесёт полное ведро самых отборных помидоров и огурцов или синих кистей раннего винограда.
– Садитесь, девчата, ешьте от пуза, – приглашала мамка.
И так вошло в привычку: есть от пуза можно было только у нас, голодранцев и непутёвых по образу жизни людей: отчим любил выпить, мягко выражаясь, а мамка, понося его за это в хвост и в гриву, варила самогонку,
Я убежала, теперь уже стыдясь своего наряда и с комом в груди от обиды на поведение подруги.
– Всё! Ноги моей больше не будет у Мовчанов! – клялась я самой себе, подражая бабушке.
Но такое случалось уже не в первый раз, потом Райка сама приходила ко мне, подлизывалась, старалась рассмешить меня, даже как-то взялась тихонько расчесывать мои запутанные неухоженные патлы и заплела косички. По-матерински вроде как. И сердце оттаяло: и снова смех до икоты, девчачьи секреты, передразнивание вредных учителей, да мало ли какие разговоры у двух подружек.
Детские горести и обиды быстро проходят, от поднявшегося настроения снова появилось желание играть в медсестру, зря, что ли, я так старалась над амуницией…
Райка после обеда не придёт, они в жару в это время отдыхают, и можно без подковырок и насмешек играть свою патриотическую роль. А тут очень кстати и «раненый» появился. Это Лёдя ЛЮбый, один из троих пацанов Марфы ЛЮбой, муж которой, долго работая на чабарне, обосновался на хуторе Октябрьском, бросив Марфу с четырьмя детьми. Семья жила впроголодь, в первую очередь, из-за того, что у них не было коровы. Марфу жалели всем миром, и вечером бабы несли кто чем богат. Мамка часто носила в двухлитровом глиняном кувшине молоко.
Так вот, появился удачный «раненый», послушный такой котёнок, обожающий молоко. В руках у него ведёрко, в котором ещё плещутся десятка полтора пескарей, он всегда угощает тётю Нину, мою маму, рыбкой, зная, что вечером она обязательно принесёт им кувшин молока.
– Лёдя! Молочка хочешь?
Пацан, растянув пересохшие на солнце губёшки, радостно покивал головой.
Ведёрко поставили в тенёк, и я, вытянувшись в струнку, отрапортовала где-то услышанной фразой:
– Я – санитарка, звать Тамарка. – Ложись на завалинку, ты – раненый!
Лёдя послушно улёгся.
– Закрой глаза и стони, громко стони!
Я присела на землю и начала полосками тряпок бинтовать голову тяжелораненого. Он послушно стонал, закатывая глаза под лоб.
– Голубчик, потерпи, родной! Скоро тебе станет легче, – ласково сыпала санитарка запомнившимися из кино фразами.
И тут я вспомнила про фляжку с водой, намочила оторванный комочек тряпицы и стала мазать губы раненого.
– Молочка хочу-у-у, – вдруг протянул раненый.
– Сейчас, родной, принесу тебе молочка, – и побежала в хату.
Вернувшись, я бережно подняла голову раненого и поднесла кружку с молоком.
– Пей, голубчик, не спеши, тебе нельзя сейчас много…
Но раненый глотал молоко так жадно, что булькало в горле, и вскоре кружка опустошилась до дна.
– Полежи, родной, отдохни, я сейчас доставлю тебя в госпиталь, – и убежала в хату, чтобы найти, на чём можно тащить раненого по глубокому снегу.
Когда я вернулась, раненого и след простыл, на завалинке валялся ком мнимых бинтов, да ещё живая рыбка плескалась в ведре.
Тут появился мой кот Ёсып (Иосиф по-церковному), услышал, наверное, запах молока и пришёл, стал ласково тереться об мои ноги.
Вот он и будет моим раненым!
Зимою, когда мы сидели с Райкой на печи, он давал укладывать себя на спину, и, сонный, как человек, протягивал передние лапки по бокам, а мы ловили шныряющих блох на его белом мягком пузце и шее.
На этот раз Ёсып неохотно лёг на спину, всё крутил головой и беспокойно бил хвостом по завалинке. Я всё-таки с трудом, но забинтовала ему голову вместе с ушами; но, видно, туговато, морда у раненого стала длинной, а глаза вытянулись вширь.
– Моо-у-у! – завопил вдруг раненый нечеловеческим голосом.
– Успокойся, родной, – включила санитарка свою тананайку и хотела уже помазать ему губы водой. Пока откручивала баклажку, раненый рванул в сад, уселся там под кустом и растопыренной лапой начал сцарапывать с головы бинты.
– Горячка! – подумала санитарка, – с такими людьми опасно работать, они и покусать могут.
И тут послышался разговор баб. Мамка с работы пришла! Я – за хату с обратной стороны, посидела в палисаднике, пока она прошла к двери, и, пригнувшись, тоже дернула в сад вслед за раненым.
Спрятав военную амуницию в тайном месте на вишне (там у меня было сделано кублО), я невинным ангелом явилась пред очима родительницы.
Шкоду мамка обнаружила через два дня, когда собралась стирать барахло. Она приподняла расправленные штаны и застыла с приоткрытым ртом: глаза по шесть копеек и сказать ничего не может.
Благо, я оказалась близко к двери, рванула, не зацепившись ни за один порог.
– Да где ж ты на мою голову взялся, чёртов вылупок! И собаки ж тебя не съели, когда ещё по земле ползала! Все соки ты из меня уже вытянула! У людей дети как дети, а моя целыми днями жопой гвозди дёргает и от безделья дурью мается… Да боже ж ты мой… за что мне такое наказание послал?
И пошло, и поехало…
Это ж она ещё про косынку не знает…
В этот раз не было надежды, что она до вечера отойдёт и простит меня. И я убежала ночевать к бабушке. Утром мамка придёт сюда сепарировать молоко, узнает, что меня черти с квасом не съели, и постепенно зло притупится; уйдёт на работу, а я буду стараться, чтоб я стала такой же, как все дети у людей.
Я сделала болтушку из глины и коровяка, смазала землю в передней хате, наломала веток акации и ореха, развешала где только можно зацепить.
Принесла из речки воды, налила курам и поросёнку. Чистить сажок для меня было мукой мученической – меня рвало от свиного навоза.
– Ты дывысь, яка барыня! – ругалась мамка. – Где воняет, там и пахнет.
Как колбАсы лопать, так за обе щёки, а как убирать за худобиной – ручки вава и носом крутим.
Но роль санитарки сидела у меня в голове сначала тихо, потом стала усиленно искать выхода на сцену. Вот бы хорошо взять в плен фрица! Но об этом и думать не надо: играть фашиста никто ни за какие коврижки не согласится. А я бы этой сволочи напомнила и о Зое Космодемьянской, и о Володе Дубинине, и о Лёне Голикове…
Мамка пришла домой вся из себя серьёзная и недоступная, молчит, как в рот воды набрала. И ничего вокруг не замечает: ни наведённой мной красоты, ни свежего запаха зелени, ни подметённого двора. И я сама для неё не существую.
А мне от этого горько и неуютно, уж лучше бы она меня побила, потом, глядишь, из жалости и разговаривать бы стала.
Взрослые из-за своей уверенности в методах воспитания часто не замечают, какие муки живут в душе их чад от умышленной отстранённости родителей и напущенной на себя строгости. Сами они уже через всё прошли, и потому им кажутся чепуховыми детские страхи и переживания. Например, у меня волосы дыбом поднимались и по спине мурашки бегали, когда отчим своим командным голосом начинал переть трёхэтажные маты. В откровенном разговоре, уже будучи взрослой, я сказала об этом маме.
– Фых, и чё б я его боялась? Не все кобели злые, что заполошно гавкают.
На следующий день я вдруг вспомнила, что в припечке у меня давно лежит граната, не использованная по назначению по причине отсутствия немецких захватчиков. Её мне по дружбе подарил Шурка Козуб, пацан на год старше меня.
– Вот, когда будут проходить по нашему хутору немцы, ты не будь дурой, а с чердака в окно брось вниз, хоть одному в башку попадёшь – и то польза.
Граната грозно блестела пробитыми гвоздями зазубринами на жести, плотно прибитой к толстой части каталки-толкушки; тонко выточенная короткая ручка вместилась в мой кулак – бей по вероломному врагу без промаху!
На высоком подъёме духа, облачившись в наряд санитарки, я снова включилась в борьбу с ненавистными врагами нашей Родины.
Перевязанный мною солдат смертельно ранен, он не может подняться. А фашистский танк с чёрным крестом со страшным грохотом надвигается прямо на нас. – Сам погибай, а товарища выручай! – мелькнуло у меня в голове.
Я хватаю гранату и ползу навстречу этому чудовищу.
– Вперёд! За Родину! За Сталина!
Услышав мой призывный боевой клич, выскочил наш куцехвостый Валет, повертелся около меня в недоумении: ползёт по калачам, а дырявой фуфайки на ней нет – за что уцепиться?
Игрун, недолго думая, улёгся около меня и тоже пополз.
Приподняв голову, я бросаю боевую гранату прямо под гусеницы вражеского танка. Но вместо танка застыл на месте Колька, мой дядя, старше меня всего на шесть лет. Он схватил гранату и уставился на меня.
– Ну, ящерка зелёна, уже что-то придумала! А где ты эту штуку взяла? Это ж кочаны кукурузы рушить – лучше не бывает.
И ушёл, размахивая гранатой, как пустым ведром.
Ну что за люди! Не дают жить спокойно… Он же мамке обязательно расскажет, а она мастер приврать, приукрасить – вся огородная бригада будет потешаться…
Надо податься в партизаны, буду скрываться в кукурузе, в зарослях акации на меже или в лопухах около речки, там уж меня никто не увидит…
Хоть бы скорей в школу. Меня там учительница часто вызывала к доске читать стихи для всего класса.
- Колокольчики мои, цветики степные,
- Что глядите на меня, тёмно-голубые?
- И о чём звените вы в день весёлый мая,
- Средь некошеной травы головой качая?
А наряд санитарки мне пригодился на концерте учеников Седьмого Ноября в нашем сельском клубе.
Наша учительница, Александра Платоновна, где-то раздобыла для меня настоящую пилотку со звёздочкой. Правда, почти четвёртую её часть пришлось сзади защепить булавками, и мне было велено после чтения снять её, прижать к груди и поклониться зрителям.
Никак не могли решить вопрос с гимнастёркой. Где её взять для четвероклассницы? Приспособили мальчишечью курточку коричневого цвета.
И вот я, в юбке из отцовской штанины, с фляжкой на боку, в настоящей военной пилотке, читаю стихи о прошедшей войне.
- Ещё не все распаханы окопы,
- Следы войны, следы прошедших гроз.
- И матери – со всех концов Европы —
- Ещё своих не осушили слёз.
- Ещё не стёрлись тяжкие обиды,
- И память павших жжёт сердца живым.
- И скорбно костылями инвалиды
- Ещё стучат по пыльным мостовым.
ГОРЕ ОТ ЛЮБВИ
Любовь, накрывшая меня в детстве, была похожа на младенский, от которого дети чаще всего умирали. И действительно, хотелось умереть, но не от тайной любви, а от грязных прикосновений к святому чувству тринадцатилетней девочки.
Мы сидели в саду соседнего дома: давно сдружившаяся компания беззаботных детей тёти Кати, оставшихся сиротами после гибели отца на фронте, и я, вроде бы не сирота, но особо не нужная моим родителям, которые постоянно находились в состоянии холодной войны, переходящей иногда в кратковременные жаркие бои.
Самую меньшую Веру, по прозвищу Мушка, мы все жалели, но каждый по-своему: я украдкой приносила ей завёрнутый в газету куриный пупочек; старшая Рая, с досады полив её с ветки горячим составом внутренних отходов, тащила орущую сестрицу к куриному корыту с водой, обмывала лицо, руки и ноги и ласково называла Верочкой.
Третьим по старшинству был Володя, записанный в метрике по имени Гаврило, – так захотелось деду Чухлебу. Мы знали его двойное имя, поэтому применяли то или другое в зависимости от сложившихся обстоятельств, последнее – чтобы отомстить за разорённые наши хатки.
Самый старший – Ваня, никакой кличкой наделён не был, в нашем составе бывал редко, но, если уж кто сильно накуролесил, мог надрать уши или поддать поджопника.
Набегавшись до изнеможения, мы расселись на траве под тенью деревьев; Мушка задремала, положив мне на колени голову, я же, зря времени не теряя, ищу в её голове вошек – тогда это было привычное дело. На кирпичиках с разведённым костерком братья установили ведро с кукурузными початками, от него уже исходит вкусный пар, и мы вдыхаем его с вожделением проголодавшегося нищего у церковного благотворительного стола; у Раи даже раздуваются ноздри, как у молодой кобылки на весеннем ветру. Я, глядя на неё, трясусь от смеха, боясь разбудить Верочку.
– И чем это у вас так вкусно пахнет? – вдруг раздаётся сзади меня.
Коля по прозвищу БАбык, двоюродный брат сёстрам и братьям Сидоренко (сидоренчатам по-уличному), спокойно подходит к братьям, по-взрослому здороваясь за руку с ними. Пока что я вижу только его спину. Но вот он, отойдя от пацанов, повернулся лицом, усевшись на бревно-скамейку. Я взглянула – и онемела… Необычно ухоженный для нашей компании мальчишка: беленькая рубашка с коротким рукавом (нам такая только снилась), аккуратно причёсанные, ещё влажные волосы, свежее, не засмаленное на солнце лицо и какое-то умное спокойствие всего облика.
Господи, что сделалось с моими руками, беспорядочно шарящими в волосах спящей Мушки? От растерянности я выдаю фразу, хуже которой и придумать нельзя: «Вставай, Верочка, пусть вошки ещё подрастут». Все загоготали, мне же не до смеха, и я чувствую, как предательский жар разливается по моим ушам, а потом ползёт на лицо. Коля, сдержанно улыбаясь, смотрит на меня внимательно, словно изучает.
Верочка уже бегает вокруг ведра, что-то лопочет, меня же пригвоздил этот взгляд к расстеленной фуфайке, и я чувствую слабость и дрожь во всём теле. Опустив голову, я с ужасом смотрю на своё замызганное платье, на вытянутые ноги в цыпках и в пыли. Как же я раньше этого не замечала? Мы все тут одинаково неряшливые и непричёсанные – как вроде бы так и надо. Оказывается, можно быть другими, как этот Бабык, получивший прозвище за то, что он был любимцем бабушки Чухлебки; он откуда-то часто приезжал в гости, и тогда бабушка слепла от любви к нему и никого из пятерых внуков и внучек в упор не замечала.
– Они тут каждый день мне глаза мозолят, а Коля – редкий гость, – так отвечала она на упрёки обеих дочерей своих – Гали и Катерины.
Ваня уже кладёт каждому на подставленный лопух по два кочана, я же, зажатая ложным стыдом, оказалась последней. Покрутив по отвару вилкой, он смотрит на меня недоумённо, потом, подняв плечи до ушей, спрашивает:
– Как же так получилось, я же всех посчитал?
Всех, да не всех – Коля-то пришёл попозже. И стою я с этим дурацким лопухом в руках, как в той игре, которая у нас называлась «замри»: надо застыть в той позе, в которой тебя застала команда ведущего.
Коля спокойно поднимается со своего места и, глядя на Ваню, говорит обо мне в третьем лице, как будто меня тут нет:
– Пусть мои возьмёт, а я пойду домой, бабушка сегодня тоже кукурузу варит.
Чтобы не подсесть сразу к подаренной мне кукурузе, я, будто вспомнив что-то важное, наигранно весело реагирую:
– А у нас есть коровье масло, как раз к кукурузе, сейчас принесу.
– Давай тащи, – не поднимая головы, отзывается Володя-Гаврило.
Я птичкой срываюсь с места, а у самой в голове буравит мысль: господи, хоть бы не споткнуться и не выдать с потрохами своё замешательство и волнение. Сидоренчата, вроде бы полные дури, всё замечают и тут же выдадут умозаключение в таком неприглядном виде, что, как говорится, хоть стой, хоть падай; а им что? Им на рот тряпку не накинешь.
Я забежала в хату – и сразу к зеркалу, давно покрытому пылью. В протёртый рваный круг на меня смотрит растерянное лицо; неухоженные волосы выбились из косичек и залохматились, как на цветке «нечёсана бырыня». На шее синяя жилка мерно пульсирует, будто под прерывистым током. Может, умыться?
Или вымыть ноги? Нет, это сразу заметят… Тогда мои прихорашивания мне соком выйдут – раскусят и задразнят.
Я беру тарелку с размягчённым маслом, иду медленно, чтоб выглядеть спокойной и даже равнодушной ко всему. Но напрасны мои мучительные притворства – Коля ушёл, и стало вокруг пусто и скучно.
К маслу тянутся по кругу замызганные пальцы, и каждый, зацепив кусок поболее, промазывает ещё горячие початки.
Какая гадость – эта кукуруза! Все, как поросята, сопят над ней, катают в руках и по-собачьи жадно выгрызают по несколько зубчиков.
На опустевшую тарелку я кладу свою порцию и молча ухожу домой. Одним кочаном я угощаю своего дурашливого Валета, другой сунула в сажок: пусть Васька насладится поросячьей едой.
Нет, в таком грязном платье ходить стыдно; когда мамка стирает накопившееся барахло, я надеваю рубаху-безрукавку, в которой сплю, сшитую бабушкой вручную, она из белого ситца, поэтому к концу дня уже не понять, какого она цвета вообще. Облачившись в ночной наряд не первой свежести, я стираю в тазике своё платье – впервые! Хорошо, что недавно прошёл дождь, и пресной воды – целая бочка. Мыльная вода – для того, чтобы вымыть ноги и руки.
Надо всё сделать по хозяйству, иначе мамка будет громко полоскать меня на весь двор.
Я даже суп сварила на кирпичиках, но боюсь, что, если он не понравится маме, она скажет, что его на собак вылей – и те не станут жрать.
Родители возвратились вместе на чабанской бедарке. Я, вся озабоченная, молча ставлю чашку на стол.
– Есть будете? Я супа наварила.
Мать оглядывается кругом, к чему бы придраться.
– А что это ты расстаралась? Не иначе, как сотворила что-нибудь?
Отчим первый уселся за стол и, хлебнув ложку-другую, сказал:
– Да хороший суп, я давно такого не ел. И продолжал, облизав ложку:
– Напрасно ты на неё наезжаешь, похвалила бы лишний раз. Легче всего пустить вразнос да леща испечь. Разуй глаза: хозяюшкой она у нас вырастет.
– Ой, батько, поджал бы ты хвост и не спешил похвалу из рукавов сыпать. Сегодня всё хорошо, а назавтра посмотрим, лучше уж не спешить мёдом по губам мазать.
Наевшись, пошли отдыхать. Как же хорошо, когда они не ругаются! Но так бывает редко.
Я боюсь идти к сидоренчатам, и захватывающие до одурения игры с ними кажутся мне сумасбродными, иногда даже постыдными. Сейчас бы я ни за что не согласилась быть пиратом при взятии богатого корабля. Корабль – это наша хата-развалюха. На чердак можно было залезть с двух сторон – со стороны сенЕй, карабкаясь по двери и уцепившись за выступавшую балку, и с внешней стороны, если приставить лестницу к открытому лазу. Капитаном, отражающим натиск грабителей, неизменно назначался Володька-Гаврило. Мы со смехом и диким ором, повязав наискосок головы платками, лезли с двух сторон, капитан же отбивался как мог и почти всегда успешно: он бросал нам на головы всякое тряпьё, клубки нарезанных лент для половиков, какие-то ссохшиеся куски овчины – в общем, всякий лёгкий хлам, накопившийся у бывших старых хозяев хаты. Измотавшись на двух оборонительных участках, оторвила с двойным именем решился на последний шаг: с высоты корабля стал поливать нас горячей желтоватой струёй, и мы, ошарашенные таким приёмом, сползли на землю. Пока вытирались подолами платьев, кто-то сообразил, что струя иссякла и можно снова ринуться на абордаж.
Вскоре все шесть или семь человек оказались на ветхом чердаке. Ура! Победа!
При первом же обильном дожде вода с потолка потекла ручьями в нескольких местах в передней комнате, и мы с мамкой едва успевали подставлять посудину, какая только нашлась в нашей хате.
– Чёртов дед Заяц, обманул нас, втюхал дуракам развалину – и радуется, что избавился, – ругалась мамка. – За такие деньги легче было бы новую хату построить.
Нет, сейчас бы я не решилась на такую неприглядную во всех отношениях игру в пиратов.
В одиночестве я стала слышать пение птиц, особенно меня волновало заклинание иволги: «во веки веков! во веки веков!» Я всматривалась в густую крону орешника, куда она постоянно прилетала, и никак не могла её обнаружить. Как выглядит эта чарующая невидимка? И однажды она взлетела, показав золото своего оперения! Сердце моё заколотилось так, будто я увидела сказочную жар-птицу. Теперь я не только слышала и слушала её дивное пение, но и хорошо представляла её всегда праздничный наряд.
Если подняться чуть вверх, на покрытый душистым чабрецом бугор, то ещё издали услышишь непрерывное пение зависших в небе жаворонков. Меня всегда удивляло, как они лишь в частом трепыхании могут не падать и оставаться на той же высоте? Все птицы летают, а этот волшебник летает на месте, извлекая из своего крохотного тельца чудную непрерывную трель даже в самые жаркие дни.
Однажды мне выпало счастье увидеть пару жаворонков, быстро передвигающихся по земле меж кустами: сами они ничем непривлекательной серой окраски, хвост как у воробья, но зато на головках – острые хохолки, словно боевые миниатюрные шлемики. Бойцы, однако!
Я стала беспокойно спать: меня бесконечно волновало утреннее и вечернее пение перепёлок – пить-пиить! пить-пиить! – плачутся они в сухой созревшей пшенице. А тут ещё и радио – чёрная картонная тарелка – в утренних концертах по заявкам голосом певца Виноградова постоянно напоминает мне о чудесных полевых птицах, живущих рядом с нашим хутором.
Всю ночь поют в пшенице перепёлки
О том, что будет урожайный год,
Ещё о том, что за рекой в посёлке
Моя любовь, моя судьба живёт.
Через дорогу в зарослях акации я обнаружила небольшой куст розы – там когда-то жили люди, умершие во время голода. И вот в тишине, в полутени я наслаждаюсь запахом первого распустившегося розового блюдца – настолько крупными были цветы безымянного сорта розы – моей тайной любви к ней и душевного неспокойствия. Осенью, когда листья акации разлетелись от холодного ветра жёлтыми мелкими бабочками, я пришла сюда, чтобы выкопать розу и поселить её в своём саду. Но – увы! – на её месте осталась лишь свежая чёрная земля, посыпанная опавшими розовыми лепестками.
Я со своими грёзами жила одна, не с кем было поговорить и открыть душу.
В маленькое оконце, которое выходило в соседний сад, я наблюдала игры моих ровесников, но сама там бывать опасалась: вдруг при Коле обзовут меня обидной кличкой или толкнут так, что упаду в грязь или пыль…
Я слышала, как, завидев двоюродного братца, Верочка-Мушка с радостью кричала: «Бабык, Бабык пришёл к нам!», – и висла у него на шее. Он никак не реагировал на свою кличку, сажал неразумную сестрицу на шею и галопировал с ней по саду. Он был совершенно здоровым мальчиком, я же была поражена вирусом тяжёлого безответного детского чувства.
Однажды развесёлая ватага играла на улице, Коля бегал вместе со всеми. И я решилась пройти через эту галдящую ораву, просто так, независимо, спокойно, для отвода глаз поедая яблоко. Иду, а колени предательски подгибаются, яблоко съедено вместе с сердцевиной, только жёсткий сухой хвостик застрял в зубах.
Все пацаны тётки Марфы ЛЮбой играли в жмурки, пулей пролетая по двору, дома оказалась только самая старшая – Клава. Ей было уже за 18, говорили, что у неё есть жених. Мы разговорились, и Клава рассказала мне, как они с Петром ходят гулять на пруд и он каждый вечер ждёт её на свидание.
В порыве откровения и я призналась, что мне нравится Коля Чухлеб.
– Вы уже целовались?
– Да ты что? Он даже ничего не знает об этом.
– Чудачка, – сказала она. – Все целуются, когда любят друг друга.
После такого разговора появилось гадкое чувство, что Клавка без приглашения вошла в мой сад и потоптала ногами мои любимые астры.
Вечером мама пошла на посиделки к Марфе, прихватив с собою кувшин молока: все соседи жалели брошенное Афанасом семейство и помогали кто чем мог.
Она вернулась поздно вечером, когда я перед сном решила выпить стакан молока с сахаром.
Залезая под одеяло, она спокойно задала мне вопрос, от которого чайная ложечка в моей руке забилась безостановочно по стакану мелкой дробью, издавая глухой звук.
– И что ты нашла в этом Бабыке? У него батько гуляка, и он таким же будет.
У меня хватило сил поставить стакан на стол, не расплескав содержимое.
Я молча залезла на печь, но лёжа не могла дышать, и мне пришлось всю ночь сидеть в углу затравленным зверьком с мыслями о смерти.
Мать ушла на работу, не разбудив меня, как обычно. Я залезла на чердак и стала смотреть сквозь щели в камыше на улицу, где беззаботно играла ребятня.
До сих пор пытаюсь понять, откуда появилось чувство страха и позора? Какое преступление я совершила? Не оттого ли, что взрослые никогда по-доброму не относились к чувствам молодых людей? Она ж бегает за ним, как собачонка… Да он давно с ней таскается… Сам гуляка, и сын его таким же будет: поматросит, да и бросит, а она в подоле принесёт… Только так могли отзываться о молодых бабы, будто и не было у них никогда своих сердечных приключений и переживаний.
Я стала по-детски рассуждать, как умереть так, чтоб не было больно. Я видела покойника, которого только что сняли с верёвки. Ннет!!! Я так не хочу!!!
Лучше подождать зимы, а потом, когда наметёт снегу под самую крышу, сделать в отвесном сугробе дыру, залезть туда и тихо умереть. Говорили у нас, что это самая лёгкая смерть. Вот только жаль, что не увижу, будет ли плакать по мне мамка. Знать бы, что не будет, то и не стоит умирать. Я буду жить совсем по-другому!
Время вылечило меня от младенческой болезни.
Когда у каждой из нас уже была своя семья, я, встретившись с Колиной двоюродной сестрой, рассказала ей о своей детской влюблённости в Бабыка. Оказывется, она об этом ничего не знала. Поведала мне, что брат живёт с семьёю в соседнем районе, жена страшно ревнивая и к тому же грязнуля. Сын – пьяница, ему за тридцать, а он до сих пор не женат. Коля, ложась спать, крестится и читает «Отче наш».
– Да мы бываем у них иногда. Звонит часто и приглашает в гости. У них там природа замечательная. Хочешь, поедем с нами недельки через две? Вот и увидишь, как живёт предмет твоего детского увлечения…
– Нет, Рая, совсем не хочу. Прошло столько лет… Пусть останется у меня в памяти чистый, аккуратный, черноглазый мальчик, лицом похожий на свою маму Полину, тихую женщину, покорную своей нелёгкой судьбе.
Февраль, 2020 г.
МЕДОВЫЙ СПАС
Вспоминается мне послевоенное несладкое детство. Мы тогда знали только сладкий корень, слово «солодка» появилось в нашей речи много позже, когда мы уже имели собственных детей и лечили их от кашля густым коричневым сиропом из аптеки. Болящих неслухов трудно было уговорить проглотить ложку противного приторного зелья, удавалось только со сказками да прибаутками. Нам бы в этом возрасте преподнесли такую вкуснятину в пузырёчке, чистенькую и слаще всякого мёда, о котором мы только слышали!
В поисках сладкого корня мы сквозь камыши пробирались к оползням над речкой Казьмой, именно там почти по поверхности рыхлой земли протягивались коричневые верёвки этого деликатеса. Выдёргивали предлинную плеть, отрезали на каждого по куску (у пацанов всегда были с собой ножички, у кого складные, у кого половинка отломленного ржавого столового ножа, а у кого-то просто отточенная узкая железяка с тщательно замотанным просмоленной дратвой концом – ручка). Кое-как прополоскав в речке свою порцию, начинали жевать жёлтую в середине верёвочку, и вкуснее на свете ничего не было! Мы усаживались на верхнем краю обрыва – чтоб уж удовольствие, так на все сто! – ноги удобно свисали вниз по мягкой земле, руки заняты передвижением жвачки: отработанная часть растрёпанной мочалкой свисала в одну сторону, цельная ещё торчала в углу рта шершавой палочкой.
И этот сладостный процесс протекал в полной тишине, мы сидели с посоловевшими от кайфа глазами, устремлёнными куда-то вдаль, до самого горизонта. По мере насыщения начинали приходить в себя, поворачивать головы и видеть замурзанные морды рядом сидящих: вокруг рта накладывалось грязно-жёлтое, шириною в палец, обрамление, как у циркового клоуна, разница была только в цвете гримировки. Кто-то хихикнул, за ним все остальные уже смеялись до слёз, показывая друг на друга пальцами и падая на спины, раскинув руки в стороны. Мягкий ковёр примятой повилики с нежными тонкими граммофончиками одаривал нас терпким запахом настоящих природных духов, не назойливым, как искусственный, а постоянно свежим в силу своего воздействия на окружающий мир.
Побросав недожёванные венички, стали съезжать на пятой точке с обрыва к речке: надо же умыться, чтоб дома догадались, что мы не какие-нибудь ряженые, а их ближайшие родственники: запылённые так, что одни глаза блестели, в волосах колтун, как у некрасовского белоруса, с цыпками на исцарапанных ногах; обтрёпанный низ байковых платьишек лохматился запутанными нитями, словно шерсть неухоженной собачонки. Без шума и крика не обходилось, когда нас кое-как обмывали перед сном: кожу на ногах щемило нещадно больно и долго.
Если в хозяйстве была корова, то с голоду не помрёшь, но вот те два месяца, в которые кормилица находилась в зАпуске, приходилось туго. Хорошо, если бурёнка отдыхала перед отёлом весной: тогда мы, дети, как и животные, переходили на подножный корм. Я и сейчас хорошо помню, какие травы и цветы мы ели. Может, потому ещё и живём, что, питаясь ими, пополняли организм всякими полезными соками дикой природы.
Сладость находили мы во многих растениях: в цветах белой акации – кашке по-нашему, в молодых черенках болиголова, в ростках козелика (козлик), в зайчиках (медвежье ушко), в побегах молодого камыша, когда он только-только острым шилом показывался из воды, но больше всего – в солодке.
Лето одаривало нас фруктами и овощами – тут уж грех было жаловаться на жизнь.
В знойном августе наступал Медовый Спас, о котором говорили наши родители, но о мёде мы только мечтали.
Пасека на нашем хуторе была лишь у одного хозяина – Кузьмы Смоленского.
Чёрная зависть со стороны селян не обошла ни одного рачительного хозяина; все, кто трудился с утра до вечера, именовались куркулями, скрягами, жмотами и людьми хитроватыми, так сказать, себе на уме. А то, что этот самый куркуль кормил от пуза ватагу детей мёдом при первой качке, самым пахучим и полезным для здоровья майским мёдом, – начисто забывалось. Но дети, выслушивая «заумные речи» взрослых, пропускали их мимо ушей, а помнили и щедро расставленные на самотканых дорожках тарелки с прозрачным, чуть желтоватым мёдом, сквозь который видны были синие цветочки дна посудины, и нарезанный большими скобками отрубной свежеиспечённый хлеб горками: ешьте, пострелята, сколько душа пожелает.
Марфа, хозяйка дома деревенского «жмота», полноватая старуха в рясной юбке и белой кофте навыпуск, хлопотала, обходя наш по-царски щедрый стол: то хлебушка подложит, то малосольных огурчиков добавит на плоское эмалированное блюдо. Насытившись так, что и одного кусочка уже не могли проглотить, мы с липкими ладошками, а малышня с заляпанными мёдом голыми пузами, отползали от мисок, но всё ещё с сожалением поглядывали на оставшийся мёд: такая вкуснятина осталась на тарелках, а вот уже в рот не лезет.
Дед СмолА (в сёлах, как обычно, фамилию в разговорах сокращали до минимума) стоял в сторонке, опершись на суковатую палку, и столько неги светилось в его глазах, ведь делиться своим добром, да ещё с этим, ещё не испорченным человеческими пороками народом, всегда было приятно.
И вот взрослые заговорили о Медовом Спасе. А мёда-то ни у кого нет…
– А вы побЕгайте около двора деда Смолы, мож, догадается угостить вас медком в честь праздника, – нашлись праведные люди, так завидовавшие этому тощему старику, неспешному работнику и в своём, и в колхозном хозяйстве.
И вот около двора «скряги» уже гурьба разного возраста ребятишек, шумливых, как стая воробьёв в курином базу: кричат, ссорятся, похожие на обитателей коммунальной квартиры. Но никто нас не слышит, во дворе тихо, видно, старики отдыхают. И тут в нашем птичьем гвалте образовалась пауза: на деревянное крылечко вышел Ванюша, самый младший внук деда Смолы, сын старшего сына Василя, давно отделившегося и жившего самостоятельно с пятью детьми. Это для деда он Ванюша, а для нас как ровесник и друг по жмуркам – Ванюха Смола. Мы радостно замахали ему руками:
– Подойди к деду и скажи, что мы поздравляем его с Медовым Спасом.
Пока парламентёр был занят важным политическим делом, мы сидели в напряженном ожидании, притихшие и покорные судьбе – будь что будет. Надежда на счастливый случай появилась на крыльце со скатанной дорожкой под рукой, в белой выбитой косыночке и в цветастом просторном платье.
– Кто там из вас постарше, – обратилась она к нам, не сходя с крылечка, – расстелите на травке ряднушки, сейчас я тарелки вынесу.
Помощники носились по двору, словно голуби летали по рьяному ветерку.
Современные дети, в семьях которых всегда мёд на столе, даже представить себе не могут счастья послевоенных полуголодных детишек, дорвавшихся до мёда как до райской еды: в их организмах жила с постоянной пропиской нехватка сахара.
И что бы ни говорили взрослые о Кузьме Смоленском, как мы теперь понимаем, из зависти, мы, дети, запомнили его как доброго ангела.
Своим детским умом я долго не могла понять, почему на тех, у кого около дома деревянное крылечко с резным навесом, летели хула и неприязнь? А вот мы, дескать, живём проще. Куды нам до этих куркулей! Да не проще, люди! А беззаботно до безобразия: со двора – прямо в земляные сенцы с выбитой ямой от коровьего помёта. В сарае крыша тянулась только до середины помещения; наступали холода, и корову прятали от дождей и снега в сенцы, топтались по навозу и тащили его на ногах в хату.
Почему у деда Смолы росли в саду яблони, груши, ранняя вишня майка – мечта сельских детей, а у нас вся земля засажена картошкой и гарбузами, то бишь, тыквой?
Самой бедной на хуторе считалась семья Васьки и Дашки Мироненко. Как же? У них было шестеро детей!
И никто не вспоминал, что у деда Смолы их, детей, было столько же! И все при деле! Росли в труде и строгом воспитании.
Ах, хотелось рассказать только о памятном Медовом Спасе, а вышла на рассуждения о жизни.
С Медовым Спасом вас, дорогие читатели!
Август, 2019 г.
БЕЛЫЕ НОСОЧКИ
Моей недосягаемой мечтой были белые носочки, какие мы видели в школе только на двух девочках из класса ниже. Звали их не как всех остальных с пренебрежительными суффиксами в составе имён – Райка, Шурка. Они были Любочка и Милочка. Первая – дочь колхозного ветеринара, вторая – местной врачицы, Марии Васильевны. Врачица жила с семьёй прямо в амбулатории, в правой половине дома, отделённого от приёмной общим коридором. Мы, если нам приходилось увязаться за родителями, таращились на чистые, крашенные бордовой краской дощатые полы и на входную, наполовину застеклённую дверь в жильё, откуда иногда выходила Милочка, бесцеремонно заглядывала к матери в кабинет, что-то выясняла и, никого не смущаясь, проплывала назад, вся такая озабоченная и уверенная в себе.
Так вот, начиная с сухой весны, обе неразлучные девочки, приходили в школу в белых носочках, ладно обтягивающих их тонкие ножки в красных сандалиях.
Если вдруг погода портилась, за ними приезжал на бедарке ветеринар Кобзарь Дмитрий Васильич, уважаемый среди селян, может быть, даже в большей степени, чем фельдшерица.
Однажды мне пришлось идти на станцию за семь километров от дома одной – купить порошок для чернил и несколько пионерских пёрышек. Взобравшись на крутую гору, мы всегда переводили дух на её вершине, осматривали издали наши хутора и, отдохнув, продолжали путь дальше. Ещё не дойдя до пятачка, я увидела разбросанные кусочки ткани, самой разной формы, белые, с голубоватым оттенком. Сердце зашлось в радости и надежде: может быть, из них можно будет сшить белые носочки? Разувшись, я стала обматывать ступню самым большим куском, придавила в щиколотке, получился шикарный носок, благо, ткань была трикотажной и хорошо тянулась. Попыталась найти и для второй ноги, но всё остальное было мелковато и не закрывало даже половины подошвы.
Ну ничего, успокаивала я себя, дома я сошью несколько лоскутов в один – и получится второй носок. На станцию я полетела на крыльях: чем скорее вернусь, тем скорее возьмусь за работу. Всё выпало из моей памяти: как добежала до сельмага, как выбирала нужное для школы, как возвращалась назад, не замечая ни пения птиц в небе, ни распустившихся красных воронцов по обочине просёлочной дороги.
И вот я дома! Разложила находку на лавке, стала собирать несколько кусков в один. И сразу же примерять на ноге! Но вот досада, сшитые треугольники и квадраты пузырились и не тянулись: они были порезаны в разных направлениях нитей ткани: одни продольно, другие поперёк, третьи и вовсе наискосок. И как я ни лепила на ноге заготовку, она топорщилась и не держалась даже привязанная резинкой.
Измученная напряжением чувств, угасшей радостью и неудачей в портняжном деле, я сникла, расслабленно повалилась на подстеленную ряднушку, не слыша вопросов мамы и её бурчания на мою дурость и мусор в голове.
Словно почувствовав горечь хозяйки, запрыгнул ко мне на печь мой кот Ёсып.
Ах, мой хороший мурлыка! Он всё понимает: усердно трётся по моему лицу своей усатой мордочкой с холодным мокрым носом и так старательно урчит, урчит. Его незатейливая песенка действует на меня умиротворённо и сладко, насылая дремоту, сон и покой. И всё то, что я пропустила за день мимо внимания, – и зависшего в небе жаворонка, и дальнее дрожание жаркого марева на дороге, и запах чабреца и ягодников со скатывающихся бугров, и лупатые глаза красного горицвета – всё пришло ко мне в тихом спокойном сне.
Наутро я проснулась бодрой и свежей, без понукания и ругани мамы. Ёсып всюду бежал впереди меня, путаясь под ногами и весело подняв хвост трубой.
«И что ты парилась вчера?», – словно выговаривало мне за вчерашнее уныние умное животное. – Нужны они тебе, эти носки, как в петривку варежки. Хочешь быть похожей на Любочку и Милочку? Ходить, оглядываясь, не прилипнет ли к твоим белым носочкам кусок грязи, не запылятся ли они, когда ты летишь с бугра, как на крыльях, прыгаешь через речку Казьму с разбегу, не боясь ни репяхов, ни мелких вошек-семян – к чему им липнуть? Ну пусть твои сандалики станут на два размера больше, их можно привязать, проделав в задниках дырочки шнурками от старых ботинок, и они ещё послужат тебе до конца лета. Зато ты вольная птица с развевающимся на ветру подолом платья, с выгоревшими на солнце волосами, с шоколадным лицом и постоянным пением в душе и наяву.
И кот запел Шуркиным голосом:
Всё стало вокруг голубым и зелёным,
В ручьях забурлила, запела вода,
Вся жизнь потекла по весенним законам,
Теперь от любви не уйти никуда…
Прошло много лет. Так много, что и считать не хочется.
В районной больнице я разговорилась с женщиной, у которой приключился жесточайший бронхит; кашель будто бы вылечили, но голос пропал, и она шипела, подойдя ко мне вплотную.
Узнав, что я с Вревского, она заулыбалась и прошептала, что у неё невестка с Вревского.
– А кто?
– Люба Кобзарь.
Ах ты, боже мой, та самая Любочка в белых носочках…
– И как Вы с ней, ладите?
– Пойдёт, – кивнула она не очень уверенно.
У меня тогда вышла первая книжка, и в ней рассказ о поросёнке, которого вылечил наш ветеринар, Любин отец.
При выписке мы обменялись телефонами, и я подарила ей свою книжку.
– Я обязательно дам прочитать Любе, ей должно быть это интересно.
Она позвонила мне недели через две, теперь уже полным, приятным голосом рассказала, что после Любы прочитал рассказы и её супруг, читал с интересом, забросивши на время и рыбалку, и копание в своём гараже.
– А что же Люба? Там же про её отца с благодарностью и доброй памятью.
– Сказала, что ничего особенного не вычитала, а у отца это была повседневная работа.
Вот так вот. У каждого в жизни осталось своё, особенное.
Апрель, 2019 г.
БУЛЬКА
Прочитала публикацию Т. Журавской по рассказу Л. Толстого «Булька» – диафильм. У нас в семье была своя история с «Булькой».
Я каждый вечер читала про Бульку, ничего другого пятилетний сын слушать не хотел. «Читай «Бульку» – и хоть ты тресни! У меня голова падала от усталости и от того, что текст запомнился почти наизусть и хотелось спать. Я на миг засыпала, начинала бубнить бог знает что, а сын теребил меня и кричал: «Не так читаешь!».
Потом случилась болезнь. Дочь, уже шестиклассница, принесла в квартиру выброшенного котёнка, спасла, так сказать. Но он оказался больным, и дети дружно заболели лишаём.
Я не хотела отдавать детей в больницу и начала лечить своими средствами – кто чем посоветует. Соседка принесла сумасшедший рецепт. Сырое яйцо со скорлупой растворили в уксусной эссенции, потом для мягкости добавили сливочное масло. «Мягкости» не получилось, мазь так и осталась пекучей до невыносимости. Серёжка орал во всё горло: «Читай «Бульку, читай «Бульку» – так он спасался от боли и постепенно успокаивался. Дочь, виновница болезни, кривилась, но терпела.
Там, где я мазала, пятно засыхало, но появлялось в другом месте, и не одно. Вижу, от моего лечения дети покроются лишаём по всей коже.
Пришлось отвезти их в кожный диспасер. Режим там был строгий, свою одежду не разрешали носить, одевали детей в то, что было в больнице. А были там истрёпанные капюшоны из искусственного бархата, как у пожилых женщин так называемые плюшки.
Прихожу однажды с передачкой, а малых детей вывели на прогулку. Ходят по двору рядком по двое, все в капюшонах, и девочки, и мальчики. Я не могу найти глазами своего сына: нет его там – и всё. Пошла к врачу: где мой младший ребёнок? – Как где? Мы же вам сказали – на прогулке. Я опять во двор. Нашла-таки! На нём короткий расклешённый жёлтый капюшон, а на голове вафельное полотенце. Идёт и не смотрит на меня – обиделся, что я их сюда привезла. Кое-как отвела в сторонку, уговариваю, что скоро врачи вылечат, и я их заберу домой. Он заплакал и сказал, что ему надо пописать, а штаны не снимаются. И смех, и грех! Попробовала опустить ему розовые выцветшие шаровары, а они на старой, не растягивающейся резинке. Кое-как стянули, сходили под кустик.
Дочь сидела в палате и плакала: медсестра за непослушание обещала постричь её налысо, а ведь девочка – шестиклассница.
– Почему постричь? Ведь у тебя же лишай на плече, а не на голове… Это у Серёжи – на голове, его под нулёк, как Котовского. Он ещё маленький, к тому же пацан, можно и стриженым побыть, раз такое случилось.
Я хотела её рассмешить и успокоить. Сказала, что поговорю с медсестрой.
Но подумала и пошла к главврачу. Рассказала про шаровары, которые невозможно опустить, чтобы справить нужду, и о дочери, сидящей днями на подоконнике – выглядывает, когда придёт мама и спасёт её от лысой причёски.
– Женщина, я Вас прекрасно понимаю. Но денег на нормальную одежду диспансеру не дают, и эти капюшоны у нас со времён царя Гороха, уже лет десять прошло, когда дети такие носили. А головных уборов вообще нет, поэтому повязываем полотенца.
– Но резинку-то можно поменять в штанах?
– Вот принесите из дому резинку, отдайте медсестре, она продезинфицирует её и поменяет. Дочери вашей угрожать стрижкой больше не будут, я об этом позабочусь.
И побежала я в магазин за резинкой, купила два мотка, может, ещё у кого учкур в штанах не тянется.
Дочь в скором времени выписали, а сына оставили: в волосах лишай лечится долго.
Прихожу на следующий день к нему на свидание с передачкой. Сижу жду у окошка, величиной с небольшую форточку, а его всё нет и нет. Пошла дежурная узнавать, куда девался ребёнок.
– Он не хочет выходить к вам, потому что мама Наташку забрала домой, а его бросила здесь.
Господи, что же делать?
– Сколько ещё он у вас будет находиться?
– Ну, дня три ещё будет.
На другой день я пришла в диспансер с «Булькой», надо же как-нибудь выманить его из палаты. Сунула дежурной в руку денежку, чтоб выпустила его ко мне в коридор.
– Ладно, выпущу на время тихого часа, когда не будет посетителей.
Пришёл весь надутый, обиженный.
– Ты Наташку забрала, а меня бросила, – а слёзы градом льются. Успокаивала как могла. Потом тихонько, почти шёпотом читала «Бульку»: сидели на стульях друг против друга. Повеселел немного. Расстались мирно до завтра.
Через три дня назначили осмотр головы через какой-то прибор, сейчас уже не помню. Вывела его медсестра и сказали, что всё в порядке, выписывают.
Приехали домой, а через часа два звонок в дверь: «Везите ребёнка назад, анализ положительный, надо ещё лечить». С ума можно сойти! И она уже побывала в нашем детском саду и предупредила заведующую: мол, если такая-то мамаша приведёт ребёнка в детсад, не берите его – у него недолеченный лишай. Но ведь как его везти назад, он ведь ором изойдётся!
Я оставила его дома и опять к главврачу. Как же так? Выписывают, а потом опять забирают…
– Женщина! У всех бывают ошибки, вот и у нас она случилась. Я об этом уже знаю. Не возмущайтесь, мы пойдём вам навстречу: дадим лекарство, долЕчите сами дома, только делайте всё, как скажем.
И вернулась я домой с пузырьком йода и ещё какой-то мазью, которая сильно пахла серой.
И пошло у нас на поправку, да ещё Булька помогал вечерами. Приехали на просмотр – всё хорошо, на этот раз и вправду хорошо.
Вот такие события мы пережили, но самым главным помощником в делах был Булька.
Когда мы с мужем переехали жить в село, в родительский дом, попал под машину наш любимец Чарлик. Рассказала об этом соседке и заплакала. Через день прихожу с рынка домой, а во дворе сидит светло-рыжий кутёнок, смотрит на меня маслянистыми глазками. Деревенское радио сработало быстро: сказано – городские люди, плачут за собаками… Нашла, из-за чего плакать…
Но кутёнка всё-таки принесли, а чтоб не плакала!
И назвали мы его Булькой. Правда, он мало чем был похож на толстовскую собаку: если в его чашке ещё оставалась еда, то мимо не проходи – цапнет за ногу любого, даже хозяев, которые его кормят, купают в шампуни от блох и дают всякие таблетки от болезней. Ну что ж, медведей и кабанов у нас нет, но кого-то ж надо грызнуть, чтоб не вздумали съесть остаток еды из его чашки.
Апрель, 2018.
В ПАМЯТЬ О ДЯДЕ КОЛЕ
Сейчас читаю книгу Виктора Астафьева «Последний поклон». Зацепил за живое рассказ «Сорока». Сорока – это прозвище дяди Васи по линии отца.
Он запомнился писателю как человек с противоречивым характером, с хорошими его проявлениями и не совсем, но по духу как самый близкий родственник, которому подросток прощал многое; вот уж поистине: не по-хорошему мил, а по милому хорош.
Читаю, и передо мной параллельно оживают две жизни – Васина и моего дяди Коли.
За глаза мама моя могла костерить родного братца на чём свет стоит, чего он, несомненно, и заслуживал, но стоило ему появиться пред очима старшей сестры, как родительница моя забывала всякие обличительные слова, будто голодный человек перед чашкой похлёбки от нерадивой хозяйки.
Она заглядывала ему в глаза преданной собачонкой, соглашалась со всякой ерундой в его суждениях, хлопотала по части еды; выставит, бывало, приготовленную для всей семьи сковородку жареных грибов – и он умнёт её за милую душу.
Помню, я собиралась на базар, чтобы продать собранные за неделю яйца и купить тетрадки, перья – в общем всё нужное для школы перед сентябрём.
И тут явился Колька, целый день пропадавший на пруду и, конечно же, голодный, как волк.
– Сколько тебе, Коля, яичек поджарить, а то у меня от обеда ничего не осталось?
– Да с десяток, я много их не ем.
У меня в груди захолонуло: с чем же я на базар пойду, там всего четыре десятка? Отчим тоже яйца обожает, пьёт их сырыми сразу по пять штук, я и собрала-то их, пока он неделю работал на чабарне.
Весело затрещал сухой бурьян в летней печке, и вот уже полная сковородка вытаращенных желтков кипит в кусочках сала.
Я бы огрела дрыном этого гулёну, но при мамке ничего даже сказать нельзя, и только отвернулась и делаю вид, что мошка в глаз попала.
Мамка сразу разгадала мою хитрость, и нет бы промолчать, не обратить внимания. Да где там!
– Ты посмотри на неё, Коль, во жадная какая уродилась, и в кого она такая? Завтра ещё снесут, а ты нюни тут распускаешь…
Как будто не знает, что завтра воскресенье, базарный день…
Я незаметно, пока они воркуют, ухожу в сад, там моё спасение от всех напастей, от обидных слов мамки. И почему она, зная Колькины проделки, так любит мазать мёдом по его губам? При чужих она может похвастаться мною: у Шурки макитра хорошо варит, наверное, на учительшу будет учиться после школы. Но при Кольке готова обезьяну на верёвочке водить и на одной ножке скакать, а меня именно при нём укусить и зубы спрятать: тю-у-у, и чё я такое сказала?
Пройдут годы, и я прощу маме её способность подмазаться, подлизаться к брату. Для неё это было проявление к нему жалости, зародившейся в том далёком голодном 33-м, когда у матери, моей бабушки, молоко от голода пропало, а кормила его грудью моя мамка, похоронив в младенчестве дочь Клаву. Так же не бывает, чтобы кормить ребёнка грудью и чтоб он не оставил следа в сердце женщины. Вот почему в давние времена кормилицы часто оставались нянями, приживалками у чужих людей, лишь бы видеть ежедневно ребёнка, вскормленного её молоком.
Бабником Колька стал ещё до армии, ЧТО в нём находили женщины, именно женщины старше него, трудно было понять, как говорится, ни кожи, ни рожи, а вот поди ж ты…
Первую в дом, как вроде бы жену, он привёл кацапку Нюсю, ещё не бывшую замужем, но года на три старше его. Она стыдливо остановилась у порога в хату, прикрывая длинной просторной безрукавкой уже хорошо выпяченный живот.
Бабушка Дуня, не считавшая приезжих кацапов за людей, открыто стала на дыбошки: «Ну и сюприз ты нам преподнёс, сынок, – хоть стой, хоть падай.» Смутить Кольку было почти невозможно, он взял невесту за руку и потащил в «ту хату» и, высунув голову из двери, распорядился: «Мы тут пока поживём, а там видно будет».
Сколько они проживут вместе, стало видно сразу. Семейная жизнь не заладилась из-за разного понимания слов «замужество», «семья». За хатой, у телеграфного столба, гремела улица: наяривала гармошка, парни с девками отплясывали гопака, весёлые разудалые частушки стесняли своей откровенностью:
Ты ны сигай, ты ны прыгай,
Як сорока по колАм:
Всё равно любыть ны буду,
Хочь ты лопны пополам!
– Нюся, пойдём погуляем, чего мы тут сидим в хате, будто пленники, – стал уговаривать зеленцом сорванный муж.
– А мы с тобой зачем женились? Чтоб веселиться на гульках до полуночи? Куда я пойду с таким животом?
– Да, – согласился муж, – с таким пузом лучше дома посидеть. У меня его нет, вот я сам и пойду.
И пошёл. И вернулся под утро. Пока он отсыпался, жена тихо, без ругани ушла в свою семью.
– А где Нюся? – уставился Колька спросонья на мать.
– Дык, что ж ей тут делать? Раз ты не нагулялся, она и потянула рябка назад.
Сколько потом ни пыталась Нюся наладить отношения, сколько ни подсылала подруг для переговоров, Колька упёрся как спасовский бык и отвечал одно и то же: разбитый горшок уже не склеить.
Напротив писаренковского подворья стояла длинная хата спиной к дороге, почти впритык, так, что плетня уже негде было поставить. Видно, расторопный хозяин, строивший себе жильё, всё же увидел оплошность: повернулась хата к миру задом, а к огороду передом, людей не видно, нет привычного наблюдательного пункта. И он исправил свою ошибку: в глухой стене было пробито небольшое окно, разделённое на три части – сверху широковатый лоб, а по бокам обвисшие щёки, окна ведь всегда немного похожи на хозяина.
В этой уже обветшалой хатке год назад поселилась приезжая молодая женщина с русским именем и грузинской фамилией – Мария Кадашвили, которую селяне быстро переделали на свой лад – Кадашвилька.
Колька в силу своего характера решил поиграть с новой хозяйкой хаты; сделав болтушку из глины, развесёлый тать в нощи замазал окно в Европу, дескать, нечего какой-то там грузинке вести наблюдение за передвижением гужевого транспорта, скота и живой силы в лице добропорядочных селян на казачьей стороне вперемешку с хохлами.
Утром бабы видели, как Кадашвилька, тонко подвывая, отмывала окно.
Кто-то уже вызнал, что грузинка эта не от хорошей жизни попала на кубанский хутор. До этого проживала она где-то в Сибири как поселенка, вблизи тюрьмы, в которой отбывала срок её мать. Поднакопив денег, которых хватило только на такую халупу, она решила перебраться в тёплые края. Почему не в Грузию? Да бог её знает, может, она и не бывала в этой самой Грузии.
Увидев во дворе напротив парня, вроде бы серьёзного (Колька таскал вилами навоз от летнего стойла коровы), незаслуженно пострадавшая обратилась к нему за помощью, дескать, узнай, кто так зло решил подшутить над ней, она ведь никому здесь ничего дурного не сделала.
Колька невинно поблымал глазами и обещал шутнику, как только узнает про него, шкуру с него снять и на глазу фонарь поставить.
Мария, не знавшая особенностей выражений местных людей, как будто растерялась, услышав про шкуру: не дай бог, и она станет соучастницей преступления.
– Нет, зачем же шкуру снимать? Просто припугнуть или поговорить серьёзно, – вдруг полила сладкую воду просительница.
Колька хохотнул, удивляясь наивности этой пришлой женщины, да и то сказать: откуда грузинке знать местные закавыки.
Искать шутника показалось долго и хлопотно, и наш оторви да выбрось стал дежурить у окна Марии: верным стражем прохаживался при луне туда-сюда, а когда надоело, он уселся под окном, заслонив головою и плечами его основание. Ну как тут не пожалеть сторожа, сидящего прямо на сырой земле?
И пожалела, и позвала погреться и чайку попить. Приходить отдыхать от обязанностей часового и смешить Марию вскоре стало привычкой, которая не замедлила обозначиться уже округлённым бугорком на животе.
Увидев и почувствовав, что пахнет жареным, виновник содеянного придрался к Марии как к неумёхе вести хозяйство.
– Не выполоть бурьян в огороде – это ж с кротовины убиться!
Мария и вправду полола задом: тюкнет тяпкой – и отступает на шаг назад, когда надо было, уцепившись в держак, двигаться вперёд, не утираясь от пота, как это делают хуторские бабы на поле.
Колька надулся как сыч на погоду и, изображая из себя вусмерть обиженного, вскоре благополучно смылся, умудряясь днём не показываться ей на глаза.
Кольке предстояла армия, и он не собирался связывать себя узами Гименея.
Нюсю он привёл в дом по причине угрозы для его жизни со стороны старших братьев Николаевых, которые грозились старательному ухажёру в лучшем случае наломать хвоста, а в худшем – голову снести с плеч.
Нюся родила сына с разницей в два месяца с родами Марии, и нареклись на белый свет два сына – Вовка и Борька.
Пройдут годы, и Борис Кадашвили, уже имея семью и троих детей, заинтересуется своей родословной. Человек из него получился вполне порядочный, не пьющий в отличие от залётного папеньки, окончивший два вуза и успешно занимающийся бизнесом.
Вовка Николаев подобрал все капельки отца, и внешне, и внутренне; с отличием закончив ветеринарный техникум, стал работать в колхозе, но, часто заглядывая в бутылку, постепенно спился, потеряв и работу, и уважение людей.
Борис, будучи человеком умным и неравнодушным к своему происхождению, нашёл-таки родню в нашем селе, то есть брата по отцу. Началась переписка, и тут выяснилось, что они родились в одном году с разницей в два месяца. Борис удивлённо спрашивал обретённого брата: «Как так могло получиться»?
– Да кто ж его знает, – был ответ в письме. – Это ж только отец мог объяснить, но его лет пять как нет в живых.
Мария, мать Бориса, не любила говорить о своём прошлом, а место рождения Бориса было чётко обозначено в паспорте.
Так получалось, что наш пострел везде поспел и легко успевал с одним ртом на два обеда.
Служить Кольке выпало в Германии, его отправили туда как грамотного призывника, к тому же умеющего неплохо играть на баяне, – пригодится в художественной самодеятельности.
Бабушка замучила меня письмами, на каждое Колькино послание (а он их присылал не менее двух раз в неделю) надо было обязательно ответить. Только зайду, бывало, по дороге из школы, а она меня сразу за стол и тетрадку подвигает.
– Пиши, – диктовала она почти одно и то же. – У нас всё хорошо. Коровка, слава богу, отелилась, к рождеству зарежем свинёнка…
– Поросёнка, – поправляла я.– Ну, пусть поросёнка… – Так что йемо (едим) не ыкономя, усё у нас е (есть).
Ещё тётка Таиска удивлялась: что это за слово у хохлов – из одной буквы?
Бабушка была безграмотной и проверить не могла, чего я там нацарапала, а мне приходилось почти всё переводить на русский язык, благо, по нём в школе у меня были четвёрки и пятёрки.
После бабушкиной диктовки я писала по-своему, наотрез отказавшись от одинакового начала: во первых срокАх своего письма…
Слово «сроках» мне было непонятно, может, это «срок», то есть время, тогда надо другое ударение поставить… Для себя я решила, что нужно понимать то, что пишешь, и потому, кивнув согласно головой, пропускала любимую бабушкину фразу… Дальше, от себя, писалось легко: какая у нас погода, какие красивые листья падают с абрикосов в саду и с вишен – по меже; какой крупчатый снежок покрыл ночью землю, ну и всё такое о природе.
Дяде (в письмах пришлось называть его, как велела бабушка) всё это нравилось, и он в конце каждого своего письма писал: «Спасибо, Щурёнок». Я долго думала о таком обращении ко мне, ведь в далёком детстве он обзывал меня ящеркой и постоянно долбил костяшками пальцев по голове, устраивая «концерт» для своих пацанов.
Наверное, подумалось мне, это какая-то смесь двух слов – ящерка и Шура с прибавлением ласкательного суффикса. А в общем-то – приятно читать.
И вот наконец он приехал в отпуск. От прежнего разгильдяя Кольки ничего не осталось: подтянутый, стройный, с холёным белым лицом и вполне учтивым разговором. Всем привёз подарки. Рассказал, что на территории их воинской части выстроили магазин с двумя отделениями – промтовары и продукты.
Выдаваемых солдату немецких пфенингов было не так уж и много, но каждый берёг их для поездки домой, в Россию, там ведь такого не найдёшь; привёз он для бабушки тонкий гобеленовый коврик необыкновенной красоты – с миниатюрной Красной Шапочкой и хвостатым Серым Волком с оскаленными зубами. Со сказочными кучерявыми деревьями вокруг. Это не то, что наши надоевшие два лебедя с согнутыми головками.
А ещё скользящий шёлковый вязаный платок с длинными махрами. Бабушка сразу спрятала его в большой кожаный чемодан, служивший вместо сундука, ибо внучек было две, отдай одной – другая губы надует.
Нам с Марусей были выданы красочные коробки: на белой шёлковой материи из углублений выглядывали зубная щётка, круглая коробочка зубного порошка и два цветных кусочка мыла. От запаха этого мыла у нас кружилась голова.
На второй день вечером дядя Коля засобирался в гости к другу. Во дворе уже услужливо ему поставили велосипед. Но тут вдруг повалил снег и летел рваными блинчиками не переставая.
– Ну что, Щурёнок, поедем в гости?
– По снегу? На велосипеде? – растерялась я.
А ехать было далеконько, на самый край хутора.
– Ничего, прорвёмся, я же солдат…
Солдат усадил меня на раму, и мы покатили, медленно, осторожно. У меня сердце сжималось в комочек, когда тугое колесо подпрыгивало на кочке – ну-ка шарахнемся вдвоём на оледеневшую дорогу, мало не покажется. И черти ж нас кинули поехать по такой погоде в гости! Но сижу помалкиваю, будь что будет.
Фух! Приехали наконец-то! Выбежавший со двора чёрный кобель норовит схватить дядю Колю за штанину, а он и не смотрит на него. С крыльца сиганул молодой хозяин, начали обниматься, тискать друг друга и хлопать по плечам.
Гостеприимно открылась дверь передней хаты и – о господи! Картина Репина «Приехали»! На лавке у печки сидит Нюся с мальцом, растерянно улыбается. Дядя, обернувшись, зыркнул на друга, тот незаметно потряс головой, мол, я тут ни при чём, не знаю, какая сорока ей на хвосте принесла.
Кое-как пришли в себя, начали говорить ни о чём. Николай, как дальний родственник, смело подошёл к бывшей сожительнице, взял мальчишку на руки, поднёс к окну – Кто там? – показал пальцем на кобеля. – Ав-ав, – быстро отреагировал Вова, как его представила мать.
Потом разрядили обстановку застольем, Вова перекочевал к матери, и потёк привычный разговор о житье-бытье, о переменах в колхозе, о скудных заработках.
Пацан начал капризничать, и Нюся засобиралась домой. Николай подмигнул другу, дескать пойдём проводим гостей вместе. И все трое вышли. Вернулись мужики очень быстро, наступило тягостное молчание. Я посчитала себя лишней в сложившейся обстановке и тоже собралась домой.
– Не выдумывай, – сказал как отрезал дядя. – Собаки ещё нападут по дороге, они вон на снег выбегают как оглашенные.
Через неделю мы провожали солдата до станции на поезд дослуживать в Германии. И снова были письма, и, если бабушка повторяла одно и то же в тридцатый раз и писать было особенно не о чем, я посылала дяде песни, которые слышала по радио или мы сами пели на уроках пения. Например, про матроса Железняка, про трёх танкистов или про самураев, которые в «в эту ночь решили… перейти границу у реки».
Демобилизовался дядя осенью, уж не помню какого года. Выглядел на все сто, весело рассказывал про себя и других, попавших в незнакомой стране впросак.
– Пошли мы с другом-украинцем в увольнительную. Городок наш хоть и небольшой, но мы заблудились. А как выйти из положения, если не знаем языка?
– Ны лякайся, Мыкола, я трохы шпрехаю по-немецьки.
И тут навстречу девушка, ПавлО бросился ей навстречу с нежнейшей улыбкой на лице:
– Фрау, фрау, яка цэ штрасэ?
Надменная фрау, «не повернув головы-кочан и чувств никаких не изведав», на ходу пробурчала: «Ich ferstehe nicht.»
– Ты дывысь, яка сука! – возмутился Павло, продолжая держать улыбку на лице.
Рассказывая, дядя сам икал от смеха, вытирая кулаком слёзы.
– Ну, – продолжал он, – нашего брата там, конечно, не любят. Да и есть за что.
Например, у одного бауера оборвали днём груши, и больше потоптали, чем съели. Расчётливый немец собрал смешанные с землёю фрукты в корзину и принёс в нашу часть, добился встречи с начальством и запросил немалую сумму за испорченный и украденный продукт. Во избежание скандала пришлось заплатить, и не в первый раз.
Потом солдаты увели от калитки дома велосипед. А чё он там брошенный стоит?
Катались за казармой по очереди, пока из переднего колеса не сделали восьмёрку. Вечерком тихо отнесли и поставили на место. Не оставлять же его во дворе части как вещдок. И снова воинской части пришлось расплачиваться по цене нового.
А то ещё с покупками в магазине история вышла.
Поступили в продажу красивые лёгкие коврики с умопомрачительными картинками, их легко можно было засунуть в чемодан и увезти домой в качестве подарка. Расхватали за час. Потом оказалось, что продавец по ошибке пустил их дешевле, чем они стоили на самом деле. Повесили очень вежливое объявление, чтоб донесли плату…
Тут дядя тоже хохотнул, вспомнив украинскую поговорку: дэ ж ты бачив, шоб сучка блынци пыкла, вона йих кистом пойисть.
Посидел дома с неделю, правда, не сложа руки, привёл в порядок двор, что починил, что подправил, кукурузной бодылкой обставил сарай – и корове теплее, и брать удобнее, чтоб отнести худобе в ясли.
Потом-таки пошёл по приглашению на день рождения к Марусе Косенко. Молодица не первой молодости, лицом страшненькая, с широким обрубленным носом внизу и широко, как у якутки, поставленными глазами. Чёрная не волосьём, а кожей, будто в кузне работает. Ну и чё? Бегал к ней с неделю, не больше, а к весне она уже ходила с хорошо обозначенным животом.
Бабушка ругалась: мол, наплодил детей по всему хутору – на верёвку не нанижешь, а болтаешься один как неприкаянный, женился бы, как все нормальные люди…
И он вскоре женился. Тоже Нюся.
– И что ж тебе девок мало, что ты брошенку нашёл с ребёнком?
– возмущалась бедная бабушка. – Хоть бы ты, батько, на него повоздействовал, сидишь, в две дырочки посапываешь.
– А чё я? У него своя голова на плечах.
– То-то и оно, что его голова в твою башку пошла, такая же кобелиная, как у родного батюшки, один в один. Черти бы вас с квасом съели. Вот судьбинушка выпала мне, горемычной…
Пожив год у родителей, решили отделиться и жить самостоятельно. Выбрали место на берегу Кубани в станице Успенской, районном центре.
Дядя из кожи лез: после работы и в выходные дни крутился вьюном, почти всё делал сам, кроме кладки дома. Всей роднёй приехали мы накладывать потолок на доме и мазать стены глиной, перемешанной с крупной соломой.
А кругом красота! В покатом спуске к Кубани густые заросли калины, боярышника, фундука и яркого тёмно-розового бересклета. Весной кустарники словно сметаной обмазаны, а осенью сквозь густую зелень краснеют зонтики калины и рассыпанные по веткам мониста барыни; неумолчное пение птиц смешивается с шумом быстрой бурлящей реки. А за кипящей глинистой водой, на противоположном берегу, манящий лес, с полянами ландышей весной и осенью с разросшимися местИнами пышных листьев, уже без беленьких, скромных цветочков. Но как туда добраться? Река редко когда бывает спокойной, всё больше бурчит, беснуется, как злая старуха, сотворяет затягивающие в свою бездну круговерти, подмывает берега, вырывает кусты и деревья с корнями, делает из них заплоты на поворотах.
Сюда дядя любил приходить в редкие свободные дни порыбачить, его мечтой было поймать сома; эта вкусная мясистая рыба теперь редкость, а в ту пору на базаре в Успенке можно было купить её по сходной цене.
Дом построили в течение одного года, перебрались с частной квартиры, обзавелись хозяйством, новый забор дядя украсил гривастыми лошадиными головами – кузнец он был от бога, и нарасхват, потому что люди с такой профессией давно стали редкостью.
Постоянно занятому и устремлённому к цели человеку некогда растрачивать себя на порочные страсти, он весь в работе, в напряжённых мыслях о том, как устроить свою жизнь так, чтобы и тебе, и твоим близким жилось привольно, комфортно и красиво. Так и было до той поры, пока Николай был, как говорится, по горло занят.
Началось со сбоя в работе: кузница не ремонтировалась уже много лет, занятости – с гулькин нос, потому как от лошадей совхоз избавился, а машины подковывать не надо. Держались два кузнеца только на редких частных заказах, люди же предпочитали рассчитываться бутылкой самогона.
И потекла жизнь в сплошном тумане, постоянном поиске денег на выпивку и перебранках с женой. Куда только не прятала деньги Нюся: и в пшеницу зароет в зАкути, и в тряпицу завернёт, а сверху кирпичом придавит; и в трубу запихнёт поглубже, почти на вытянутую руку, – везде найдёт этот пропахший винными парами Шерлок Холмс, и тогда сбежит из дома до самого вечера, по возвращении приткнётся где-нибудь в сарае или погребнике и спит, грязный, в верхней одежде, с почерневшим отёкшим лицом.
Одна Нюся воевала с Николаем всю оставшуюся жизнь, другая, всё ещё на что-то надеясь, душой истлела по нём. Купила хату через дорогу наискосок от писаренковской, чтоб видеть, когда он приезжает с женой к старикам в гости.
Ловила каждое слово о нём, всякий раз зазывала меня на колхозном току летом, когда там работала ученическая бригада, расспрашивала, как он живёт с женой, где работает; и не могла я её ничем разубедить, что не стоит он того, чтобы помнить о нём.
Давно замечено, что мужчина охладевает к женщине, которая слишком любит его.
На хуторе жизнь каждого человека на виду, и не переступил порог одинокой женщины ни один мужик, кроме её сына да братьев Николаевых. Так и прожила жизнь, как строгая, верная одному богу монашка.
Им бы, этим двум страдалицам, с одинаковыми именами, но по-разному тяжкими судьбами, памятник поставить при жизни.
Одна всю жизнь терпела, другая ждала.
Декабрь, 2019 г.
СТУДЕНЧЕСТВО
Прочитала рассказ Татьяны Журавской, мне он понравился свой жизненной правдивостью и простотой изложения. Захотелось рассказать и про своё студенчество.
Что ли, мне надоело учиться или другие причины какие были, но поступать учиться сразу после школы мне не захотелось. Поработав два года в конторе бурения лаборанткой глинистых растворов, вышла замуж за моториста, симпатичного парня, старше меня намного, но серьёзного и работящего.
Помню, в обязанности коллектора входило переписывать каждый день фамилии вахтовых рабочих. Сижу переписываю и у стоящего рядом работяги спрашиваю, кто является носителем такой-то фамилии и какова его должность.
Дошла до фамилии Беденок (порядок был по занимаемой должности, а не по алфавиту, и первым значился мастер смены, потом бурильщик и т.д.)
– А это чья такая дурацкая фамилия? – не подумав, трёкнула я, весело улыбаясь.
– Моя, – спокойно ответил ряботяга, совсем не обидевшись.
И вот эту дурацкую фамилию мне пришлось носить всю мою жизнь.
Романтика замужества длилась недолго, муж стал часто выпивать по возвращению с работы, устраивал мне допросы, где я была, куда ходила. Я же, только подумав о том, ЧТО он может подумать, краснела и терялась в объяснениях. Ну раз так – значит что-то было, значит, виновата.
Дочери было уже четыре года, когда я окончательно созрела для учёбы. Что ж, так и буду домохозяйкой? Надо учиться!
Поступила на филологический стационарного отделения.
– И что? Целых четыре года ты не будешь работать?
– Но ты же не отпустил меня на прежнюю работу, и вообще о работе запретил думать: сиди дома, учись шить, вязать; можно и дома деньги зарабатывать.
Сказала, что со временем перейду на заочное отделение.
Началась новая жизнь, интересная и увлекательная, на лекции летела как на праздник. Подхожу к институту, а на верху здания большими буквами: ЗНАНИЯ – СИЛА! И меня эта сила держала в постоянном полёте, я, словно озон после дождя, впитывала в себя всё то, о чём вещали преподаватели, домашней подготовки почти не требовалось, разве что конспектирования дополнительных статей.
Если болела свекровь, пятилетнюю дочь брала с собой на коллоквиумы и диктанты, которые проводились вне расписания. В те времена была хорошая практика: к экзаменам допускались только те, кто пишет диктанты на положительно. И хотя «неудов» по ним у меня не было, но я приходила постоянно из интереса: всегда хочется делать то, что получается хорошо и от чего поднимается настроение и появляется чувство удовлетворения.
Ребёнок мой от скуки залезал под стол, потом, появившись с торца, вслух спрашивал: «Мама, эта скатерть шерстяная или шёлковая?» (За неимением свободных аудиторий мы занимались в красном уголке). Благо, наша Кусонька (ласково прозванная студентами по фамилии Покусаенко) была человеком понимающим и с юмором. По-доброму посмеявшись, продолжали работу.
Однажды после дополнительных занятий она меня задержала и, доверительно крутя пуговку на моей кофточке, попросила:
– Сашенька, а Вы не смогли бы провести вместо меня на следующей среде диктант? – Текст я Вам дам, что непонятно, объясню «с чувством, толком и расстановкой», – и улыбается своей шутке.
Как не согласиться, получив доверие от любимого преподавателя? Согласилась с радостью и с тех пор стала её постоянным помощником.
Не скажу, что я пользовалась симпатией у студентов, я чувствовала скрытую зависть, иногда открытую неприязнь. Кто-то не соглашался с моими объяснениями, пытался спорить и доказывать обратное. Кто ты такая, что поучаешь нас и почему мы должны тебе верить? И пусть так не сказано было вслух, но подспудно проводилась именно такая мысль.
И тогда в качестве палочки-выручалочки появлялась Кусонька, чтобы расставить все точки над «и». Умела она ненавязчиво и деликатно убедить в чём-то несогласных, что всё сделано верно и что должность замдекана не позволяет ей постоянно заниматься дополнительными занятиями.
Но деканат открыт всегда и для всех. Вы в любое время можете зайти и проконсультироваться со мной.
Зависть и недоброжелательность тех, кто часто делал погоду в отношениях между студентами, не мешали использовать меня на экзаменах в своих целях.
Я имела привычку сдавать экзамен в числе последних: мне казалось, что я не всё хорошо усвоила и надо бы ещё перечитать отдельные места. НарезАла круги по коридору и бубнила себе под нос, окончательно выучивая то, что казалось ещё не доведённым до полного понимания. Но как только в процессе экзамена наступал кризис, меня буквально заталкивали в аудиторию: иди, спасай группу, Кусонька сейчас злая, двоих поймала со шпаргалками. Ты вместо успокоительного буфера. Да ещё нагрузят меня шпаргалками для утопающих. Вот это делать для меня было стыдно и мерзко. Иду, помню, что-то отвечаю на вопрос о том, сколько человек ещё осталось за дверьми, а сама протягиваю руку и кладу на стол шпаргалку для страждущей. И что же, Кусонька этого не видела? Конечно, видела! Но она была понимающим преподавателем. Иначе меня просто надо не допустить к экзамену.
Мы выпускники вуза, наконец! На подготовку к «госам» давали достаточно много времени. И это после только что прошедшей сессии. На государственный экзамен выносятся те же вопросы, что и на межсессионные, с добавлением примерно, десятка из других разделов, кроме современного русского языка. И есть три вопроса из общего языкознания. Такие зарубежные светилы, как Фердинанд де Соссюр, Бодуэн де Куртене (считается русским учёным), Вильгельм фон Гумбольдт, внёсшие большой вклад в развитие языка.
Но боже мой! Сколько же непонятного в этих вкладах!
Общее языкознание читал нам доцент Сакиев Нурдин Яхъяевич, по национальности черкес, если не ошибаюсь. Мы так и не поняли сути этих «вкладов», в учебных пособиях их теории были изложены тоже псевдонаучным языком, далёким от чёткости изложения. Кто-то осмелился на лекции высказать мысль, что нам многое непонятно в этих вопросах. Не мудрствуя лукаво, преподаватель коротко ответил, что бараны очень многого не понимают. С тех пор, чтобы не прослыть баранами, никаких высказываний по поводу «вкладов» мы себе не позволяли.
Но вопросы-то в билетах есть, и их надо, если не выучить, то хотя бы вызубрить. А не хочется! И решила я положиться на русское «авось»: авось не попадутся!
Во вчерашней подгруппе сдавала ГОС моя подруга Вера, с которой мы все четыре курса просидели за одним столом. Ей тоже не захотелось вникать в «огромные вклады» общего языкознания. И она решила идти первой: авось как-нибудь выкрутится при выборе билета. И даже очень успешно выкрутилась. Председатель комиссии сразу раскладывает на столе билеты, и, пока приглашённые студенты их выбирают, преподаватели заняты своим делом – усаживаются, рассовывают свои вещи, раскладывают приготовленную бумагу для записей, достают ручки и т. д. За это время можно незаметно поменять билет, если попался не такой, как хотелось. И Верка успешно поменяла теорию языкознания на современный русский язык. Так посоветовала сделать и мне – зайти первой.
И вот я уже битый час торчу у двери первая. За полчаса до экзамена является Сашка Сеин и заявляет, что в общежитии вчера ещё составили список, и я, получается, далеко не первая.
– А остальные, которые живут не в общежитии, знают об этом списке? – задаю я вопрос стороннику установившегося порядка.
– Я этим не интересовался.
– Так вот я, не интересуясь, пришла сюда в семь часов и буду первая.
У смущённого Сеина глаза от такого нахальства увеличились вдвое.
Я отлично понимаю, почему ему надо попасть точно по списку: он должен зайти вместе с женой, Надей, которая – это все хорошо знают – пишет своему туповатому мужу шпаргалки. Без неё он просто не сдаст. А тут получается, что она зайдёт на 40 минут позже, когда время для создания цидули будет безвозвратно потеряно.
Заметался наш Сеин в полной растерянности. Выручила та же Надя: «Иди, мы успеем всё сделать».
Зашли. «Подходите по одному и берите билеты,» – распоряжается председатель комиссии, не глядя на нас, потому как ещё никак не приведёт в порядок свои вещи.
Беру билет. Господи, свят, свят – Бодуэн де Куртене! Тихо положила на место. Беру второй: Фердинанд де Соссюр! Ну прямо Господне наказание! Положила обратно и этот. И только третий оказался по теории современного русского языка.
А Сеин, зашедший в первой шестёрке, стоит сзади меня и наблюдает, как я выбираю билеты. Но, слава Богу, промолчал.
Председателем комиссии назначена была доцент с кафедры литературы, женщина «слова и дела», читавшая у нас, помимо основного, дополнительный курс кино. За чрезмерную требовательность и высокомерное отношение к студентам (Моя Алёна ещё учится в школе, но она это знает!), мы втихаря, меж собой, прозвали её кинологом, понимая, что киновед и кинолог не одно и то же.
Средняя по знаниям студентка во время госэкзамена решила втихаря воспользоваться схемой анализа какой-то там части речи. Киновед это заметил, сорвалась с места и потребовала отдать шпаргалку. Наша бедная Цыплёнкова плакала, каялась, но была изгнана с экзамена с переносом его на осень. После экзамена мы всей группой вошли в аудиторию просить председателя о перемене своего решения, но она была неумолима. «Слово и дело!» А в шпаргалке была лишь схема анализа!
Мы толпимся в ожидании решения комиссии, когда нам торжественно объявят оценки.
Сощурив глазки, подходит ко мне Сеин и так тихо произносит: «Тебя бы надо было выгнать вместо Цыплёнковой».
– А тебя? Вместе с Надиной шпаргалкой?
Пройдёт полгода со времени окончания вуза, и меня, учителя сельской школы, пригласят работать на кафедру в качестве ассистента.
Я постоянно сижу на занятиях у Валентины Константиновны Покусаенко, за которой веду практический курс русского языка. Ловлю каждое слово, задаю вопросы. Не сплю ночами, готовлюсь тщательно и долго.
Но, как бы то ни было, мы теперь коллеги. И можно иногда и пошутить, и поговорить откровенно. Однажды по дороге домой я ей доверительно рассказала, как я сдавала государственный экзамен по русскому языку.
– Дурочка, – сказала она мне ласково, ткнув пальцем в бок. – Могла бы загреметь под фанфары. И из-за чего? Из-за того, что лень было освоить три билета… Все бы твои студенческие успехи коту под хвост.
И ведь она была права!
Январь, 2018.
МИРАЖИ РОМАНТИКИ
Училась в нашей институтской группе студентка со знаменитой фамилией – Кутузова. Девица была уже в годах – на вид лет тридцати, – имела стаж работы на медицинском поприще, но, видно, роль спасителя человеческого тела не пришлась ей по душе. Душа просила другого – возвышенно-поэтического. Городок наш числился на втором месте после краевого центра, и единственным местом в нём, где душа могла ликовать от наслаждения словом, был наш пед со славным литературным факультетом.
Городские девочки-студентки резко отличались от сельских в первую очередь внешним видом: модного покроя одежда, высокие причёски с начёсом, аккуратно накрашенные губки, ну и конечно же – походкой от бедра. Мы с Верой сидели рядом в течение быстро промелькнувших четырёх лет. Нам в глаза не говорили, но мы это знали и солидарно считали себя деревенскими, что и было на самом деле. У Веры на самой макушке была накручена отливающая тёмно-шоколадным цветом коса. У меня такого роскошества не было, поэтому чуть повыше затылка лежал набитый моими же волосами валик, аккуратно закрытый светлым хвостом. Туго собранные волосы открывали завитушки на затылке и висках.
Наши причёски определялись как стародавние, но мы как-то не велись на взгляды городских кокеток, а брали своё на занятиях: готовность к ним была не редкой гостьей, а образом жизни мало знакомых с парфюмом студенток.
До сих пор не могу понять, как это мы, две неисправимых хохотушки, успевали всё записать и понять на лекциях.
Кутузова, как серьёзная студентка, не сидела в дальних тесных рядах, чтобы при удобном случае можно было заняться чем-то другим. Нам она виделась в первом ряду с правой стороны, в профиль, но не в чистый, а с лёгким поворотом в нашу сторону, потому что кафедра лектора находилась напротив нашего стола. Верка со своим врождённым ироничным взглядом на жизнь первая вообразила сходство однофамилицы с великим русским полководцем. Чуть волнистые волосы, уже с лёгкой проседью, у нашей однокурсницы были зачёсаны назад и заканчивались короткой стрижкой, в коей виделось нам больше мужского, чем женского. Увидев реальные черты сходства, мы тут же пустили в ход свою неудержимую фантазию: на правый, едва видимый нами глаз мы водрузили чёрную повязку, изменили и воротник её постоянной безрукавки – сделали его высоко стоячим так, что он упирался в подбородок. И многочисленные награды! Как же без них!
Нарисовав всё это, мы душились от смеха, упёршись носами в свои тетради.
Лектор обычно окидывал взглядом всю аудиторию, но передние два стола из-за тесноты чуть ли не упирались в кафедру, поэтому мы были под высоким её прикрытием. Только бы не расслышал доцент нашего неудержимого удушья!
Когда раздавался звонок и мы могли бы ржать сколько угодно, смех – сволочь такая – покидал нас и мы с самыми серьёзными озабоченными мордами направлялись в другую аудиторию, чтобы занять безопасные места.
Это было первое впечатление от студентки со знаменитой фамилией.
Надо добавить, что имя у неё тоже было редкое и звонкое – Маргарита. Между собой мы её окрестили Марго Кутузова. Одета всегда аккуратно; особенно шла ей белая кофта с пышными рукавами чуть ниже локтя; юбка узкая, но не выпячивающая женских достоинств, ножки бутылочками – в общем, в школе на практике появилась красивая учительница с грудным голосом, оказавшая на старшеклассников магическое впечатление. Сама вызвалась давать открытые уроки по литературе, и это у неё получалось не хуже, чем у школьных учителей со стажем.
