Смерть в первом акте
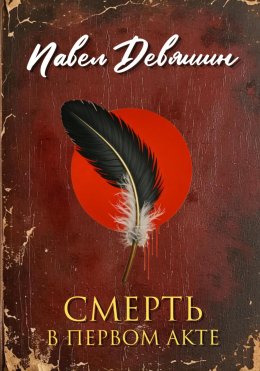
АКТ ПЕРВЫЙ
АФИША
«Пар, уголь и копоть – бриз истинной надежды. Её вкус и божественный аромат.
Проклятье! Кто бы мог подумать, что крах и тоска пахнут… чаем».
– Из записей С. Н. Белова, найденных в номере гостиницы «Камчатка» на Васильевском
Август 1854 года
Сергей Николаевич Белов добродушно поднял брови, глядя, как его сосед по купе – тучный купец из Рязани – высунулся из окна. Раздувая красные щёки, он звал извозчика, перекрикивая свисток паровоза. Вагон загнанным рысаком семенил вдоль перрона. Вот она – Невская застава.
Летом 1854 года в Петербург ходил только один поезд – из Гатчины. Маршрут открыли год назад. Сначала для самого императора, но царь велел пускать составы и для простых пассажиров – дважды в неделю.
Белов добрался до Гатчины на дилижансе, проделав долгий путь: из Кургана через Тобольск и Тюмень по Сибирскому тракту до Москвы, а оттуда – по шоссе до пригорода. Можно было приехать в столицу и напрямую. Но молодой человек сделал крюк.
Мечтал прокатиться на паровозе.
Просто хотелось. Ужасно, нестерпимо. До зуда в ладонях.
Белов знал: этот день он запомнит на всю жизнь. Прекрасный день, судьбоносный. Ни много ни мало.
Сидя на бархатном сиденье, он без остановки пил чай – крепкий, без сахара, как любил отец, —да глядел в окошко. Сам не заметил, как опустошил весь ресторанный самовар. Ну и пусть! Новая жизнь. Только в ней можно лакомиться бубликами прямо в пути. С комфортом и хорошим настроением.
Да, он потратил почти все деньги. Но ни о чём не жалел.
Разве можно было приехать в Петербург иначе – не на самом современном чуде техники, не на том, что зовётся будущим?
Сергей Николаевич с удивлением наблюдал, как пассажиры суетливым горохом посыпались на привокзальную площадь. Дамы с чемоданами, сумочками и шляпными коробками, строгие чиновники с тросточками, купцы в лаковых сапогах-бутылках и малиновых рубахах до колен. Все эти гимназисты, коммерсанты, гвардейские офицеры, дьяки и протоиереи торопились по делам. Никто, кроме Белова, и не подумал задержаться у ступеней вагона и с наслаждением вдохнуть ароматы угля, копоти, конской мочи, пара и сдобных булочек из ближайшего буфета.
Господи! Как хорошо!
Проводник улыбнулся в аккуратные седые усы:
– Прибыли, ваш бродь! Поспешите, не то упустите всех извозчиков.
Он понимающим взглядом разглядывал молодого человека в сером поношенном сюртуке. Шляпа Сергея Николаевича похвалялась вмятиной, отчего казалось, будто он носит на голове блюдце с хлебной горбушкой. Указав на тряпичный узелок в руках странного пассажира, проводник спросил:
– Чемодана, стало быть, не имеете-с?
– Как видите, – улыбнулся Белов и пожал плечами. – Погода чудесная, ноша нетяжёлая, ноги, слава Богу, здоровые, а посему в коляске надобности нет. Пройдусь-ка я, братец, пешком. Скажи только, куда здесь до Мойки?
– А-а-а… – подмигнул проводник, – приехали покорять театральные подмостки?
Белов рассмеялся:
– Неужели я не один такой? Верно, покорять. Хотя, нет. Не совсем. Скорее совершить паломничество во славу искусства!
– Так хоть бы чайку выпили, у нас и буфет имеется. А? Пирожки, саечки – всё честь по чести.
Смех молодого человека стал ещё звонче.
– Боже упаси! Слуга покорный! Куда мне… не ровен час лопну. Вот заселюсь в гостиницу, там и отведаю. Ну, бывай, братец.
Проводник долго смотрел вслед удаляющейся фигуре. Пружинистая походка, сдвинутая набок шляпа.
В ушах до сих пор звучал радостный смех.
Морщинистая рука привычным жестом провела по усам.
Эх, стать бы таким хоть на миг! Тоже повеселиться…
Да! Юность – это когда ты смеёшься во весь голос, падая и поднимаясь, как в детской игре в салки. В глазах – цвет яблонь, а сердце ещё не знает, что однажды оно будет сжиматься при виде той же яблони весной. Весной, напоминающей молодость.
Проводник зашагал в конец поезда. Нужно поговорить с Петром Афанасьевичем – не одолжит ли маслица для лампы? Пассажиры жалуются, мол, темно, чтобы читать газеты. А у Петра для хвостовых огней, небось, припасена целая бочка.
Погрузившись в дела, старик не заметил, как весёлая походка молодого путешественника сбилась с ритма возле огромной тумбы с афишами. Что, как бельмо на глазу, торчала на привокзальной площади и кичилась театральными премьерами, словно бродячий пёс блохами.
Он не видел, как Белов пошатнулся.
Не видел, как тряпичный узелок безвольно упал на мостовую.
АКТ ВТОРОЙ
СЦЕНА
На обороте театральной брошюры «Смерть в первом акте»; мелким почерком, с кляксами от пера:
Гореть звездой – не значит согревать,
Гляди в окно, но это не заменит променада.
Кто пулею в бою сражен – герой, ему и слава, и покой…
А кто-то мирной смерти улыбается с бокалом лимонада.
Мы умираем быстро и внезапно:
Не все – в сраженьях, не все со знаменем в руках.
Кто – в тишине, из пальцев выпустив перо,
А кто-то – под аплодисменты впопыхах.
Так что же, брат, не верь тому, что светится на сцене —
За блеском декораций – ложь, что между строк прочтут.
А смерть? Она не театральный жест, не тень, не приведенье.
Она незваный гость там, где её не ждут.
– А.Н. Поликарпов, 1854
Август 1854 года
6 часов пополудни
Несмотря на летнее время, в партере Александринского театра гуляли сквозняки. Слышался скрип стульев, шелест программок, приглушённые голоса зрителей. До начала спектакля оставалось пять минут.
– Зачем мы здесь, Антон Никодимович? – голос частного пристава, заведовавшего Васильевской частью, дрожал не столько от холода, сколько от тревоги. А вдруг старая ищейка – звезда курганского сыска – окончательно спятил? Недаром из самого Тобольска до сих пор приходят разгромные циркуляры…
