Мифы о неравенстве. Откуда берется дискриминация
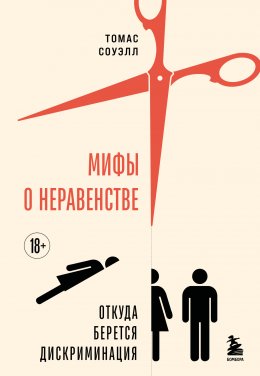
Copyright © 2019 by Thomas Sowell
This edition published by arrangement with Basic Books, an imprint of Perseus Books LLC, a subsidiary of Hachette Book Group, Inc. New York, NY, USA. via Igor Korzhenevskiy of Alexander Korzhenevski Agency (Russia).
All rights reserved
© Перевод, А. Огородникова, 2024
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Профессору Уолтеру Э. Уильямсу, который трудился на том же поприще.
Предисловие
В первом издании этой книги речь шла о распространенном заблуждении, что статистические диспропорции в социально-экономических показателях свидетельствуют либо о предвзятом отношении к менее благополучным, либо о наличии у этих менее благополучных генетических дефицитов.
В этом издании рассматриваются другие широко распространенные заблуждения, в том числе непоследовательный вывод, который преобладает в господствующей ныне социальной концепции: если индивидуальные экономические достижения/выгоды не обусловлены исключительно индивидуальными заслугами, то это дает основания политикам для перераспределения таких выгод/достижений.
На первый взгляд каждое из этих заблуждений кажется правдоподобным. Но именно поэтому необходимо тщательно проверить предпосылки этих ложных выводов и факты, на которых они основаны. В этом издании, как и в предыдущем, рассматривается множество новых проблем в международном контексте, но, судя по всему, именно два вышеупомянутых заблуждения составляют ядро значительной, если не большей части существующего социального мировоззрения, которое иногда обобщается понятием «социальная справедливость».
Разногласия по социальным вопросам в целом кажутся не только неизбежными, но даже полезными. Подобное взаимодействие с разными точками зрения, когда противоборствующие стороны сталкиваются с противоположными аргументами или анализируют эмпирические данные, которые раньше ускользали из поля зрения или не принимались во внимание, может привести к решениям, о которых ни одна из сторон изначально и не задумывалась.
Такого рода переоценка противоположных точек зрения стала слишком редким явлением в политике, в средствах массовой информации и даже в академических кругах, где когда-то с гордостью заявлялось: «Мы здесь для того, чтобы научить вас как думать, а не что думать». Сегодня, когда целые академические департаменты занимаются продвижением определенных умозаключений по социальным вопросам, кажется особенно важным, чтобы такие переоценки противоположных точек зрения имели место хоть где-нибудь. В противном случае мы рискуем стать обществом, подверженным влиянию риторики, приправленной произвольно истолкованными фактами или цифрами.
Те читатели, которые ожидают найти в этой книге готовые политические решения, будут разочарованы. Для них есть множество других источников, которые предложат «простые и удобные» ответы. Цель книги «Дискриминация и неравенство» – прояснить важные социальные проблемы, которые часто тонут в догматизме и путанице. После этого читатели смогут самостоятельно определить, какие политические стратегии соответствуют их личным ценностям и установкам. Как однажды сказал Дэниэл Патрик Мойнихэн:
«У вас есть право на свое мнение, но нет права на собственные факты»[1].
Томас СоуэллИнститут Гувера Стэндфордский Университет
Глава 1. Неравенства и предпосылки
Ни в одном обществе все регионы и все слои населения не развивались равномерно [2].
Фернан Бродель
Значительные диспропорции в экономических и прочих аспектах жизни среди отдельных людей, групп и наций приводят к разнообразным реакциям, варьирующимся от недоумения до ярости. Попытки объяснить причины такого неравенства также провоцируют появление широкого спектра ответных реакций. На одном конце этого спектра находится убеждение, что низкие показатели успешности менее благополучных обусловлены генетически меньшей одаренностью, их способностями. На другом конце спектра располагается убеждение, что менее благополучные становятся жертвами более благополучных и удачливых.
И между этими двумя крайними точками имеется множество других объяснений. Однако какая бы конкретно гипотеза ни предполагалась, общепринято, что неравенство достижений, существующее в реальном мире, значительно отличается от неравенств, которые могут проявляться при случайном стечении обстоятельств. Тем не менее неравенство экономических и прочих показателей необязательно обусловлено соответствующими различиями во врожденных способностях или в том, как неравнозначно люди взаимодействуют друг с другом.
Эти диспропорции также могут отражать очевидный факт, что успех во многих областях деятельности зависит от наличия специфических качеств и предпосылок к успеху, необходимых для каждой такой области, – и относительно небольшое различие в соответствии этим качествам и предпосылкам может дать очень большую разницу в итоговых показателях.
Предпосылки и вероятности
Влияние таких качественных предпосылок на вероятности успеха весьма прямолинейно. Когда какое-либо начинание требует наличия пяти предпосылок для достижения в нем успеха, то шанс на такой успех зависит от вероятности наличия всех этих пяти предпосылок одновременно. При этом для формирования асимметричного итога, то есть неравного распределения показателей успешности, такие предпосылки необязательно должны быть редкими. Например, представим, что каждая из этих предпосылок встречается так часто, что у двух из трех людей есть хотя бы одна из них. Однако шансы на то, что у одного человека найдутся сразу все пять предпосылок для успеха, остаются невысокими.
Когда вероятность наличия хотя бы одной из пяти предпосылок составляет 2/3, как в этом примере, вероятность одновременного наличия всех пяти предпосылок равна произведению двух третей, умноженному на себя пять раз. Соответственно, в данном примере это 32/243[3] или приблизительно один к восьми. Другими словами, вероятность неудачи составляет примерно семь из восьми. Все люди, у которых менее пяти предпосылок, получат одинаковый результат – неудачу. Преуспеют только те, кто имеет все пять качественных предпосылок для успеха в этом деле. Это приводит к очень неравномерному распределению успеха, совсем не похожему на колоколообразную кривую нормального распределения показателей, которую мы могли бы ожидать в ином случае[4].
Что же это небольшое упражнение в арифметике означает применительно к реальному миру? Первый вывод состоит в том, что мы не должны ожидать равномерного или случайного распределения показателей среди отдельных людей, групп, обществ или государств в областях деятельности, где необходимо наличие множества предпосылок к достижению успеха – иначе говоря, в самых значимых областях деятельности. И если все эти предпосылки действительно необходимы, то наличие четырех из пяти предпосылок не имеет никакого значения для успешного результата. Другими словами, даже люди, обладающие большинством необходимых качеств, удовлетворяющих условиям успеха, могут тем не менее оказаться полными неудачниками.
Независимо от того, является ли недостающая предпосылка к успеху сложной или простой, ее отсутствие может нивелировать эффект всех остальных, имеющихся в наличии. Если вы, например, неграмотны, то другие хорошие качества, которых у вас может иметься в избытке, вполне вероятно, окажутся бесполезными если не во всех, то в большинстве современных профессий. Вплоть до 1950 года более чем 40 % взрослого населения мира были безграмотны. В их числе была более чем половина взрослых в Азии и Африке[5].
Если вы не готовы пройти долгий тяжелый путь и принести жертвы, которые может потребовать та или иная деятельность или начинание, то даже несмотря на наличие врожденного потенциала и предпосылок для успеха в этой области при всех открытых возможностях, вы все равно можете потерпеть неудачу.
Не все из предпосылок к успеху, доступных или недоступных человеку, обязательно находятся под его единоличным контролем. Случается, что даже наличие выдающихся способностей может не иметь значения для достижения положительных результатов.
Например, в начале XX века профессор Стэндфордского университета Льюис М. Терман запустил исследовательский проект, в котором более полувека велось наблюдение за 1470 людьми с показателями IQ 140 и выше. Данные о карьере мужчин в этих группах – это исследование проводилось в те времена, когда полноценная карьера у женщин была менее распространенным явлением[6], – показали серьезные отличия даже внутри этой уникальной группы, где все участники входили в 1 % людей с самым высоким IQ.
Некоторые из этих мужчин добились больших успехов в карьере, у других были более скромные достижения, а примерно 20 % не оправдали ожиданий. Из 150 мужчин в этой наименее успешной категории только 8 получили высшее образование, а десятки из них имели только аттестат о среднем образовании. Среди наиболее успешных участников группы исследования Термана схожее количество мужчин получило 98 дипломов о высшем образовании[7], – это более чем десятикратная разница среди людей, чей IQ находится в верхнем 1 %.
Между тем двое мужчин, которые прошли тестирование в детстве и не преодолели порог в IQ 140, впоследствии получили Нобелевские премии по физике, тогда как ни один из мужчин с IQ 140 или выше не получил Нобелевскую премию в какой-либо области[8]. Очевидно, что все мужчины из группы Термана обладали как минимум одним необходимым качеством-предпосылкой для этого выдающегося достижения, а именно – достаточно высоким IQ. И также очевидно, что должны быть и другие необходимые качества, которых не имел ни один из сотен мужчин из числа входивших в 1 % с самым высоким показателем IQ.
Что касается факторов, стоящих за различиями в образовательных и карьерных результатах в группе Термана, наиболее важным оказалось семейное происхождение. Мужчины, достигшие наиболее выдающихся успехов, происходили из семей среднего и высшего класса и выросли в домах, где было много книг. Половина из их отцов были выпускниками колледжей – в те времена это было гораздо более редким явлением, чем сегодня[9].
Среди наименее успешных мужчин примерно одна треть имела родителя, который бросил школу до восьмого класса[10]. Даже выдающийся IQ не исключал необходимость наличия других необходимых условий.
Иногда может просто не хватать кого-то, кто бы мог указать правильное направление человеку с большим потенциалом. Один всемирно известный ученый упомянул однажды на общественном мероприятии, что, когда он был молод, он и не думал о поступлении в колледж до тех пор, пока кто-то другой не убедил его в такой необходимости. И он был не единственным человеком с выдающимися способностями, для которого это оказалось верным решением[11].
Некоторые другие люди, в том числе те, кто не мог похвастаться такими выдающимися способностями, как у нашего ученого, по умолчанию подали бы документы в колледж, если бы они происходили из социальной группы, для которой это является нормой. Но без того самого человека, который побудил его получить высшее образование, этот конкретный всемирно известный ученый вполне мог стать хорошим работником в какой-нибудь сфере, не требующей диплома, но при этом не стал бы ученым мирового уровня.
В зависимости от конкретной предпосылки к успеху, распределение людей по наличию у них данной предпосылки может в большей или меньшей степени соответствовать нормальной колоколообразной кривой. Тем не менее распределение успеха может быть значительно смещено в сторону тех, кто одновременно обладает всеми необходимыми качествами-предпосылками. Это справедливо не только в теории, эмпирические данные свидетельствуют о том, что такое положение актуально и на практике.
Например, в гольфе распределение таких индивидуальных навыков, как количество паттов за раунд или дистанция ударов с места начала игры на лунке, в некоторой степени приближается к колоколообразной кривой. Однако при этом наблюдается значительное искажение в распределении итоговых достижений, которые требуют владения целым комплексом навыков профессионального гольфиста – а именно победы в турнирах Professional Golfers’ Association – PGA [12]. [13]
Большинство профессиональных гольфистов не выиграли ни одного турнира PGA за всю свою жизнь [14], в то время как всего три гольфиста – Арнольд Палмер, Джек Никлаус и Тайгер Вудс – выиграли более 200 турниров на троих [15]. Помимо этого, похожим, асимметричным образом распределяются высшие достижения в бейсболе и теннисе, а также и в других видах деятельности [16].
Поскольку разные виды человеческой деятельности предполагают наличие многих необходимых предпосылок к успеху, мы не должны удивляться тому, что экономические или социальные преимущества в заданный момент времени не будут распределяться между людьми, группами, обществами и государствами равномерно или в случайном порядке. Также не стоит удивляться, что отстающие в одном столетии выходят в лидеры в следующем или что мировые лидеры одной эпохи становятся аутсайдерами в другой. Когда обретение или потеря даже одной необходимой предпосылки к успеху может кардинально поменять ход событий, превратив провал в успех, или, наоборот, оказывается логичным, что в меняющемся мире лидеры и аутсайдеры в одном веке или тысячелетии меняются ролями в последующих периодах.
Если сами предпосылки меняются с течением времени вместе с развитием новых направлений деятельности или если прогресс в человеческих знаниях коренным образом меняет существующие виды деятельности, вероятность того, что определенная модель успеха и провала станет постоянной, может сильно уменьшиться.
Возможно, самое революционное изменение в эволюции человеческих обществ – это развитие сельского хозяйства в течение последних 10 % времени существования человека как вида. Сельское хозяйство позволило прокормить сосредоточенное в городах население, которое, в свою очередь, стало (и продолжает быть) источником наиболее значимых научных, технологических и других достижений рода человеческого, которые мы называем цивилизацией [17].
Самые ранние известные цивилизации возникали в географических районах с поразительно схожими характеристиками. В их числе были долины рек, подверженные ежегодным наводнениям, будь то Древняя Месопотамия в долине реки Инд на Индийском субконтиненте в древние времена, Нил в Древнем Египте или долина реки Хуанхэ в Древнем Китае [18].
Очевидно, что были и другие предпосылки, поскольку на протяжении большей части истории человечества наличие этих конкретных комбинаций не приводило к возникновению сельского хозяйства или цивилизаций, полностью зависящих от него. Генетические характеристики, присущие расам в этих конкретных местах, едва ли являются основным критерием, так как в настоящее время население этих районов никоим образом не находится в авангарде достижений человечества.
Модели крайне неравномерного распределения успеха давно не редкость в реальном мире, и такие неравномерные показатели противоречат некоторым основным допущениям, принятым как в правых, так и в левых политических направлениях. Люди, занимающие противоборствующие позиции по многим вопросам, могут исходить из уровня вероятностей, который не соответствует реальности.
Тем не менее это искаженное восприятие вероятностей и неспособность реального мира соответствовать ожиданиям, возникающим из этого искаженного восприятия, могут стать движущей силой идеологических движений, ожесточенной политической борьбы и судебных решений, включая решения Верховного суда США, где статистика «дифференцированного воздействия», демонстрирующая разные последствия для разных групп, оказалась достаточным основанием для создания презумпции дискриминации.
В прошлом подобная статистическая диспропорция являлась достаточным основанием для продвижения генетического детерминизма, из которого возникла евгеника, законы, запрещающие межрасовые браки и другие колоссальные катастрофы – например Холокост.
Одним словом, значительное неравенство среди народов в их экономических показателях, научных открытиях, технологическом прогрессе и других достижениях стало отправной точкой для поиска объяснений, которые охватывают весь спектр идеологических подходов. Для проверки этих объяснений фактами целесообразно начать с анализа ряда эмпирических свидетельств неравенства среди людей, социальных групп, институтов и государств.
Эмпирические доказательства
За многими попытками объяснить и изменить очевидные диспропорции в упомянутых социально-экономических показателях скрывается предположение, что такие диспропорции не существовали бы без соответствующего неравенства либо в генетическом составе людей, либо в их отношении друг к другу. Это неравенство проявляется как среди отдельных индивидов, так и среди групп людей, объединенных в различные институты: от семей до предприятий и целых наций.
Неравномерное распределение различных показателей часто встречается в природе, в явлениях, неподвластных контролю человека, таких как молнии, землетрясения и торнадо.
На первый взгляд кажется правдоподобным следующее убеждение: если отсутствует какое-либо предвзятое вмешательство со стороны человека и нет генетических диспропорций, влияющих на показатели благополучия, то равные или, по крайней мере, сопоставимые показатели встречаются среди людей из различных социальных групп. Но ни одно из этих убеждений не выдерживает проверки эмпирическими данными.
Например, исследование конкурсантов программы National Merit Scholarship [19] показало, что среди финалистов из семей с пятью детьми, первенец становился финалистом чаще, чем остальные четыре брата и сестры вместе взятые [20]. Первенцы также составили большинство финалистов в семьях с двумя, тремя и четырьмя детьми [21]. Если нет равенства показателей среди людей, рожденных от одних и тех же родителей и выросших под одной крышей, то почему следует ожидать – или предполагать – равенство таких показателей, когда условия не столь сопоставимы?
Подобные результаты бросают вызов как сторонникам теории влияния наследственности, так и сторонникам влияния среды, в традиционном понимании этих терминов.
Данные по уровню IQ из Великобритании, Германии и Соединенных Штатов показали, что средний IQ первенцев выше, чем средний IQ их младших братьев и сестер. Более того, средний IQ вторых детей как группы был выше, чем средний IQ третьих детей [22].
Похожая картина обнаружена среди молодых людей, прошедших тесты на умственные способности перед военной службой в Нидерландах. Первенцы в среднем показывали более высокие результаты по сравнению со своими братьями и сестрами, причем вторые дети также в среднем показывали более высокие результаты, чем их младшие родственники… [23] Похожие результаты были обнаружены в тестах умственных способностей норвежцев [24]. Размеры выборок в этих исследованиях составляли сотни тысяч человек [25].
Эти «преимущества первенца», по-видимому, сохраняются и в дальнейшей жизни во многих областях. Данные о студентах-медиках мужского пола Мичиганского университета (выпуск 1968 года) показали, что доля мужчин-первенцев в этом выпуске превышала долю их младших братьев более чем в два раза, а также более чем в 10 раз превышала долю среди мужчин, рожденных четвертыми или позже [26]. Исследование 1978 года, проведенное среди абитуриентов медицинского факультета в Нью-Джерси, продемонстрировало, что большинство студентов, успешно прошедших отбор, были перевенцами [27]. Другие исследования, некоторые из которых датируются XIX веком, показывают аналогичные результаты [28].
В большинстве других стран доля молодых людей, поступающих в колледж или университет, не так высока, как в Соединенных Штатах. Однако независимо от этой доли в конкретной стране первенцы чаще продолжают образование в высшем учебном заведении, чем более поздние дети. Исследование среди британцев, проведенное в 2003 году, показало, что высшее образование получили 22 % из старших детей в семье, по сравнению с 11 % из тех, кто был четвертым ребенком, и 3 % из тех, кто родился 10-м ребенком [29].
Исследование более 20 000 молодых людей во Франции конца XX века показало, что четыре года колледжа закончили 18 % мужчин, которые были единственными детьми в семье, по сравнению с 16 % мужчин-первенцев и 7 % мужчин, которые родились пятыми детьми или были еще младше. Среди женщин эта диспропорция была несколько больше. 23 % из тех, кто был единственным ребенком, закончили четыре года обучения в колледже, по сравнению с 19 %, которые родились первенцами. Только 5 % из женщин, кто родился пятым или позже, смогли закончить колледж [30].
Различия, связанные с порядком рождения, сохраняются по мере продвижения людей по карьерной лестнице. Исследование около 4000 американцев показало, что у тех, кто родился позже, «снижение среднего заработка выражено более отчетливо», чем снижение уровня образования [31]. Другие исследования показали, что первенцы значительно преобладают среди юристов в районе Большого Бостона [32] и среди членов Конгресса [33]. Из 29 первых астронавтов программы «Аполлон», отправившей человека на Луну, 22 были либо первенцами, либо единственными детьми [34]. Первенцы и единственные дети также преобладали среди ведущих композиторов классической музыки [35].
Представьте, сколько общего у детей, рожденных от одних и тех же родителей и выросших под одной крышей: раса, семейный генофонд, экономический уровень, культурные ценности, возможности получения образования, уровень образования и интеллектуальный уровень родителей, а также родственники, соседи и друзья – тем не менее одна только разница в порядке рождения уже привела к очевидной диспропорции в показателях их достижений.
Независимо от того, какими общими достоинствами или недостатками обладают дети в одной семье, существует одно явное преимущество, характерное только для первенцев и единственных детей, – это безраздельное внимание родителей в период раннего развития ребенка.
Подтверждением этого вывода служит тот факт, что у близнецов IQ в среднем на несколько пунктов ниже, чем у людей, родившихся поодиночке [36]. Можно предположить, что более низкий показатель IQ близнецов закладывается еще в утробе матери, но, когда один из близнецов рождается мертвым или рано умирает, средний IQ выжившего близнеца приближается к IQ людей, родившихся единолично [37]. Это говорит о том, что для близнецов, как и для других людей, ключевым фактором может являться внимание родителей: было ли оно распределено между несколькими детьми или полностью и безраздельно уделялось одному ребенку.
В дополнение к отличающимся количественно объемам родительского внимания, доступного детям в зависимости от их порядка рождения, существуют также качественные различия в родительском внимании к детям в целом, с учетом социального класса [38]. Было обнаружено, что дети родителей, имеющих профессию (карьеру специалиста), слышат в среднем 2100 слов в час, в то время как дети из семей рабочего класса слышат 1200 слов в час, а дети из семей, находящихся на социальном обеспечении, – 600 слов в час [39]. Другие исследования показывают, что существуют также качественные различия в манере взаимодействия родителей и детей в разных социальных классах [40].
На этом фоне ожидания или предположения о равных или сопоставимых показателях достижений детей, воспитанных такими разными способами, не имеют под собой никаких оснований. Так же и дальнейшие диспропорции в показателях успеха людей в школах, колледжах или на работе не могут быть автоматически приписаны тем, кто им преподает, выпускает из учебного заведения или нанимает на работу, поскольку эмпирические данные показывают: воспитание людей может повлиять на то, какими они станут взрослыми.
Дело не просто в том, что молодые люди, воспитанные по-разному, могут иметь различные уровни способностей во взрослом возрасте. Люди разного социального происхождения также могут иметь непохожие цели и приоритеты – на вероятность этого мало или совсем не обращают внимания во многих исследованиях, которые измеряют количество возможностей через количество случаев продвижения вверх по социальной лестнице [41], как если бы все одинаково стремились к такому продвижению, и только наличие социальных барьеров приводило бы к диспропорции в показателях успеха.
Наиболее заметные достижения связаны со множеством факторов – начиная с желания добиться успеха в конкретном начинании и готовности делать все, что необходимо для успеха. Без этого все врожденные способности человека и все его социальные возможности ничего не значат, так же, как и желание и возможности ничего не значат без способностей.
Это предполагает среди прочего, что у человека, народа или государства может быть некоторое количество, множество или большая часть необходимых предпосылок для достижения определенного успеха, но при этом прогресс в его достижении может отсутствовать. И все же этот человек, народ или нация могут внезапно ворваться на сцену с впечатляющим успехом, когда недостающий фактор или факторы, наконец, добавятся к общей картине.
В число бедных и отсталых стран, которые внезапно выдвинулись на передовую линию достижений человечества, входят Шотландия, начиная с XVIII века, и Япония, начиная с XIX века. Обе страны пережили стремительный подъем, по историческим меркам.
Шотландия на протяжении веков была одной из беднейших, наиболее отстающих в экономическом и образовательном отношении стран на периферии Европейской цивилизации. Говорили, что в XIV веке не было ни одного шотландского барона, который мог написать свое имя [42]. И все же в XVIII и XIX веках непропорционально большое число ведущих интеллектуальных деятелей Великобритании имели шотландское происхождение, в их числе Джеймс Уотт в инженерном деле, Адам Смит в экономике, Дэвид Юм в философии, Джозеф Блэк в химии, сэр Вальтер Скотт в литературе и Джон Стюарт Милль в экономике и философии.
Среди изменений, произошедших с шотландцами, была кампания их протестантских церквей по пропаганде идеи о том, что каждый должен научиться читать, чтобы иметь возможность читать Библию самостоятельно, без участия священников, которые объясняли бы им ее содержание. Другим изменением стала более светская, но все еще активная кампания за изучение английского языка, который заменил их родной гэльский, распространенный среди жителей шотландских равнин, и тем самым открыл шотландцам гораздо больше областей письменных знаний.
В некоторых из этих областей знаний, включая медицину и инженерное дело, шотландцы в конечном итоге превзошли англичан и стали известны во всем мире. В основном это были жители юга Шотландии, а не горцы, которые продолжали говорить на гэльском языке еще несколько поколений.
Япония также была бедной, малообразованной и технологически отсталой страной еще в середине XIX века. Японцы были поражены, впервые увидев поезд, презентованный им американским коммодором Мэтью Перри, чьи корабли посетили Японию в 1853 году [43]. Тем не менее, когда последующие поколения приложили невероятные национальные усилия, чтобы технологически догнать западный мир, это привело к тому, что во второй половине XX века Япония оказалась в авангарде технологий в ряде областей. Среди прочего, Япония создала сверхскоростной поезд, который превзошел все, что производилось в Соединенных Штатах.
Другие выдающиеся достижения были продемонстрированы не государством, а конкретным народом. Мы настолько привыкли наблюдать многочисленные открытия мирового уровня в области искусства и науки авторства еврейских интеллектуалов, что необходимо отметить: это «народное» достижение неожиданно стало широко распространенным социальным явлением в XIX и XX веках.
Хотя отдельные еврейские интеллектуальные деятели международного уровня существовали и в некоторые более ранние столетия.
Как выразился один выдающийся историк экономики: «Несмотря на огромное преимущество в грамотности и человеческом капитале на протяжении многих столетий, евреи играли практически ничтожную роль в истории науки и техники до и во время ранней промышленной революции». Более того, «великие достижения науки и математики между 1600 и 1750 годами не включают работы, связанные с еврейскими именами» [44].
Каким бы ни был потенциал евреев в эпоху промышленной революции, несмотря на их грамотность и другой человеческий капитал, у них часто было мало возможностей получить доступ к институтам, доступным широкой общественности в Европе, где промышленная революция началась. Евреи не допускались в большинство университетов Европы до XIX века.
В конце XVIII века в США был введен полный Конституционный запрет на федеральные законы, дискриминирующие по религиозному признаку. Это событие сделало Соединенные Штаты пионером в предоставлении евреям законных прав, уравнивающих их с остальными гражданами. Франция последовала этому примеру после революции 1789 года. В течение XIX века в разное время и другие страны начали ослаблять или отменять различные запреты для евреев.
В результате этих событий евреи стали поступать в университеты, а затем и массово наводнять их. Например, к 1880 годам евреи составляли 30 % всех студентов Венского университета [45]. Конечным результатом в конце XIX-го и в XX веке стало относительно внезапное увеличение числа всемирно известных еврейских деятелей во многих областях, включая те, в которых ранее евреи фактически отсутствовали среди лидеров.
С 1870 по 1950 год евреи в значительной степени преобладают среди выдающихся деятелей искусства и науки по сравнению с их долей в населении в различных европейских странах и в Соединенных Штатах. Во второй половине XX века, когда евреи составляли менее 1 % населения мира, они получили 22 % Нобелевских премий по химии, 32 % по медицине и 32 % по физике [46].
Здесь, как и в других совершенно разных контекстах, колебания в наличии всех предпосылок и в степени выполнения всех необходимых условий могут иметь драматические последствия для итоговых показателей успеха за относительно короткий период времени по историческим меркам. Тот факт, что евреи достигли значительных успехов в определенных областях после устранения различных барьеров, не означает, что другие группы автоматически сделали бы то же самое, если бы барьеры против них были устранены, поскольку у евреев уже была масса других предпосылок для таких достижений – в частности, широко распространенная грамотность на протяжении веков, когда неграмотность была нормой во всем мире, – и евреям нужно было только добавить то, чего недоставало ранее для удовлетворения необходимых условий успеха.
В противоположность этому Китай на протяжении веков был самой технологически развитой страной в мире, особенно в период так называемого Средневековья в Европе. Китайцы изобрели чугун за тысячу лет до европейцев [47]. Один китайский адмирал возглавлял разведывательную экспедицию, которая длилась дольше, чем путешествие Колумба. Случилось это за несколько поколений до путешествия Колумба [48] и на кораблях, гораздо больших по размеру и технологически более совершенных, чем корабли Колумба [49].
Однако одно важнейшее решение, принятое в Китае в XV веке, привело к радикальному изменению в относительном положении китайцев и европейцев. Подобно другим народам, явно превосходящим других в развитии, китайцы считали эти другие народы априори неполноценными – «варварами», – подобно тому как римляне относились к народам за пределами владений Римской империи.
Убедившись в результате исследовательских экспедиций своих кораблей в том, что необходимость учиться чему-либо у других народов отсутствует, в 1433 году правительство Китая приняло решение не только приостановить подобные путешествия, но и запретить их, а также наложить вето на строительство судов, способных совершать такие путешествия. Это было сделано с целью уменьшить влияние внешнего мира на китайское общество.
Каким бы оправданным ни казалось это решение в то время, оно было принято, когда Европа выходила из упадка «мрачного средневековья», последовавшего за закатом и падением Римской империи. Европа тогда переживала эпоху Возрождения – прогресса во многих направлениях, включая прогресс, основанный на развитии идей и изобретений, зародившихся в Китае, таких как книгопечатание и порох. Корабли Колумба, хотя и не соответствовали стандартам тех, что когда-то были построены в Китае, оказались пригодными для того, чтобы пересечь Атлантический океан в поисках пути в Индию и случайно совершить изменившее мир открытие целого полушария.
В общем, Европа расширяла возможности для прогресса как внутри самой себя, так и в более широком мире, который открылся перед ней благодаря экспансии на другую половину планеты. В это время правители Китая выбрали путь изоляции – не тотальной, но существенной. Смирительная рубашка изоляции, наложенная на многие части мира географическими барьерами, привела к тому, что целые народы и нации оставались бедными и отсталыми [50]. Китайские правители сами сделали такой выбор для собственной страны. В результате этого выбора в последующие столетия Китай отстал от эпохи великого технологического и экономического прогресса других стран мира.
В безжалостных международных джунглях это означало, что другие страны не только превзошли Китай, но и навязали ему, уязвимому, свою волю. Китай частично подчинялся другим странам в различных отношениях, включая потерю территории: португальцы захватили порт Макао, британцы – порт Гонконга, а Япония в конечном итоге завладела значительной частью материкового Китая.
Китай утратил не предпосылки, представленные качествами его народа, а утратил он мудрость своих правителей, которые одним роковым решением – потерей всего лишь одного необходимого условия – лишили страну мирового превосходства.
О том, что качества китайского народа сохранились, свидетельствует всемирный успех миллионов «выходцев из Китая» – эмигрантов, которые приезжали во многие страны Юго-Восточной Азии и Западного полушария. Часто бедные и малообразованные, они поднимались на протяжении поколений к процветанию, а во многих отдельных случаях даже к большому богатству. Контраст между судьбой Китая и судьбой «выходцев из Китая» был продемонстрирован, когда в 1994 году 57 миллионов «выходцев из Китая» достигли уровня благосостояния, равного благосостоянию миллиарда человек, живущих в Китае [51].
Среди наиболее ужасных национальных проектов, которые потерпели неудачу в других странах (к счастью, в данном случае) из-за отсутствия одной из предпосылок, была попытка нацистской Германии создать ядерную бомбу. У Гитлера не только была такая программа, она была у него еще до того, как Соединенные Штаты запустили аналогичную программу. Германия в тот момент была в авангарде науки в области ядерной физики. Однако так случилось, что в тот конкретный момент истории многие из ведущих физиков-ядерщиков мира были евреями. А фанатичный антисемитизм Гитлера не только препятствовал их участию в его проекте создания ядерной бомбы, но и его действия в целом, представлявшие угрозу выживанию евреев, заставили многих из этих физиков покинуть Европу и иммигрировать в Соединенные Штаты.
Именно еврейские физики-ядерщики экспатрианты сообщили об угрозе создания нацистской ядерной бомбы президенту Франклину Д. Рузвельту и призвали к созданию американской программы по производству такой бомбы до того, как она появится у нацистов. Более того, еврейские ученые – как из числа экспатриантов, так и американские – сыграли важную роль в разработке американской ядерной бомбы [52].
Эти ученые были ключевым ресурсом, которым обладали Соединенные Штаты и которого Гитлер лишился из-за своего расового фанатизма. Весь мир избежал перспективы массового уничтожения и/или сокрушительного подчинения нацистскому гнету и дегуманизации, потому что в ядерной программе Гитлера не хватало одного ключевого фактора. У него было несколько выдающихся физиков-ядерщиков, но их было недостаточно.
Китай вовсе не был единственной страной, утратившей превосходство над другими государствами мира. Древняя Греция и Римская империя были гораздо более развиты, чем их британские или скандинавские современники, которые в большинстве своем отличались неграмотностью, в то время, когда некоторые греки и римляне являлись выдающимися гигантами мысли и закладывали интеллектуальные и материальные основы западной цивилизации. Еще в X веке один мусульманский ученый заметил, что европейцы становятся тем светлее, чем они севернее проживают, а также, что «чем ближе они к северу, тем они более глупые, грязные и грубые» [53].
Такая корреляция между цветом лица и способностями сегодня была бы табу, но нет оснований сомневаться в том, что подобная взаимосвязь среди европейцев вполне реально существовала в то время, когда было сделано это наблюдение. Тот факт, что Северная Европа и Западная Европа опередили Южную Европу в экономическом и технологическом отношении много столетий спустя, является обнадеживающим признаком того, что отсталость в одну определенную эпоху не означает, что эта отсталость навсегда. Однако это не отрицает факт, что в определенные времена и в определенных локациях между народами и государствами существовало огромное экономическое и социальное неравенство.
Отдельные институты, такие как коммерческие предприятия, также с течением времени претерпевали стремительный взлет или драматическое падение. Многие ведущие американские предприятия начинали свой рост со ступени скромного коммивояжера (например, Macy’s [54] и Bloomingdale’s [55]) или были основаны людьми, рожденными в бедности (Дж. К. Пенни, Ф. У. Вулворт), или зародились в гараже (Hewlett Packard [56]). И наоборот, были ведущие предприятия, которые – из-за потери всего одной предпосылки/ресурса – скатились вниз с вершин успеха и высоких доходов, вплоть до банкротства.
На протяжении более 100 лет компания Eastman Kodak [57] была лидером в фотоиндустрии во всем мире. Именно Джордж Истман в конце XIX века впервые сделал фотографию доступной для большого числа простых людей благодаря своим камерам и пленке, не требующим технических знаний профессиональных фотографов. До появления фотоаппаратов и пленки Kodak профессиональные фотографы должны были знать, как наносить светочувствительные эмульсии на фотографические пластинки, которые вставлялись в большие, громоздкие фотоаппараты, установленные на штативах, а также знать, как впоследствии химически проявлять сделанные изображения и затем печатать снимки.
Компактные простые портативные фотоаппараты Kodak и катушка с пленкой вместо фотопластинок позволили людям, вообще не имеющим технических знаний, делать снимки, а затем отдавать их в проявку и без проблем печатать. Камеры и фотопленка Kodak распространились по всему миру. На протяжении десятилетий Eastman Kodak продавала большую часть пленки во всем мире. Она продолжала продавать большую часть пленки на мировом рынке даже после того, как такую же начали производить в других странах, а пленка Fuji из Японии в конце XX века крупно продвинулась, завоевав к 1993 году долю мирового рынка в 21 % [58].
Также Eastman Kodak предоставляла как любителям, так и профессиональным фотографам широкий спектр фотооборудования и расходных материалов на базе пленочных технологий. На протяжении более чем столетия компания Eastman Kodak явно имела все предпосылки для успеха. В 1988 году в компании работало более 145 000 человек по всему миру, а ее годовой доход достиг пика почти в 16 миллиардов долларов в 1996 году [59]. Однако мировое господство неожиданно закончилось в начале XXI века, когда доходы компании резко упали, и Kodak обанкротилась [60].
В фотоиндустрии изменился лишь один ключевой фактор: пленочные камеры были заменены цифровыми. Мировые продажи пленочных фотоаппаратов достигли пика в 2000 году, их количество более чем в четыре раза превышало продажи цифровых. Но три года спустя, в 2003, продажи цифровых фотоаппаратов впервые превысили продажи пленочных. Затем, всего через два года после этого, продажи цифровых камер превысили пиковые значения продаж пленочных фотоаппаратов, достигнутые в 2000 году, и теперь они более чем в четыре раза превышали продажи пленочных [61].
Компания Eastman Kodak, которая выпустила первую в мире электронную светочувствительную матрицу [62], была уничтожена собственным изобретением, которое другие компании довели до более высокого уровня в цифровых камерах. В их число входили компании-производители электроники, изначально не работавшие в фотоиндустрии, такие как Sony. Ее доля на рынке цифровых камер к концу XX и в начале XXI века более чем вдвое превысила долю Eastman Kodak [63].
С внезапным коллапсом рынка пленочных камер обширный спектр фотоаппаратуры и расходников Kodak, основанный на пленочной технологии, сразу потерял большую долю своего рынка, и Eastman Kodak потерпела экономический крах. Стоило поменяться всего одному условию, гарантирующему успех, как все имеющиеся у Kodak предпосылки к успеху перестали иметь значение. И такой крах Eastman Kodak после подавляющего превосходства в своей области не был исключением [64].
В природе, как и в человеческой деятельности, для возникновения различных природных явлений может существовать множество предпосылок, и эти многочисленные предпосылки также могут привести к очень неравномерному распределению показателей благополучия.
Для возникновения торнадо должно сойтись воедино множество факторов, и более 90 % всех торнадо в мире происходят только в одной стране – Соединенных Штатах [65]. Однако ни в общем климате, ни в рельефе Соединенных Штатов нет ничего поразительно уникального, чего нельзя было бы найти в качестве индивидуальных особенностей в других различных местах по всему миру. Но нигде в остальном мире все предпосылки для возникновения торнадо не складываются вместе так часто, как в Соединенных Штатах.
Точно так же молнии возникают чаще в Африке, чем в Европе и Азии вместе взятых, хотя одна только Азия по размеру больше, чем Африка или любой другой континент [66]. Имеются определенные предпосылки для возникновения гроз, и в одних географических условиях эти предпосылки встречаются вместе чаще, чем в других. В Соединенных Штатах в южной Флориде грозы случаются в 20 раз чаще, чем в прибрежной Калифорнии [67].
Ко многим другим неравномерным распределениям в природе относится тот факт, что землетрясения на побережье Тихого океана (как в Азии, так и в Западном полушарии) столь же часты, сколь они редки на всем побережье Атлантики [68]. Среди прочих показателей высокой диспропорции в природе является факт, что в некоторых географических условиях появляется во много раз больше видов флоры и фауны, чем в других. Амазония в Южной Америке является одним из таких регионов:
В бассейне Амазонки в Южной Америке находятся самые большие в мире массивы влажных тропических лесов. Их разнообразие известно. На одном перуанском дереве Уилсон [69] (1988) обнаружил 43 вида муравьев, что сопоставимо со всей муравьиной фауной Британских островов [70].
Подобные значительные различия были выявлены и в количестве видов рыб в регионе Амазонки в Южной Америке по сравнению с их количеством в Европе: «В амазонском пруду размером с теннисный корт было поймано в восемь раз больше видов рыб, чем существует во всех реках Европы» [71].
Люди, конечно, тоже являются частью природы. Генетическое сходство между шимпанзе и людьми составляет более 90 % их набора генов. Но шимпанзе, очевидно, не создали 90 % того, что создали люди, в том числе самолеты, компьютеры и ракеты, которые могут достичь Луны и отправиться дальше, в открытый космос. Существует даже микроскопическое червеобразное существо, у которого большая часть генетической структуры совпадает с человеческой [72]. Но наличие множества или большинства предпосылок может не иметь никакого значения для достижения конечного результата, рассматриваемого нами как благополучие.
Влияния
Какой вывод мы можем сделать из всех этих примеров крайне неравномерного распределения показателей благополучия по всему миру? Ни в природе, ни среди людей показатели не распределяются обязательно одинаково или случайно. Напротив, крайне неравномерное распределение показателей является обычным явлением как в природе, так и среди людей, в том числе в обстоятельствах, не имеющих отношения ни к генам, ни к дискриминации.
Логичнее всего заключить, как отметил историк экономики Дэвид С. Ландес, что «в мире никогда не было равных условий для всех» [73]. Идея о том, что равные условия для всех могли бы существовать, если бы не гены или дискриминация, является предрассудком, противоречащим логике и фактам. Нет ничего проще, чем обвинить людей во всех грехах, но автоматически делать эти грехи единственной или даже основной причиной наличия диспропорций в распределении благосостояния у разных народов – значит игнорировать многие другие причины возникновения этих диспропорций. География и демография, например, относятся к числу многих факторов, которые делают достижение равных или случайных показателей благополучия разными людьми весьма маловероятным.
География является непреодолимым препятствием для равных или случайных показателей благополучия, которые безоговорочно считаются нормой в отсутствии дискриминации или генетических различий. Огромная разница в стоимости перевозок между водным и наземным транспортом – это лишь один из аспектов географии, который способствует неравномерному распределению таких показателей.
Еще во времена Римской империи стоимость перевозки груза через все Средиземное море – более 3000 км – была меньше, чем стоимость перевозки того же груза на 1250 км вглубь страны [74]. Это означало, что люди, живущие на побережье, имели гораздо более широкий спектр экономических и культурных взаимодействий с другими людьми. В одном географическом трактате указывалось, что в древние времена внутренние районы Европы «отставали по уровню развития цивилизации по сравнению со средиземноморским побережьем» [75].
В середине XIX века до Сан-Франциско можно было добраться быстрее и дешевле по воде через Тихий океан из порта в Китае, чем по суше из центра Соединенных Штатов [76]. Такая огромная разница в стоимости между наземным и водным транспортом означала, что люди, живущие на побережье, имели значительно более широкий экономический и культурный доступ, чем те, кто жил в глубине страны.
Люди, живущие на побережье, давно имели возможность общаться и взаимодействовать – экономически и иным образом – на больших расстояниях с другими жителями побережья, а также с народами из более отдаленных регионов. У людей, живущих в изолированных районах, будь то отдаленные горные деревни, тропические джунгли или труднодоступные пустыни, не было сопоставимых возможностей для экономического и социального развития на протяжении веков.
Современные революционные изменения в наземном, морском и воздушном транспорте ослабили – но ни в коем случае не устранили – разность в стоимости доступа к внешнему миру по воде и по суше. Более того, эта современная транспортная революция никак не может устранить продолжающие существовать последствия прошлых столетий очень разного экономического и социального развития народов, живущих в совершенно различных географических условиях.
Народы, селившиеся на побережьях, во все времена имели тенденцию быть более процветающими и развитыми, чем люди той же расы, живущие дальше вглубь страны. Также по всему миру наблюдалась тенденция к тому, что народы, живущие в речных долинах, более процветающие и развитые по сравнению с народами, живущими на удаленных возвышенностях и в горах [77].
Транспортные расходы на доставку товаров в горные районы и из них долгое время были непомерно высокими для всех товаров, кроме тех, что имеют очень высокую ценность при малых размерах и весе. Изысканные ремесленные изделия, производимые во многих горных общинах по всему миру [78], обеспечивали некоторую экономическую поддержку при той бедности, которая долгое время была характерна для таких горных общин.
Климат и почва также являются географическими препятствиями для равных перспектив и равных показателей благополучия. Большая часть самых плодородных земель мира находится в зонах умеренного климата, а в тропиках их практически нет [79]. Это влияет не только на сельское хозяйство, но также на сроки и темпы урбанизации, зависящей от объема производства продуктов питания, необходимых для снабжения сосредоточенно проживающего городского населения.
Области, расположенные как у моря, так и в умеренных зонах, занимают 8 % обитаемой площади мира, на них проживает 23 % мирового населения и производится 53 % мирового валового внутреннего продукта [80].
Не все это связано с нынешней значимостью плодородных земель и сельского хозяйства. Но даже современные высокоразвитые и коммерческие общества возникли только по прошествии столетий развития цивилизации и градостроительства. При этом истоки, масштаб и темпы застройки зависели от достаточно продуктивного сельского хозяйства, которое позволило создавать и развивать городские сообщества задолго до того, как подобные общества могли сопоставимо развиться в местах с менее плодородными землями.
Общества, по-разному расположенные относительно таких географических факторов, как плодородные земли, судоходные водные пути и наличие или отсутствие животных, пригодных в качестве тягловой силы или вьючного скота, имели – на протяжении веков или тысячелетий – совершенно разные перспективы для перехода в передовые общества в одинаковом темпе [81].
Большая часть Западного полушария географически похожа на Европу с точки зрения плодородной почвы, судоходных водных путей и климата. Но она была полностью лишена тяглового скота или вьючных животных, таких как лошади и волы, пригодных для выполнения тяжелой работы, до тех пор пока европейцы не завезли их в западное полушарие. Даже более мелкие ламы, которых инки использовали в качестве вьючных животных до прихода европейцев, обитали лишь в небольшой части Южной Америки.
Факторы, которые существенно повлияли на развитие этих обществ в прошлом, такие как плодородие земель, могут быть не столь важны сегодня, когда высокоразвитые индустриальные или коммерческие общества могут легко импортировать продовольствие и сырье из глобализированной мировой экономики. Похожим образом некогда решающая социально-экономическая роль тяглового и вьючного скота теперь в большинстве промышленно и коммерчески развитых странах в значительной степени заменена автомобилями, грузовиками, тракторами, железными дорогами и самолетами. Но тягловые и вьючные животные сыграли важную роль в развитии этих стран до того момента, когда их смогли заменить самоходными механизмами. Современные общества могут значительно различаться по уровню социально-экономического развития в зависимости от того, в какой степени их развитие было облегчено или затруднено географическими факторами в прошлом.
Одних географических различий было достаточно, чтобы исключить равные возможности, которые, по мнению многих, существовали бы при отсутствии дискриминационных предубеждений или генетических различий. Горные народы не являются расой, поскольку они существуют на разных континентах по всему миру и были изолированы друг от друга на протяжении тысячелетий. Тем не менее у них много общих социальных характеристик, которые делают их возможности и достижения сильно отличающимися от возможностей и достижений людей в окружающих низменностях и еще больше отличающимися от возможностей и достижений людей, живущих в прибрежных районах.
Горные народы составляют примерно 10–12 % населения земного шара [82], что может показаться небольшим показателем, но в абсолютных цифрах это население более чем в два раза превышает численность населения Соединенных Штатов и более чем в 10 раз превышает численность населения Италии [83]. Однако в то время как Италия породила такие знаковые фигуры в истории человечества, как Галилей, да Винчи, Микеланджело, Маркони и Ферми, горные сообщества мира не произвели таких личностей, несмотря на то что их население намного больше, чем население Италии.
Это не критика горных народов, а попытка продемонстрировать последствия ограничений, присущих их географическим условиям. Горные народы внутри Италии не добились таких значительных достижений, как остальная часть населения этой страны. Классическое исследование горной деревни в Италии, проведенное в середине XX века, показало, что живущие там люди были не только отчаянно бедны, но и в значительной степени отрезаны от внешнего мира [84]. У большинства горных народов не было ничего похожего на равные возможности по сравнению с их современниками в более благоприятных географических районах, даже несмотря на то что причиной их бедственного положения были не другие люди, а присущие их условиям географические ограничения.
Влияние географии не ограничивается конкретными географическими характеристиками, такими как затраты на водный транспорт по сравнению с наземным транспортом или различия в плодородии почвы. Географическое положение как таковое может оказывать существенное влияние. Когда в доисторические времена на Ближнем Востоке развилось сельское хозяйство, а вместе с ним и более продвинутая городская цивилизация с письменностью и прочими достижениями, знания о таких достижениях добрались до Греции гораздо раньше, чем до Британских островов или Скандинавии, просто потому, что Греция была расположена ближе к месту зарождения этих достижений прогресса. Древнегреческая цивилизация стала гораздо более развитой почти по любым аспектам, чем общества, проживающие в те времена на Британских островах или в Скандинавии.
На протяжении веков, по мере возникновения в различных частях света очагов прогресса, народы, расположенные ближе к этим источникам, получали возможности для собственного развития, которых не имели народы, находившиеся на большем удалении. Многочисленные исторические события – войны, политические потрясения, опустошительные эпидемии, массовые миграции, знаковые путешествия, а также научные и технологические прорывы – в совокупности предоставили радикально отличающиеся возможности для разных народов, проживающих в разных регионах и даже внутри одного общества.
Мультиэтнические общества, состоящие из разных групп других сообществ по всему миру, могут в некоторой степени наследовать культурные последствия весьма различных преимуществ и недостатков географического расположения этих других сообществ, а также текущее влияние социума, в котором все они живут в настоящий момент. Ученые, посвятившие себя изучению подобных явлений, часто приходили к выводам радикально противоположным тому, что отсутствие равных показателей благополучия является одновременно необычным и подозрительным.
Заключение французского историка Фернана Броделя о том, что «ни в одном обществе все регионы и все части населения не развивались одинаково» [85], подтверждается выводами других ученых, проводивших эмпирические исследования народов, институтов и обществ по всему миру. Проведенное профессором Дональдом Л. Горовицем из Университета Дьюка [86] масштабное международное исследование этнических групп показало, что идея их «пропорционального представительства» является утопией, а идеал недостижим, так как к нему «немногие общества когда-либо приближались, если таковые вообще были» [87]. Исследование профессора Майрона Вайнера из Массачусетского технологического института приводит к следующему выводу: «Во всех мультиэтнических обществах наблюдается тенденция к тому, что этнические группы занимаются разными профессиями, имеют разные уровни (и типы) образования, получают разные доходы и занимают разное место в социальной иерархии» [88]. Международное исследование этнического состава вооруженных сил показало, что «состав военных далек от хотя бы приблизительного соответствия мультиэтническому обществу», из которого они были набраны [89].
Также были обнаружены специфические территориальные различия, характеризующие разные социально-экономические показатели и интеллектуальные достижения. Профессор Анджело Кодевилла, например, разделил Европу на различные культурные зоны и пришел к выводу, что «у европейского ребенка будет совсем разная жизнь» в зависимости от того, родится он «восточнее или западнее линии, которая начинается в Прибалтике и тянется на юг вдоль восточной границы Польши, вниз по западной границе Словакии и вдоль восточной границы Венгрии, затем продолжается вниз через середину Боснии к Адриатическому морю» [90].
Монументальный эмпирический трактат Чарльза Мюррея «Человеческие достижения» проследил различия в историческом прогрессе искусства и науки в разных частях Европы и заключил, что «80 % всех значительных европейских деятелей можно отнести к территории, не включающей Россию, Швецию, Норвегию, Финляндию, Испанию, Португалию, Балканы, Польшу, Венгрию, Восточную и Западную Пруссию, Ирландию, Уэльс, большую часть Шотландии, нижнюю четверть Италии и около трети Франции» [91]. В Соединенных Штатах это же исследование выявило аналогично искаженные территориальные различия в происхождении выдающихся достижений в области искусства и науки: при этом представители северо-востока были значительно переоценены, а большая часть Южных Штатов, за исключением Вирджинии, была представлена недостаточно [92].
Среди самых игнорируемых факторов, провоцирующих диспропорции социально-экономических показателей как внутри стран, так и между странами, находятся такие демографические факторы, как различия в показателях среднего возраста. Эти различия, как и их последствия, не так уж и малы.
В Соединенных Штатах, например, разница в доходах между людьми среднего возраста и молодыми совершеннолетними людьми больше, чем разница в доходах между чернокожими и белыми [93]. Более того, эти различия в доходах между возрастными группами со временем увеличились, поскольку физическая жизнеспособность молодежи стала менее ценной с экономической точки зрения из-за замены силы человеческих мышц механической и электрической энергией, в то время как развитие человеческого капитала – знаний, навыков и опыта – получило большую ценность по мере развития более передовых технологий и более сложных организаций.
Этнические и другие социальные группы различаются по среднему возрасту на целых два десятилетия и более. Например, в Соединенных Штатах средний возраст американцев японского происхождения составляет 51 год, а американцев мексиканского происхождения – 27 лет [94].
Насколько вероятно, что эти две группы – или другие – будут иметь одинаковую долю населения, в равной степени представленную в профессиях, институтах или видах деятельности, требующих многолетнего образования и/или многолетнего опыта работы? Разве удивительно, что испано-американцы представлены не так широко, как американцы японского происхождения, в профессиях или управленческой деятельности, для которых обычно требуются долгие годы образования и опыта? Сколько 27-летних людей любой национальности соответствуют требованиям, предъявляемым к генеральным директорам в гражданской жизни или генералам и адмиралам в армии?
Даже если бы американцы японского и мексиканского происхождения были абсолютно идентичны во всем остальном, кроме возраста, они тем не менее значительно отличались бы по доходам и другим показателям, зависящим от возраста. Конечно, расовые, этнические и другие группы редко, если вообще когда-либо, совпадают во всем остальном. Это делает перспективы достижения равных показателей еще более маловероятными, а неравенства в достижениях – еще более сомнительными в качестве автоматических индикаторов дискриминации. С точки зрения способностей человек не равен даже самому себе на разных этапах жизни, не говоря уже о том, чтобы быть равным широкому кругу других людей на разных этапах их собственной жизни.
В этих обстоятельствах обеспечение равных прав и равного отношения ко всем не приводит к равным результатам – и фактически гарантирует неравенство и диспропорцию социально-экономических показателей. Это не означает, что генетические факторы или дискриминация могут быть полностью исключены как возможные причины таких диспропорций. Но потребуются веские доказательства для подтверждения этих гипотез. Таким образом, эти предположения остаются проверяемыми гипотезами, а не заранее сделанными выводами.
Убеждение в том, что диспропорции в распределении доходов являются индикатором неравного отношения к людям с более низким заработком, оказывается частью более общего набора предположений, которые допускают, что существует один доминирующий фактор, объясняющий различия в итоговых показателях благополучия. В начале XX века считалось, что таким доминирующим фактором экономического, интеллектуального и других неравенств является генетика [95]. Эта теория была тогда такой же популярной, какой сегодня является противоположное мнение, согласно которому неравенства в показателях свидетельствуют о дискриминации. В то время в американских колледжах и университетах предлагались сотни курсов по евгенике [96], подобно тому, как сегодня многие академические учреждения предлагают курсы, – и целые факультеты – которые учат, что неравенство социально-экономических показателей подразумевает дискриминацию.
Генетический детерминизм не был уникальным явлением для Соединенных Штатов и не ограничивался каким-либо конкретным политическим или идеологическим спектром, хотя тогда американские прогрессисты играли ведущую роль в продвижении идей генетического детерминизма в стране. Аналогично во второй половине XX века они же стали лидерами в распространении противоположной теории, которая гласит: неравенство подразумевает дискриминацию. По обе стороны Атлантики и в обе эпохи ведущие интеллектуальные и политические деятели были в авангарде тех, кто продвигал доминирующие в свое время теории.
В Англии, например, Джон Мейнард Кейнс был одним из основателей евгенического общества в Кембриджском университете, а такие всемирно известные британские писатели левого политического толка, как Герберт Уэллс, Джордж Бернард Шоу, Джулиан Хаксли, Гарольд Дж. Ласки и Сидней и Беатрис Уэбб также были сторонниками евгеники. Среди британских консерваторов евгенику поддерживали Уинстон Черчилль и Невилл Чемберлен, которые позже разошлись во мнениях по другим вопросам [97].
В Соединенных Штатах ведущими фигурами евгенического движения были основатели и представители Американской социологической ассоциации и Американской экономической ассоциации [98]. Один из пионеров в разработке тестов на умственные способности, профессор Л. М. Терман из Стэндфордского университета на основе своего исследования меньшинств на юго-западе Соединенных Штатов пришел к выводу, что «они не могут усваивать абстракции» [99], а Карл Бригам, создатель академического оценочного теста (SAT [100]), заявил, что результаты проверки умственных способностей армии США во время Первой мировой войны, как правило, «опровергали распространенное мнение о том, что евреи обладают высоким интеллектом» [101].
Одним словом, даже передовые умы эпохи не избежали стадного чувства при обращении к однофакторным объяснениям. Также однофакторные объяснения не ограничились различиями между людьми. Они распространились и на вопросы, относящиеся к различиям в природе. Никто не оспаривает факт, что солнечный свет в тропиках горячее, но это научное знание не отменяет того, что самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная в Азии, Африке, Северной Америке и Южной Америке, была зафиксирована за пределами территорий тропиков [102]. Ни одна часть Европы не находится в тропиках, но есть европейские города, в которых показатели самой высокой зарегистрированной температуры превышают значения, когда-либо зафиксированные в Сингапуре, расположенном практически на экваторе [103].
В общем, даже главный фактор – неоспоримый научный факт – может быть нивелирован комбинацией других факторов. Если указать, что среднемесячная максимальная температура в декабре в Лондоне такая же, как и в Вашингтоне, это не будет означать, что расположение относительно севера и юга не влияет на значения температуры, хотя Лондон находится более чем на 1300 км севернее Вашингтона [104]. Теплые воды Гольфстрима проходят через Атлантический океан и переносят тепло на северо-восток мимо Западной Европы, включая Лондон. Благодаря этому зимы здесь более мягкие, чем на тех же широтах в Азии, Северной Америке или Восточной Европе.
Другие факторы приводят к тому, что температуры в различных регионах умеренного климата достигают более высоких значений, чем в некоторых тропических областях [105]. Ничто из этого не противоречит научному факту, что солнечный свет в тропиках горячее. Однако этот неоспоримый факт не предопределяет заранее и автоматически все показатели. Аналогичным образом дискриминационная предвзятость в отношении различных групп в странах по всему миру не исключает того, что показатели будут определяться более широким спектром других факторов в конкретных местах и в определенное время.
В то время как мы обнаруживаем неравномерное распределение социально-экономических показателей в разных аспектах человеческой деятельности по всему миру, многие социальные теории по умолчанию принимают за аксиому предположение о равных или сопоставимых показателях. При этом любое отсутствие равенства социально-экономических показателей автоматически рассматривается как признак неких зловещих влияний, которые помешали естественному равенству реализоваться. Но ни равенство достижений, ни равенство преступлений не являются всеобщими.
Смертность в результате убийств в Восточной Европе на протяжении веков в несколько раз превышала смертность от убийств в Западной Европе [106]. Сегодня, согласно британскому изданию The Economist [107], в Латинской Америке проживает «8 % населения мира, но зарегистрировано 38 % убийств». Более того, «80 % насильственных убийств в латиноамериканских городах происходят всего на 2 % улиц» [108].
Ни генетика, ни дискриминация не являются ни необходимыми, ни достаточными для объяснения всех асимметричных и неравных показателей среди людей. Но, учитывая, насколько широко, как долго и насколько сильно каждая из этих двух теорий – генетическая или дискриминационная – доминировали в мышлении, законах и мировой политике, сейчас перед нами стоит задача избежать влияния этих масштабных предубеждений.
Две из монументальных катастроф XX века – нацизм и коммунизм – привели к массовому уничтожению миллионов людей их собственными правительствами либо во имя избавления мира от бремени «низших» рас, либо во имя избавления мира от «эксплуататоров», ответственных за бедность эксплуатируемых. Хотя каждое из этих учений могло бы быть проверяемой гипотезой, они достигли политического триумфа именно как догмы, которые невозможно доказать или опровергнуть с помощью логики.
Ни Mein Kampf [109] Гитлера, ни «Капитал» Маркса не были упражнением по проверке гипотез. Хотя обширный трехтомный экономический трактат Карла Маркса был гораздо большим интеллектуальным достижением, «эксплуатация» ни на одной из его 2500 страниц ни разу не рассматривалась как проверяемая гипотеза. Вместо этого эксплуатация стала фундаментом, на котором была построена сложная интеллектуальная надстройка, – но оказалось, что фундамент этот из зыбучего песка. Избавление от капиталистических «эксплуататоров» в коммунистических странах не повысило уровень жизни трудящихся даже до уровня обычного рабочего в капиталистических странах, где, по мнению марксистов, такие рабочие все еще подвергались эксплуатации.
Объяснение экономического и социального неравенства через дискриминацию для многих может иметь схожую эмоциональную привлекательность. Но мы можем хотя бы попытаться рассматривать эти и другие теории как проверяемые гипотезы. Известные исторические последствия трактовки некоторых убеждений как священных догм, которые невозможно ни доказать, ни опровергнуть логически, должны быть достаточным основанием, чтобы отговорить нас от повторения этого пути. Несмотря на то, насколько захватывающими или морально удовлетворяющими могут быть политические догмы и вытекающие из них крестовые походы, или насколько удобно они избавляют нас от необходимости осмысления собственных убеждений или проверки их с фактами, нам не стоит поддаваться их соблазну.
Глава 2. Дискриминация: значения и издержки
Есть люди, особенно разборчивые в тех или иных товарах и услугах. Они придирчиво, со знанием дела выбирают вино или картины. О них говорят: у него изысканный, «избирательный вкус» [110]. В контексте книги «избирательный вкус» – это способность тонко различать качества, делать выбор в пользу лучшего, что зачастую несет положительное значение. Однако, слово discriminating также используется в негативном смысле, когда речь идет о дифференцированном отношении к людям и несправедливом обращении с ними, основанном на стереотипных представлениях об определенных социальных или этнических группах, независимо от их реальных качеств как индивидов.
Оба вида избирательности могут привести к ощутимым диспропорциям в оценке как людей, так и вещей. Например, почитатели вина, обладая избирательным вкусом, могут чаще отдавать предпочтение какому-то одному сорту и платить за такое вино гораздо больше, чем за бутылку другого.
Нечто подобное часто наблюдается, когда речь идет о людях. Общеизвестно, что во многих странах некоторые группы людей подвергаются очень разным оценкам при рассмотрении вопросов занятости, образования и других аспектов. Таким образом, разные группы могут иметь сильно отличающиеся уровень заработка, профессиональную занятость и уровень безработицы, а также показатели поступления в колледжи и университеты, помимо многих других неравенств между группами.
Основной вопрос в контексте анализа неравенства и дискриминации заключается в следующем: какой вид дискриминации привел к наблюдаемым последствиям и неравным показателям? Важно понять – смогли ли наблюдатели корректно распознать различия в качествах между индивидами или группами? Или же они принимали решения на основе личных антипатий и субъективных предположений? Другими словами, является ли неравенство в положении групп населения следствием их внутренних различий в поведении, которые наблюдатели объективно оценили? Или это неравенство вызвано внешним влиянием, основанным на предвзятом суждении и враждебности сторонних лиц? Но, несмотря на горячие дискуссии, эти вопросы – эмпирические, а значит, ответ на них даст систематическое исследование.
Ответы на такие вопросы необязательно будут одинаковыми для всех групп населения и даже для отдельно взятой группы в разное время и в разных местах. Поиск ответов в данном случае – это больше, чем просто теоретическое упражнение, потому что наша конечная цель – дать людям возможность улучшить свои перспективы развития. Однако прежде чем искать ответы, необходимо четко определить термины, в которых следует формулировать вопрос.
Значения определения «Дискриминация»
Необходимо понимать, что мы сами имеем в виду, когда используем слово «дискриминация», особенно учитывая его противоречивые значения в английском языке. Более широкое значение – способность распознавать отличия в качествах людей или вещей и строить на их основе суждение – можно назвать избирательностью, далее Дискриминацией I. Более узкое, но чаще употребляемое значение – негативное отношение к людям, основанное на отвращении или неприязни к представителям определенной расы или пола, – можно обозначить Дискриминацией II. Эта разновидность термина привела к принятию антидискриминационных законов и политик.
В идеале Дискриминация I применительно к людям означала бы индивидуальный подход. То есть суждение о каждом человеке как о личности, независимо от его принадлежности к какой-либо группе. Но в реальности идеал среди людей встречается редко, даже у тех, кто этот идеал поддерживает. Допустим вы идете ночью по пустынной улице и видите впереди темную фигуру – какими будут ваши действия в этой ситуации? Выберете ли вы индивидуальный подход, оценив темную фигуру как доброго соседа, который выгуливает собаку? Или перейдете на другую сторону дороги? При принятии таких решений ошибка может дорого вам обойтись, вплоть до угрозы для жизни.
