Психология насилия
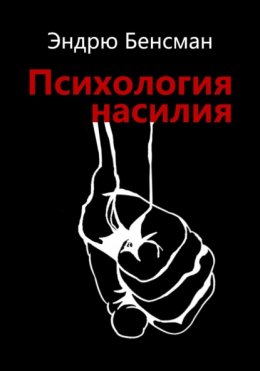
Стиль
Книга появилась на свет благодаря одноименному курсу лекций. Как оказалось в процессе написания книги, у письменного текста другая логика и многое, включая порядок глав, было полностью перестроено. Курс лекций и книгу роднит только одна деталь: особенность лекторской манеры – говорить от лица той личности, о которой идет речь в соответствующей главе.
Например, в первой главе «я» звучит от лица насильника, «ты» – от лица жертвы. Во второй главе, посвященной жертвам насилия, – наоборот. Такие места заключаются «в кавычки» и выделяются курсивом.
Глава 1. Насильник
Обида порождает тиранов.
Это самое грандиозное чувство, и звучит оно так:
«Моя важность измеряется силой твоего пренебрежения ко мне, но и сам ты заслуживаешь пренебрежения такой же силы».
Насилие
Насилие – это одержимость[1] адресованная другому[2].
Корень насилия – импульсивное убеждение в том, что другой просто обязан знать, помнить, хотеть, верить и соблюдать что-то абсолютно необходимое, нужное и очевидное «для всех»[3]. Импульс насилия – это перевод из регистра желания в необходимость и недопустимость неподчинения. Насмешка над непониманием этой «истины» – тоже насилие. Насилие – это способ навязчивости, способ делегировать то, чем другой должен быть одержим. И чем в меньшей степени жертва на это способна – тем сильнее убеждение и тяга к насилию.
«Ты должен не просто знать очевидное для меня, но и соблюдать. А поскольку ты не можешь оценить важность, я эту твою важность беру на себя и “вбиваю в тебя”. Вбиваю настолько сильно, насколько принять всю важность навязанных истин ты не способен».
Для насилия не существует неспособности, неготовности, нежелания – это только формы протеста, и их необходимо сломить. То есть в ситуации, вызывающей агрессивный импульс, адресатом буквально всего происходящего является «я» насильника.
«Ты специально это делаешь, чтобы меня позлить!» – так «разоблачается» намерение жертвы.
Как, например, объяснить терроризм согласно предлагаемой модели? Логика террориста, следующая:
«Я верю и моя вера сильна настолько, насколько на это знание, убеждение не способен тот, к кому я адресуюсь. И это заражает меня уверенностью за двоих: за себя и за того, к кому обращена расправа. Его неспособность понять или разделить мои ценности делает меня только уверенней, свободнее от сомнения и морали».
Насилие – это парадоксальный способ уверенности за счет жертвы, способ самоутешения, куда другой вовлечен неприемлемым для себя образом. В насилии все подчинено этой цели, а средства, к которым прибегают, словно бы размываются, становятся несущественными. Насилие размывает черты происходящего:
«То, к чему я прибегаю, неважно до тех пор, пока у меня есть уверенность». Например, мать кричит на ребенка не потому, что рассчитывает до него докричаться. Он не станет внимательнее: ему помешает испуг. Этот крик – голос бессилия, который поддерживает мать[4].
Не только для терроризма характерно совпадение логики насильника, но и, например, у новообращенного[5]. Возражения, сомнения и неодобрение лишь подпитывают веру таких людей, иногда доводя до религиозного экстаза.
Есть такой вид насилия, когда очевидная цель не преследуется, где партнера или ребенка изводит страданиями якобы жертва. Так, жалобы жены на то, как жестоко обошелся с ней муж 7 лет назад, приносят страдания более очевидные, чем те, на которые она ссылается. И дело тут не в простой подмене позиций, а в более глубокой природе насилия – желании занять обе роли процесса: объединить в себе и жертву, и мстителя за страдания. Таким образом, реальную жертву лишают естественного права страдать, обижаться, винить, объяснять. Жертва как бы вымещена из процесса, она лишена прав и атрибутов, низведена до положения безмолвного объекта.
«Ты сама напросилась!» – утверждает насильник, отражая тем самым решение воспроизвести и решить все за двоих.
Иными словами, грань насилия – это когда я повышаю темп и не жду другого, не сверяюсь с ним. Я делаю все за него, от его имени, поступаю с ним как с обузой и препятствием. Насильник ведет себя подобно спешащему родителю, который то и дело подгоняет ребенка. В отличие от простого поторапливания, в насилии другой переходит за желание придать ускорение другому.
В этой своей «разогнанности» другой не просто медлит и никак не может собраться, решиться – он видит в этом атаку, которая не оставляет места ничему, кроме контратаки.
Насилие видится как ответ на провокацию жертвы, ведь именно она побуждает к насилию. Таким образом, насилие – это активная форма сопротивления, не избегающая контакта, а разворачивающаяся вовне.
Показательным являются два вида терапии насилия: практика паузы[6] и деталей[7]. Они являются рабочими, потому что разрывают цикл, когда склонный к насилию человек опережающе ведет диалог за себя и за другого (вслух или внутри себя).
«То есть вот так ты со мной <себя ведешь>! Показываешь мне мое место, да?!»
Эта «разогнанная», замещающая уверенность в насилии делает его законченной, устойчивой формой поведения.
Импульсивное насилие
В данной книге в большей степени исследуется системное насилие. Имеется ввиду насилие, которое совершается изо дня в день. Импульсивное же насилие строится на «импульсивной достоверности» – «инсайте», который спонтанно отменяет понимание, присущее человеку в спокойном состоянии.
Так мужчина, понимающий, что жена к нему хорошо относится, набрасывается на нее, когда ее неуклюжая фраза задевает его. В это мгновение словно бы отменено все хорошее, что было в их отношениях, все понимание, которое было сформировано годами.
Похожая отмена всех установок происходит в тревоге. И чаще всего тревога сменяется навязчивостью, компульсивностью, состоянием близким к маниакальному. Оно в свою очередь напоминает насильственное поведение в большей степени. Из этого мы выводим, чем является насилие – реакцией человека, который форсирует тревогу, видя причину ее возможного возникновения в другом.
Обратное избегание
Насилие происходит в момент, когда импульс ухода из ситуации (напрямую с человеком не связанной), меняется на обратный – спонтанную включенность. Такая спонтанная включенность в то, чего хотелось избежать, и есть срыв, переход в насилие: ворваться вместо того, чтобы вырваться[8].
Насильник ощущает себя жертвой, которой он отказывается быть, меняясь местами с другим, переворачивая ситуацию.
Пример:
Мужчина работает дома в своем кабинете. Он слышит, как жена кричит на сына. Шум отвлекает и раздражает его, но он все равно пытается сосредоточиться на работе. В какой-то момент он обнаруживает себя кричащим и подавляющим обоих участников конфликта. То есть он оказался включенным в то, чего изо всех сил хотел избежать.
Насилие – это всегда забота о себе под маской заботы о других.
Родитель ругает ребенка за уроки именно потому, что ничего про это не хотел слышать и был принужден к этому учителем или партнером.
«Почему я должна заставлять тебя заниматься уроками? Это ты заставляешь меня, значит и страдать долен ты, потому что страдаю я», – отказ от своей ведущей роли и одновременно срыв в нее.
Графоманка из рассказа А. П. Чехова «Драма» посещает известного писателя и изводит его чтением своего произведения. Во время чтения авторитетный писатель думает о чем угодно, только не о содержании сочинения – чтение же и сама писательница старательно изгоняются на периферию. В какой-то момент писатель срывается и убивает посетительницу.
Причина насилия: «Ты виновата в том, что я не могу тебя игнорировать!».
Движение из диссоциации в сверхактуальность, из беспомощности в пересиливание – так работает насилие, которое к тому же должно поддерживаться беспомощностью: тогда судьба и чувства жертвы неважны, заслонены переживаниями насильника. Именно поэтому так важна психологическая игра, которая, как правило, разворачивается в зависимых отношениях. В них выигрывает тот, кто успешно доказывает вину другого, а значит, подтверждает свое право быть обиженным.
Маркером насилия является такой ответ на страдание (ребенка или партнера): «Ты думаешь я не страдаю!» или «У меня тоже депрессия!».
Насильственные отношения продолжаются или возобновляются там, где им следовало бы закончиться. Они находят в этом новый ресурс. Например, продолжать разговор именно потому, что его самому бы хотелось закончить.
Через роль
Клиентка рассказывает:
«В семье к нам жестко относились. Правда, был период раз в три или четыре месяца, когда мать ругалась с отцом. Тогда она приходила к нам и говорила что-то типа: “А давайте пойдем и купим вам новые вещи”. Отказаться было нельзя, иначе пришлось бы ждать следующей возможности еще несколько месяцев».
Непластичность в перемене родительской и партнерской роли – частое явление[9]. Описанная ситуация – не прямое выражение жестокости. Роль матери у женщины включалась только после конфликта с мужем. Все остальное время отец и мать находились в психологическом слиянии[10].
Жестоким было отношение матери к детям через ее слияние с мужем, где первые были скорее помехой. Задачами детей были покорность и незаметность. Любое «невзрослое» поведение детей жестко подавлялись. То есть детей наказывали за то, что они отвлекали женщину от отношений с мужчиной. Сама ее включенность выглядела так:
«Вы добились своего – я обратила на вас внимание! А теперь вы об этом пожалеете!»
Спонтанное насилие
Ребенок своими капризами и истериками часто вызывает у родителей реакцию срыва. Почему? Такое детское поведение – отражение родительской позиции, отражение бескомпромиссности через острое упрямство. Ребенок как бы совмещает позиции ребенка и родителя в своем поведении. Данная ситуация является расщепляющей, поскольку родительская власть одновременно и утрачена, и перехвачена ребенком. Чтобы ее вернуть, нужно как бы действовать через того, кто является карикатурой взрослого. Но еще больше усложняют и обостряют задачу «перехвата власти» свидетели.
Девочка подбегает к матери с криком:
– Мама! Мама!
– Че мамкаешь?! – срывается мать.
Такая реакция матери явно не связана с оживлением девочки. Это – реакция на вырванность из другого контекста. Ребенок сейчас неуместен для родителя, которого резко отрывают от своих мыслей и дел, заставляя включаться в текущие реалии. Такое «включение», однако, может не порадовать требующего внимание.
О нежелательности ребенка в этой ситуации говорится как о несоответствии <его поведения>, что мгновенно формирует проективный образ – несоответствия действия самой матери и далее ее вероятное несоответствие в целом (с позиции третьей стороны). Это еще сильнее подстегивает мать упорствовать в своем недовольстве, так как этот островок реакции – единственная позиция, возвращающая ей главенствующую позицию.
Обратная сторона покорности
Обратная сторона покорности – это и есть насилие.
Насильник большую часть времени ведет себя вынуждено покорно, а потом срывается (мстит) за накопленные «принуждение» и «униженность» <ближним>.
В этой системе взрослый ведет себя как ребенок, которого постоянно одергивает мать. Чтобы остановить этот процесс, он должен стать в позицию родителя для того, кто уже находится в родительской позиции. Чтобы положить конец навязанному порядку, такой человек должен спонтанно стать вдвое выше.
В этой системе ничто «легальное» нельзя принять за свое и прочувствовать. Только срыв и агрессия служат долгожданному воссоединению с собой. Собственными также могут быть униженность и обида.
Пример:
У мужчины кредитная зависимость. Он пришел в гости с женой и ребенком. Ему некомфортно, у него есть дела, которые он должен срочно сделать дома. Через час он предлагает жене уйти, но она отказывается. Еще через час он предлагает ей остаться, а самому пойти с ребенком домой. Та предлагает побыть еще немного и пойти домой вместе. Еще через два часа мужчина срывается и устраивает скандал.
Такую реакцию вызывает ролевое несоответствие в отношениях. Мужчина ведет себя как подросток: мучается от несвободы, мстит за «вынужденное» подчинение.
Авторитарная личность[11] и насилие
Авторитарная личность – фундамент, на котором строится репрессивный режим. Правда, этот тип личности характерен не только для диктатур. Авторитарная личность обладает рядом психологических черт, благодаря которым та становится «особо восприимчива к антидемократической пропаганде»[12].
У авторитарной личности перевернуты представления о вертикали и горизонтали отношений, а равенство не может быть отношением с равными – только перевернутым: «равенством сверху» или «равенством снизу». Близкие отношения могут быть либо с начальником или подчиненным (людьми просто выше или ниже по статусу), либо с теми, кто авторитарной личностью почитаем или унижаем.
Авторитарная личность стремится к близости с тем, кто выше или ниже, конкурируя с равными. Для нее вообще проявление иерархии – нечто сокровенное. А то, что обычно является проявлением личного и интимного, является нелегальным заходом на власть над ней. Мнение, жалоба или просьба партнера авторитарной личности вызовет только гнев.
Авторитарная личность понимает любовь только через принуждение и подчинение, а свобода видится ей как бремя и источник фрустрации[13].
Муж клиентки – военный. Он сильно привязан к коллективу, любит дисциплину. При этом он игнорирует любые просьбы и предложения жены, касающиеся помощи, воспитания ребенка, отдыха, здоровья, секса.
Мир авторитарной личности стабилен пока работает защита, которая переводит личное в рутинное и наоборот, но делает это не до конца. Если рутинное окончательно переходит в рутинное, то и отношение меняется вновь. Если в личных отношениях происходит окончательный перевес в сторону подчинения, то авторитарная личность относится к тираническому партнеру с трепетом. По-настоящему важная работа, которая придает такому человеку значимость, начинает восприниматься в тягость, игнорироваться. И происходит это до тех пор, пока не возникает потрясение – например, в виде угрозы увольнения. Тогда все становится на свои места. Такое часто происходит в отношениях с зависимым, который пренебрегает партнером до тех пор, пока тот не отвергает его, перестает терпеть.
Мирный этнос в виде евреев в фашистской Германии объявляются экстремистской силой, а те, кто подвергают целый народ насилию, видятся через призму авторитаризма теми, кто вынужден терпеть муки ради утраченных близости и единства (в случае с фашистской Германией – арийским народом).
Как связаны авторитаризм и насилие?
Черты авторитарности присущи, например, увлеченным своей работой людям. Однако это увлечение не делает их склонными к насилию. Когда же авторитарность становится насилием?
Профессионал – это личность, для которой неличное (профессиональная сфера) – это личное, тогда как личная жизнь – события второго плана. К профессиональному отношение выстраивается как к интимному, а к семье – как к работе.
А вот авторитарная личность относится к отношениям, семье в первую очередь как к работе. Для нее несогласие в семье, «неподобающее поведение» – то, что бросает вызов ее авторитету или авторитету, поддерживаемого члена семьи. Пример последнего – мать которая запугивает детей потенциальной реакцией их отца на оживление, которое вдруг воцарилось в стенах семьи.
Насильник и профессионал скорее противоположны: первый видит в личных отношениях нарушение субординации, притязание на власть, неисполнительность – то есть все, что в плане работы разлагало бы дисциплину, грозило бы неудачей[14].
Зависимая среда склонна к насилию из-за такой же подмены личного и рабочего. Особенно это заметно в среде алкоголиков:
«Вовне у меня есть люди, которые меня понимают, компания в которой есть душевность и драма. А дом – это среда, где от меня что-то требуют, чего-то хотят. В противном случае они вынуждены сдерживаться в отношении меня, чтобы не спровоцировать, делая меня центром этой напряженности, которую хочется прорвать, разрядить».
Двойственное отношение: «Ты ни на что не способен и одновременно во всем виноват!» – точный маркер насилия.
Насилие становится призванием, той работой, которая приносит подлинное (неосознанное) удовлетворение. Оператор газовой камеры – тоже работа. Если работа у человека связана с прямым насилием, то жестокость становится частью профессиональной компетенции. А значит, к ней применимы понятия аккуратности, прилежания, самоотдачи и долга.
Авторитаризм процветает в двух крайностях.
1. Люди работают в строгой иерархической системе (военные, полицейские и проч.), перенося привычную им иерархию домой. Особой жестокостью отличаются те, кто чувствует униженность или подавленность на работе. Они возмещают эту «несправедливость» к себе дома, занимая место даже не начальника, а всей системы несправедливости или репрессий, к которой является причастным. Происходит это спонтанно и карикатурно, с особой жестокостью.
2. Системы, лишенные естественной иерархии – например, фриланс. Недостаток иерархических ориентиров компенсируется личными отношениями: когда в нехарактерной ситуации (например, семейного быта) человек переходит в регистр субординационных отношений (причем делает это внезапно), на сцену выходит насилие.
Отрицание – это важная черта авторитарной личности. Она отвергает все, что не идет с ней в ногу. Отрицаются важность, аргументы, увлечения и все, с чем выступает его партнер или дети. Такой человек отшучивается, даже если, действительно сделал то, в чем его обвиняют:
– Что происходит?
– А что происходит? Ничего особенного, ты просто меня достаешь своими вопросами!
Эффект шутки возникает из-за того, что никакая отсылка к внешнему не работает, сводясь таким «шутником» к нелепым попыткам оппонента что-то доказывать.
Авторитарная личность обладает особой близорукостью в отношении ближнего круга, не видя того, что стоит за просьбой партнера, различая лишь манеру от него чего-то добиваться. И единственное, что оказывается удовлетворительным в таких тесных отношениях, – это избегание взаимодействия, финальной целью которого становится бессилие и смирение партнера.
Обвинения не угнетают авторитарную личность: наоборот, делают ее только решительнее: «Виноват обвиняющий!».
Авторитарная личность никогда «ничего такого не делает», но при этом как бы все время занята тем, чтобы реагировать на провокации. Судя по блистательной реакции, именно справляться с обвинителями[15] – самое возбуждающее занятие такой личности. Оспаривать обвинения и защищаться от нападок – вокруг этого и строится вся деятельность насильника. Он – личность деятельная. Развернутый диалог воспринимает как слабость, аргументы – как угрозу, замах, но не сам удар. Разговаривает либо репликами, либо набором тезисов. Для жертвы, которой пренебрегают, ощутимость произошедшего усиливается. Это и есть акт насилия с позиции жертвы: «Из-за твоей неспособности я вынужден чувствовать вину за двоих, переживая и сомневаясь в собственной правоте».
Жертва вынуждена чувствовать за двоих: за себя и насильника. Если, например, женщина просит у мужа денег на одежду детей, то авторитарная личность, скорее всего, отмахнется, сместив акцент на жену: «Нечего <тебе> их баловать!».
Механика насилия
Почему сдержанность жертвы вызывает у насильника нарастающую и выходящую за границы агрессию?
Насилие – это присоединение к саморепрессии жертвы, к процессу ее самоподавления. Насильник видит подавленность жертвы, как соблазнительное.
– Когда я вежлив и деликатен, люди злятся, выходят из себя, скандалят. Почему?
– А что ты чувствуешь, когда ты подчеркнуто мягок?
– Я злюсь и думаю: «Что им непонятно?!».
– Они улавливают импульс, противоречащий твоему поведению, и как будто достают твое переживание на поверхность, предъявляют тебе же самому.
Издеваться над немощным (например, животным) или без того сломленным существом (положим, забитым сотрудником) – в этом как бы нет «ничего такого» для насильника. При этом свое возбуждение и то, что это вызывает эйфорию, он игнорирует. Насильник добивается покорности, а когда получает желаемое, репрессивный маховик вместо остановки раскучивается еще сильнее.
Особенно ярко этот принцип проявляет себя, когда спасающий такую жертву восхищается ее скрытыми достоинствами и силой, но в какой-то момент разочаровывается, становясь насильником еще большим. Получаемая таким образом ретравматизация больнее и сокрушительней прямого насилия.
Цикл насилия выглядит так:
«Говоря, что ты ленивый, я вновь даю тебе шанс все исправить. Но я знаю, что ты не воспользуешься этой возможностью. И тогда мои открытость и готовность идти тебе навстречу умиляют меня тем сильнее». Маятник самоперживания перемещается в сторону жалости к себе, злости на игнорирование и косвенную жестокость жертвы. Пренебрежение к старательности и «доброжелательности» такого инвестора освобождают его от сдержанности, подталкивая столь же старательно «показывать» то, как якобы с насильником поступает жертва, истязая ее.
У агрессора мир перевернут: подлинная жертва – это он, а страдающий от него человек – тиран.
«Жертвенность»
Насилие – это всегда отклик на самоподавленность. Разница только в том, присоединяется ли агрессор к этому состоянию жертвы[16] или втягивает, делая жертву заложницей его собственных мучительных переживаний: униженности, несчастности, подавленности, раздражения.
Срыв в насилие – маятник, где, почувствовав себя жертвой, ситуацию откатывают в противоположную сторону – из бессилия в форсаж расправы. Происходит рокировка, где во всем оказывается «виновата» жертва – это она «довела» столь «робкое существо» до такого непотребства.
Выражение «делать из мухи слона» вполне отражает «оптику» насилия. Насильник может и не считать, что его хотят оскорбить, но его самоуглубление создает эффект инстайта[17]: он не домысливает шаг за шагом – картинка возникает сразу во всей своей полноте, захватывает целиком.
Насилие напоминает взрыв – за сжатием (имплозией) вещества происходит его стремительный выброс (эксплозия). Это переход из депрессивного состояния в маниакальное[18]. Ситуация, из которой начинается насилие – ретравматизация[19]: переживание, что происходящее – это сквозное событие (т. е. оно повторяется вновь и вновь), которое объединяет всю цепочку мучительных событий, дает ощущение тотальности происходящего и вызывает импульс, желание вырваться «из всего этого», что превышает границы конкретной ситуации, взрывает ее, бьет жертву силой накопленного за все годы напряжения.
В психотерапии часто встречаются случаи, когда партнеру достается не только «за него», но и, скажем, за всех мужчин до него, начиная с отца. Но насильственной ситуацию в полной мере делает фактор, когда жертва представляет своего рода негатив, противоположность того, на кого нападает и кого обвиняет насильник. Например, агрессор видит в партнере зависимую личность, тогда как эти черты ему абсолютно не свойственны, и чем больше это несоответствие, тем сильнее и непреодолимее взрыв насилия.
Критерий насилия
Когда применение силы переходит грань и становится насилием?
Критерий такой: все, что должно было останавливать: отказ, просьба, доводы, непричастность, твердое «нет» – не останавливает, а, наоборот, стимулирует и разгоняет агрессию. То есть отказ жертвы неосознанно воспринимается насильником как поощрение. Самый простой пример – соблазн продолжать разговор, когда другой его хочет завершить.
Более изощренный пример – рациональные аргументы, спокойствие, сдержанная доброжелательность вызывает бурю агрессии. Рациональность со стороны жертвы только подстегивает насильника:
«Он трясет ее, делает ей больно, а она в это время говорит вещи вроде: “Ну, успокойся!”, “Ты ведь не такой!”, а он выходит из себя и воет: “Закрой рот!”.
Что же именно вызывает такое парадоксальное оживление? Социальные рамки вынуждают любого человека сдерживать себя, но когда «нет» – это «да», когда «я» – источник правил, все внешнее отступает, происходит «инсайт»: все словно бы становится на свои места.
Это напоминает эффект теории заговора, где сложность и неясность наконец-то разоблачены: непонятное теперь вызывает азарт, а между тем растет чувство собственного превосходства. Когда порог насилия пройден, человек воспринимает происходящее скорее как наблюдатель. Однако, будучи участником, эту позицию «над» ничто не способно поколебать.
Так же воспринимает ребенок запреты – например, не бить по батареям. В этом простом действии словно появляется новый смысл, он продолжает попытки с новой силой и оживлением. В этом ключе становится понятно значение плаката движения против сексуального насилия: «”Да” значит “да”».
По этой же причине упразднение нормы (в отношениях, группе, социуме) воспринимается как освобождение – оно желанно! Воздвижение новой <общей> нормы или возвращение к прежним ценностям[20] часто являются примером высокого пафоса при низменном использовании – это и есть логика насилия.
Согласие
Если протест и стремление урезонить лишь подстегивают насилие, то согласие и смирение также не позволят его избежать. Если в насилии нет приравнивания к «да», то что тогда значит прямое «да»? Оно скорее смущает, воспринимается как манипуляция, стремление вести игру на чужой стороне, огорчает, подстегивая насилие.
Мысль насильника выглядела бы так:
«Как ты себя ни веди, все нацелено на то, чтобы меня спровоцировать и вывести из себя».
Это ловушка: насильник продвигает идею соблюдения «общих» правил, которые обеспечивают мир и процветание. Но вся его сторона – словно страна, которая представляет из себя сплошную границу, которую невозможно не пересечь. Более того, жертва насилия чувствует, что затишье – своего рода перемирие – самое страшное время, когда копится напряжение. Возможность насилия пугает больше, чем реальный срыв, и вызывает тревогу. Желание довериться спокойствию – самый сильный катализатор насилия.
Поведение жертвы всегда воспринимается как пассивная агрессия или как высказывание недовольства под маской смирения – стремление выйти из-под контроля. Такой выход интерпретируется насильником как издевка, скрытое презрение и насмешка. На подавление любого сопротивления нацелена машина насилия:
«Я хочу, чтобы ты со мной согласился. Но когда это произойдет, я не смогу это принять, потому что за этим стоит какой-то замысел. Соглашаясь, ты отмахиваешься от меня, игнорируешь».
Иными словами, насилие абсолютно не приемлет пассивной позиции:
«Если у меня все служит возбуждению, то значит, и у тебя. Просто на мою “прямоту” ты отвечаешь хитростью, хочешь переиграть, притворяясь».
Так, игнорирование видится не как усталость или безразличие, а как активное игнорирование – ирония или сарказм.
«Ты такая же азартная, как и я. Соглашаясь, ты отбираешь у меня мой напор <…> все, чтобы сделать меня бессильным или выставить в дурном свете».
Насилие выдерживает напряжение, которое не может быть разрешено на стороне жертвы, за что ту и «судят».
Откликом на насильственную позицию является мазохистическая логика:
«Как бы я себя ни вел, ты будешь считать, что я тебя провоцирую, поэтому единственный способ избежать этого – действительно провоцировать, тем самым подтверждая твои представления обо мне как о провоцирующей стороне и таким образом все же переигрывающей тебя, делая презренным и бессильным».
С согласием насильнику сложнее:
«Я настаиваю, чтобы меня слушались, но возбуждает меня обратное».
На отказе вообще строится бессознательная логика желания. Об этом говорится у З. Фрейда в «Толковании сновидений». Например, ребенку отказываются покупать мороженое, и в эту же ночь ему снится гора мороженого. То есть он находит территорию, где его желания не ограничены.
Насильник видит себя в позиции того, кому отказали, и, чтобы преодолеть этот кризис, он ставит себя на место того, кто имеет власть, кто ему отказывает, словно пытаясь эту позицию отобрать. Так, ребенок, который впадает в исступление – например, в магазине, когда ему отказались покупать игрушку, продолжает логику родительской настоятельности, но уже своими средствами – валяясь и истеря на полу магазина игрушек. Этим он пытается перевесить родительскую бескомпромиссность за счет такой же эмоциональной бескомпромиссности, усиливая ее при этом до выхода из себя. Так же видит поведение жертвы насильник – в тайном подражании.
Система без выхода
Насильственные отношения не предполагают выхода. Все отсылки вовне воспринимаются как недовольство. Например, требование к партнеру все же найти работу или бросить пить. Любое недовольство, желание выйти из отношений воспринимается как манипуляция.
Нежелание только подчеркивает необходимость:
«Вы должны в этом участвовать именно потому, что вам не нравится, именно потому, что не понимаете зачем это нужно».
Например, девушка говорит, что из-за учебы не может посетить день рождения свекра. Это становится поводом для всевозможных упреков и третирования в семье мужа.
Причина насилия
Запускает насилие всегда не прямая, всегда косвенная причина. Все дело в намерении другого, в его причине «так себя вести», каким она видится с позиции насильника. Версия насильника всегда нереалистична, не соответствует реальным мотивам жертвы. Выглядит она как психотически абсурдное предположение: «Ты это специально?!» или «Ты что, издеваешься?!».
Такие поводы, как издевательства, оскорбления, причинение боли, «отравление жизни» и др. требуют додумывания, наращивания масштабов ситуации, достраивания намерений за другого в полноте, пропорциональной тому, насколько жертва не была готова сделать нечто подобное[21].
Насилие требует масштабной интерпретации. Именно она дает импульс действию. Правда, сюжет такой интерпретации прост – «скрытое намерение», «провокация» жертвы.
Из разговора с жертвой домашнего насилия:
– Твоя жена говорит одно и то же: ты вкладываешься в то, чтобы мне было плохо!
– Да! А я не вкладываюсь! У меня нет такой цели.
– Это ее проекция: то, каким ты можешь быть, но, благодаря опережающему обвинению, должен перестать видеть ваши отношения: страдаешь в них ты.
Вывод: для того, чтобы насилие состоялось, требуется высокая степень надуманности, интерпретации. Жестокий приговор по надуманному поводу – характерная черта насилия. Поводом для срыва может стать кажущееся недовольство жертвы, которое приобретает для насильника непропорциональную картинность и полноту:
«Не хмыкай мне тут!» – предупреждает он.
Чему служит этот механизм насилия?
Он служит пассивной актуализации. Благодаря насилию человеку нет необходимости что-либо предпринимать, строить, представлять. Достаточно иметь «врага под боком»: насильника «вынуждают» включаться в неурядицы, где спонтанно проявляются все его достоинства (характер, сила убеждений, проницательность), которым не оказывается места в реальной жизни.
Обрушение отношений со всем окружением, разрушение своей жизни и тех, кто связан с насильником – «малая цена» за «торжество справедливости».
Так муж говорит жене:
«Я наконец-то понял, почему ты всем вечно недовольна, откуда эта постоянная грызня. Все дело в том, что ты ничего не хочешь: не хочешь быть матерью нашему ребенку, не хочешь строить карьеру, не хочешь быть мне настоящей женой. И чтобы я не обвинял тебя во всем этом, ты находишь причины во мне!»
Наказание за намеки
Насилие доводит ситуацию до абсурда. Самым жестоким образом наказывается не прямой проступок, а непокорность или любой намек на непринятие своей власти – даже интерес к тому, что насильник считает враждебным.
Косвенное игнорирование
Причина причин насилия – косвенное игнорирование:
«Ты делаешь нечто вопреки моему указанию, договоренности, и ты не мог не знать, как это важно для меня».
Насильник видит, что его атакуют не напрямую, а косвенно, контекстно – как в шутке. И такое смягчение со стороны жертвы не просто не снижает реакцию на замечание или невольный намек, а, наоборот, сокрушает насильника, схлопывает фокус его внимания, разворачивая программу реагирования.
Феноменология насилия
Мужчина срывается на женщину, которая плохо говорит о нем в его же компании.
Что происходит? Что становится стартером насилия?
Точка, с которой стартует насилие – женщина, которая не видит в происходящем «ничего такого». Ее «непосредственность» воспринимается как пассивный газлайтинг, за которым должна лежать насмешка, презентующая участника этого «театра», как мазохистическую личность.
В «Венере в мехах» Захера Мазоха самой жестокой, финальной пыткой оказывается реализация такого фантазма: Ванда, в которую влюбляется главный герой Северин, убеждает того в последний раз пройти через унижение. Она предлагает привязать и отхлестать его. Когда же он соглашается, на сцену выходит незнакомец[22], который действует под ее обличием, избивая главного героя.
Жертве достается за то, что ею можно пренебречь, и она это сама допускает.
«Дело не в том, что жена тебе изменяет, а в том, что ты ничего об этом не знаешь. Но в глубине души ты чувствовал, знал – но вел себя как незнающий. Словно струсил. То есть ты прекрасный пример человека, у которого сработала психологическая защита».
Насильник видит в измене желание, направленное не на другого человека, а на самого себя. Прямое и косвенное <желание> меняются местами. Насильник видит проективно, приписывая другому стремление поглумиться, желание выставить напоказ, причинить боль. Насилие оказывается актом прорыва из позиции, в которой привычно оказывается жертва насильника. Представление, что он сам не прямым образом оказался в таком же положении – невыносимо. И тогда измена – действие его партнера – является формой навязчивости – то, с чем невозможно бороться, что вызывает огромное желание и даже ломку: невозможно не изменить. Партнеру не просто хочется изменять, а делать то, что действует исподволь, что больше него, руководит им. И причина все же в том, кому изменяют.
Здесь речь идет о спонтанном насилии. Оно целиком строится на такой перемене позиций, которые должны порывисто быть возвращены в «исходное положение». Так, в пьесе «Трамвай “Желание”» главная героиня подшучивает над мужчиной своей сестры, пытается установить свои правила в его доме, на что тот «восстанавливает прежний порядок», срываясь в насилие.
Насилие же постоянное строится на удержании постоянства порядков и правил на другой стороне – стороне жертвы. При этом собственное соблюдение каких-либо правил на собственной стороне вещь необязательная. То, что принимают за отрицание, т. е. отказ от того, что действия насильника способны ранить, – высшая ценность насилия: ценность быть вне контекста другого, «хотеть только хорошего». Насилие, соответственно, – это делегированное соблюдение правил, предписаний, контекстов, освобождающая самого насильника, а также способ избегания навязчивости.
Частая насильственная манера – утверждать подобное:
«Именно зная, что это для меня значит, ты так поступила. Значит, получишь ты ровно то же – что-то невообразимо жестокое, то, что будет способно компенсировать твое изощренное намерение».
Насилие – это заимствование чужого намерения – такого, каким оно видится с точки зрения насильника – предполагающим:
«Не может быть действия или бездействия, не направленного на меня…» / «Ты все делаешь специально, чтобы я…» / «Все, что делаю я, – это акт моего бессилия, высказывания на неспособность возразить».
Такая парадоксальность – важная часть нашего феномена.
Магическое мышление
Магическое мышление – вера в то, что я нахожусь в центре и имею влияние на явления со мной не связанные. В детстве оно возникает из-за кризиса на стороне родителей:
«Если родители ругаются или разводятся, то это из-за меня, я – плохой». – и ребенок впадает в тревожность или депрессию.
Или:
«Если родитель меня сильно опекает, тревожится, значит, этому есть причина: я болен». – и ребенок может действительно заболеть.
То есть в магическом мышлении производится постановка себя на место того, кто лежит в основе явления, обладает большой властью. Из этого выстраивается цельная, устойчивая картина, где человек оказывается в проблемной ситуации – но он актуализирован, и такая подстановка «многое объясняет»[23].
Магическое мышление работает, например, в подозрительности, когда бросающаяся в глаза деталь рисует альтернативу привычному порядок вещей. Такого рода мышление включается в ответ на оправдания. Приводимые аргументы кажутся фальшивыми, потому что «истина» находится в другом месте – не там, куда указывает оправдывающийся, а во мне:
«Ты что, специально <или мне на зло>?!» – кричит мать опоздавшей дочери.
Вряд ли эта женщина думает, что дочь, задерживаясь, жаждала произведенного эффекта – например, стояла под дверью лишние полчаса. Но логика тут работает не так, как обычно. При этом само магическое мышление не приводит к насилию.
Что же должно произойти в этой логике, чтобы сработало насилие?
Магическое мышление должно перевернуться. Да, насильник так же, как и в магическом мышлении, считает, что все связанно с ним – но косвенно. Он – не причина, но адресат. Все происходит, чтобы дать ему «знак», что-то показать, бросить вызов, переворачивая тем самым ситуацию с ног на голову[24]. Причиной кризиса оказывается другой, от которого нужно отмежеваться, чтобы вернуть порядок.
«Это ты во всем виноват!» / «Из-за тебя все мои проблемы, вся неудовлетворенность и напряжение!» – так мыслит насильник.
Фокус насильника смещен с задач и обстоятельств на того, кто делегировано с ними не справляется. Тут соблюдены два условия невроза:
1. На меня происходящее по-настоящему не влияет;
2. Чем меньше это меня касается, тем острее переживается.
Нюанс в том, что невроз переживается самостоятельно, а насилие – адресовано.
От эмоционального преимущества насилия трудно отказаться, потому что чужая ошибка или «несоответствие» переживаются как собственное достоинство. Люди, например, чаще ругаются не ради простого обличения другого, а ради занятия позиции скрытого превосходства.
Перформатив и реформатив
Перформатив – это равноценное поступку высказывание[25]. Например, человек говорит: «послушай», – вместо того, чтобы остановить возражения другого. Реформатив означает обратное: делать вместо говорить.
Насилие как реформатив выглядит следующим образом:
«То, что я тебя бью или обзываю – лишь способ донести, что без такого воздействия ты воспринять не способен. Этим я пытаюсь показать, каким потрясением было бы для тебя случившееся, посмотри ты на происходящее моими глазами. А поскольку мой взгляд охватывает тебя, то и ты – лишь часть картины, а не тот, кто владеет ситуацией».
Акт насилия – это восторг от собственных способностей на фоне недостатков другого – нарциссический акт. Фраза «да, как ты не можешь понять» подразумевает: «как восхитителен я должен выглядеть с твоей стороны, умей ты это разглядеть».
Так, жертве травли обычно предоставлена честь быть скрепой и воодушевлением остального коллектива из-за того, что она не способна разделить преимущества агрессивной группы. Примером реформатива служит любое действие, после которого жертва возражает:
«А просто сказать нельзя было!»
Есть два вида насилия, построенных на перформативе: пассивная агрессия и газлайтинг.
Пассивная-агрессия построена на сарказме: тебя невозможно остановить или переубедить, и «я не в силах» не сделать то единственное, что выдает мое несогласие – это избыточное согласие или творческий способ это «согласие» продемонстрировать[26].
Формальность
Если бы инстинкт насильника мог быть осознан им самим, то звучал бы так:
«На самом деле, мне все равно, как ты ко мне относишься. Важно само выражение твоего отношения!»
Это выходит из-за того, что насильник больше склонен к наблюдению, чем анализу. Точнее анализ возникает у него спонтанно, как восстановление картинки из признака, своего рода «улики»: «Ты не так на меня посмотрела – значит, бросаешь мне вызов…» / «…подала горячий суп – значит, хочешь, чтобы я обжегся» и проч.
Парадокс в том, что несоблюдение важных для насильника правил ценнее, чем соблюдение. Он оживает, его способности актуализируются, он становится энергичным и уверенным в себе. Более того, соблюдение требований человека, склонного к насилию, также могут вызвать его недовольство. Исключение – если правила соблюдаются неистово, подобострастно – когда жертва берет на себя эмоциональное наполнение того, что было формальным и пустым для насильника.
Одержимость
Как связано желание и насилие?
На вопрос: «чего мы хотим?» Жак Лакан ответчает: мы желаем желания другого:
«Даже если я не готов к желанию другого, я все равно на него рассчитываю, и это способно все для меня перевернуть. А твой интерес ко мне поможет стать одержимым тобой».
