От объедков до деликатесов: философия бережливой кухни
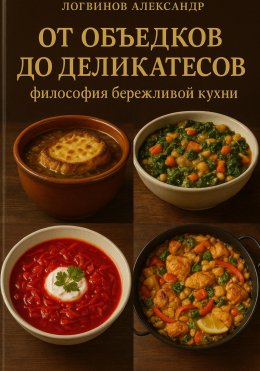
Глава 1
Жидкое золото: супы из ничего
Есть старая шутка: «Если в доме совсем пусто – свари суп из топора». В каждой шутке лишь доля шутки – на самом деле суп был излюбленным способом накормить семью буквально из воздуха. В кипящий котёл шло всё, что находилось на кухне: кости, обрезки, подвявшие овощи, черствый хлеб. Так рождались наваристые похлёбки, питавшие людей в тяжёлые времена.
Возьмём, к примеру, французский луковый суп (soupe à l’oignon). Сейчас он ассоциируется с уютным парижским бистро: горячая тарелка, увенчанная гренкой с расплавленным сыром. Но истоки этого блюда – вовсе не роскошь, а нужда. Лук веками был самым дешёвым овощем во Франции, «пищей бедняков». Крестьяне часами томили луковицу в воде или костном бульоне, чтобы та отдала всю сладость, и если в хозяйстве чудом находился кусок черствого хлеба – его крошили сверху для сытости. Иногда добавляли щепотку жира или обломок сыра, оставшиеся от прошлой трапезы. Ни о каком изобилии речи не шло – суп варили из того, что было под рукой, но он согревал и насыщал. Интересно, что знать долгое время воротила нос от такого лукового варева, считая его простонародным и даже грубым. Однако легенда гласит, будто в XVIII веке изгнанный польский король Станислав Лещинский (тесть Людовика XV) случайно отведал луковый суп в придорожной таверне – и был покорён. Рецепт перекочевал в Версаль, суп дополнили сыром и подали придворным – так крестьянское блюдо сделало карьеру при королевском дворе! В XIX веке его уже вовсю ели в парижском торговом квартале Ле-Аль и богачи, и рабочие – и для всех он был одинаково хорош. Получается, миска лукового супа – это целая история о том, как нужда оборачивается гурманством.
Другой пример – итальянская риболлита, имя которой буквально значит «снова вскипячённая». Представьте тосканскую деревню прошлого: вчерашний густой овощной суп (минестроне) остался в котелке. Выбрасывать еду грех, да и запасов мало. Что делают хозяйки? Правильно, кидают в кастрюлю горсть черствого хлеба и ставят обратно на огонь. Хлеб разбухает, впитывая аромат бобов, капусты и трав, суп густеет до состояния кашицы – вот вам и новое сытное блюдо на сегодня. Риболлита так и возникла – как способ продлить жизнь вчерашнего ужина. Со временем это блюдо превратилось в кулинарный символ Тосканы. Хотя изначально оно – классическая еда бедняков, даже легенда есть: мол, в Средние века слуги собирали пропитанный мясным соком хлеб-траншеи со столов феодалов и варили с овощами себе на обед. Не знаем, насколько правдива легенда, но в каждой ложке риболлиты чувствуется древняя смекалка: ничто не пропадает, всё идёт в суп.
А сколько ещё супов-“помоек” прославилось на весь мир! Русские щи веками варились на косточках и капусте – свежей летом, квашеной зимой. В ход шли говяжьи и свиные кости, обрезки мяса – они часами вываривались, чтобы отдать навар. Кислые щи зачастую готовили вовсе без мяса, на одном капустном рассоле, зато с косточкой для запаха. Зимой в крестьянской избе щи порой были единственным горячим блюдом дня – неудивительно, что появилось присловье: «Щи да каша – пища наша». Эта пословица прямо указывает: щи – основа пропитания русского человека. И важна не роскошь ингредиентов, а умение сварить съедобное буквально из ничего. Схожая история у украинского борща – сейчас богатого, красного, со свёклой, мясом, сметаной, – но когда-то и он был крохотным островком вкуса в море скудости. Само слово «борщ» происходит от борщевика – дикого травяного растения, из которого варили похлёбку до распространения капусты и свёклы. Древний борщ был кислым от брожения, без мяса, без привычной нам свекольной сладости – по сути, похлёбка из травы, оставленная скваситься для сытности. Позднее, когда в крестьянских хозяйствах появилась свёкла, в дело шли даже её ботва и жмых от выжатого сока – бедняцкие варианты борща могли окрашиваться тем, что обычно выбрасывали. Капустные отходы после шинковки – в борщ, свекольные листья – туда же. Кости от ужина – в котёл для бульона. Так шаг за шагом рождался классический борщ, в котором каждая ложка – симфония некогда презренных остатков, превратившихся в любимое народное блюдо.
Любопытно, что азиатские кухни тоже изобилуют примерами супов из “ничего”. Японский рамен сегодня модный фастфуд, но его душа – наваристый бульон "тонкоцу", который варят из свиных костей, хрящей и шкурок столько часов, что те полностью отдают свой жир и коллаген, превращая бульон в белую эмульсию. Китайский конгее (рисовая каша-суп) позволяет накормить целую семью горсточкой риса, разваренной в огромном котле воды – зато можно бросить туда лучок, имбирь, обглоданные косточки от вчерашней утки, и вот уже аромат на весь дом. Вьетнамский фо варят на говяжьих костях с мозжечком и хвостах – то есть фактически на том, что мясники не продали богачам. Костный отвар вообще основа множества культур: “холодец” и заливное в России и Европе – это способ превратить свиные ножки и говяжьи хвосты (несъедобные в прямом виде) в праздничное блюдо. Достаточно долго поварить эти коллагеновые части – и натуральный желатин сотворит чудо, застыв в аппетитное дрожащее лакомство. Получается, для умелого повара даже свиные уши могут обернуться деликатесом – нужно лишь знать, как их правильно сварить.
Таким образом, суп – первое убежище для всего ненужного. В любую кастрюлю можно кинуть коренья, кожуру, кости – и получить результат лучше, чем сумма частей. Современные шефы обожают вспоминать об этом принципе, варя модные бульоны "фонды"из обрезков фермерских овощей и триммингов мяса, которые раньше шли в мусор. Кстати, сейчас на Западе популярна тема “bone broth” – дословно «костный бульон», позиционируется как напиток для здоровья и красоты. Пьют горячий навар из варёных костей, как кофе – смешно, да? Наши бабушки бы удивились: то, что веками было символом вынужденной экономии, вдруг стало гламурным wellness-трендом! Но об этом – позже, в главе о современности. А пока перенесёмся из котелька… на хлебный короб.
Глава 2
Вторая жизнь хлеба: вчерашний батон на новый лад
Хлеб – всему голова. Но у любой буханки есть враг – время. Сегодня мягкий мякиш, а назавтра – кирпичом по столу стучит. Однако выбрасывать черствый хлеб на Руси считалось большим грехом. Вот и выкручивались хозяйки, выдумывая десятки способов вернуть черствяку вкус и смысл.
Самый простой трюк – подсушить или поджарить. Так рождаются гренки и сухарики. Французы называли это изящно – “крутоны”, и подавали к тому самому луковому супу. Итальянцы резали чёрствый багет на ломтики, сушили – получались хрустящие “брускетты”, которые можно натирать чесночком, полить оливковым маслом и выложить помидорки: вот тебе и закуска. А в Испании и Мексике до сих пор популярен суп гаспачо – холодный томатный суп, в классическом варианте основой ему служит размоченная чёрствая булка, перебитая с овощами в пюре. Без сухого хлеба не было бы ни гаспачо, ни итальянской похлёбки аква котта (буквально «варёная вода» – скромнейший супище с хлебом, водой и пригоршней лесных трав), ни русской тюри – где хлеб размокает в воде или квасе с луком. Бедняки всех стран едины: нет продукта полезнее, чем вчерашний хлеб – и сытно, и выбрасывать ничего не надо.
Возьмём знаменитетую панцанеллу – тосканский хлебный салат. Летом в Италии жарко, работать в поле тяжко, аппетита – чуть. Жевать чёрствый хлеб – удовольствие сомнительное. Но если хлеб смочить водой и уксусом, отжать и смешать с сочными помидорами, огурцами, луком и базиликом – получится удивительно свежий, хрустящий салат, никакого чувства черствости! И ведь родился этот рецепт не от хорошей жизни: панцанелла возникла именно как способ спасти несвежий хлеб путем пропитки и смешивания с тем, что уродилось в огороде. Некоторые версии легенды вообще отправляют нас… на корабль. Говорят, будто рыбаки пропитывали чёрствые сухари морской водой, добавляли лук и ели – вот вам и прообраз панцанеллы. Версия странная, но красивая: мол, блюдо родилось одновременно из моря и суши, от бедных крестьян и бедных моряков. Как бы то ни было, панцанелла – апофеоз логики “замочи черствяк и получи вкуснятину”.
Тосканская панцанелла: вчерашний хлеб, впитавший сок спелых помидоров, – простая радость летнего стола.
Другой великий пример – французские тосты, он же pain perdu – «потерянный хлеб». Смысл названия ясен: пропадающую буханку ещё можно спасти! Ломти батона вымачивают в смеси молока и яйца, слегка подслащенной (или подсоленной – есть и солёные варианты), а затем обжаривают до румяной корочки. Вуаля – из черствого сухаря получился нежный пирожок. Недаром во французской кухне это традиционный завтрак: свежий хлеб обычно съедали за ужином, а к утру оставались сухари – вот их-то и жарили к кофе. Похожее блюдо было и в русской кухне XIX века – гренки, вымоченные в сливках, упоминаются в старинных поварнях. И в Англии знали фокус: пуддинг из хлебных крошек с изюмом – классический десерт викторианской эпохи. Про германские земли и говорить нечего – там хлеб настолько ценили, что придумывали из черствого всё, что возможно, вплоть до пива (есть особый сорт эля, в котором часть солода заменяют сушёными хлебными корками).
Иногда черствый хлеб становился связующим звеном самых неожиданных ингредиентов. Вспомним популярное блюдо английских и американских домохозяек – мясной рулет (meatloaf). В фарш всегда добавляли хлебные крошки или размоченные кусочки булки – отчасти для экономии мяса, отчасти для мягкости текстуры. Получалось сытно и бюджетно: на килограмм мяса – полкило хлеба, семья сыта, бюджет цел. А сколько национальных колбас имеет в составе хлеб или сухари! В немецкий лебервурст (печёночный колбасный фарш) издавна добавляли размоченный черствый хлеб – для объёма. В шотландском хаггисе помимо требухи присутствует овсянка – тоже своего рода «каша-хлеб», разбухающая и держащая форму. Даже в испанских мигас – блюде, название которого переводится как «крошки» – главную роль играют обжаренные кусочки чёрствой тортильи или хлеба, смешанные с чесноком, паприкой и тем, что есть под рукой (ломтики колбасы, перец, яйца). Выходит не хуже крутых гренок!
Черствый лаваш? Нарезать, прожарить – получатся вкуснейшие чипсы к супу или пиву. Остатки праздничного кулича? Да здравствует шарлотка – ведь самый первый рецепт шарлотки (начало XIX века) предписывал выстилать форму ломтями подсохшего белого хлеба, пропитанными смесью яиц с молоком, и перекладывать яблоками. Пока это дело печётся, хлеб впитывает сок яблок и превращается в нежнейший пудинг. И мы, современные люди, даже не замечаем, что наслаждаемся десертом из вчерашних булок.
Как видим, “вторая жизнь хлеба” – это целый пласт кулинарии. Сегодня пекари крафтовых булочных снова популяризируют идею не выбрасывать вчерашний хлеб. Появляются даже рестораны концептуальной кухни, где все блюда готовятся из отходов – например, сухарный пирог с помидорами (привет панцанелле!), или мороженое на хлебной закваске. Замкнулся круг: приёмы бабушек из бедных селений превратились в модный экологичный тренд. А между тем, для сельской семьи позапрошлого века в этом не было никакого пафоса – просто жалко выбрасывать добрый хлеб насущный, вот и всё.
Глава 3
От носа до
