Неправильные: cборник повестей
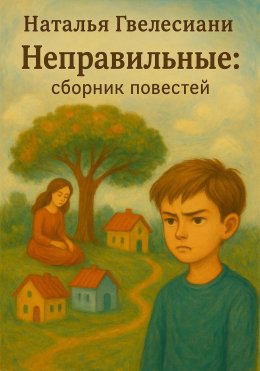
НЕПРАВИЛЬНЫЕ
С утра земля тиха, безмятежна, проста. Птицы робко пробуют голос, в
ветвях дремлющей у двери мушлумы – вот-вот зазвучит флейта. Так звонко и нежно, словно выпрастывая утро из зелени округи, провозглашает новый день прижившаяся в их дворе иволга.
Скоро, шутливо перебрав некоторые лады и тем самым перекликнувшись, птичье братство, все больше вскипая восторгом, упоенно кивая друг другу на что-то неизъяснимо-славное вскриками, трелями и чириканием, сольется в оркестр.
Все это будет чуть позже. Может быть, уже через мгновение. А пока голос иволги – сам рассвет! – мелодично струясь в грудь и касаясь какой-то вибрирующей струнки, сделал всю ее внутренность невесомой и заставил привстать.
Надо спешить!
Выбравшись из постели, Эрика надела джинсы и белую футболку, белый свитер и серую куртку, накинула на шею длинный оранжевый шарф и неслышно выскользнула в итальянский дворик, тихо затворила за собой дверь.
Там она присела на лавочку у стены, с наслаждением откинулась на ее спинку и, положив руки на колени, погрузилась в молчание.
Итак, некоторое время она просто молчала.
Более того, Эрика имела привычку молчать по утрам каждый день. Хоть иногда и позволяла себе перерывы ради того, чтобы приятная во всех смыслах привычка не переросла бы, чего доброго, в обязанность.
Она прочитала по памяти «Отче наш» и «Иисусову молитву». И стала понемногу отодвигать от себя набегающие мысли, чувства, ощущения, опасения чисто повседневного плана. Типа «А будет ли дождь?» или «Что там на завтрак?». Или, допустим, как стать отстраненной, чтобы соседи, которые скоро начнут спешить на работу, обронив «Здравствуйте!», просто пробегали мимо. Как не замечать их озабоченные, уставшие уже с утра лица и не жалеть их.
Сегодня она представила себе это так: ей необходимо добыть для соседей по планете кислорода. Поскольку ну какой на земле кислород при таких темпах прогресса. Вот уже наступило время, когда людям подают его в порядке очереди через аппараты ИВЛ. А совсем скоро… Да что там говорить!.. Лучше – молчать.
Дело в том, что Эрика обладала способностью видеть сразу все – все недобрые примести в том, что казалось большинству людей добрым.
Она училась отделять эти примеси так искусно и тщательно, как отделяет от земли, грязи и пыли крупицы золота ювелир. Эрика знала – этот процесс начинается с себя.
Она была как легкая пустая лодочка, скользящая по необозримым волнам пространства, которое ей воображалось. Давно уже оторвалась она от берега, а разного рода бури вынудили отправить за борт все лишнее.
Но лишнее то и дело пыталась запрыгнуть в ее сознание, и нередко ему это удавалось. И если бы гибкий кондуктор ее воли тот час не выпроваживал бы за борт непрошеных пассажиров, никакого плавания бы не случалось.
А отправляться в такое плавание Эрика старалась ежедневно с самого утра.
Сегодня лишнее пыталось выдать себя за зеркало, в котором преувеличивалось ее, Эрики, уродство, так свойственное и другим двуногим. Оно показывало ленцу во взгляде, сухость и холод. Из коих можно бы было, на первый взгляд, вывести следствие о нежелательности и даже совершенной бесполезности ее молитвенных усилий.
Но Эрика уже знала – это всего лишь инерция тела. Птица ее души скоро пробудится и вспыхнет, вкусив хлеба с небес, мягким, нежным как елей, добрым, кротким огнем.
А молитва – когда бессловесная, когда полная стройных мыслей и слов, а когда и просто музыка, музыка кругом, которая звенит тонким дождем и умывает округу – так и приподнимет ее на некую неотмирную высоту.
Эта высота представлялась ей не Элеонской горой – эта ассоциация была бы слишком нескромной – а Мамаевым Курганом, на котором она вела свою собственную Сталинградскую битву. Она – и множество других знакомых и незнакомых ей людей, жителей Божьего града, которые тоже вели вчера и сегодня и во веки веков некую великую Битву с князем сего мира. И тоже, конечно же, начинали с себя. Безжалостно стреляя в собственную гордость.
Все эти люди, и Эрика вместе с ними, не казались себе великими. И они не понимали, как можно желать другому того, чего не желаешь себе. Как можно обвинять кого-то в том, что делаешь и сам.
В последнее время их всех – и ныне живущих, и взирающих на происходящее из прекрасного далека – очень удивляли два народа: русский и украинский.
Выйдя из одного родового корня, связанные одной верой, они безжалостно наступали на кровные интересы друг друга. Другие же, не столь близкородственные народы, посматривали со стороны на это печальное зрелище со смешанными чувствами, желая не упустить собственные интересы, называемые мудреным словом «геополитика».
Впрочем, что значит слово «народы»?
Народ Эрика и подобные ей люди знала один. «Мы тот народ, у которого Господь есть Бог», – пел псалмопевец. Но тогда даже он и представить не мог, что этот единый народ – не иудейский. И что в небесный Иерусалим – столицу этого всемирного братства во Христе – путь всем воюющим народам заказан просто по определению.
Вначале Эрика долго пыталась понять, кто из двух народов прав, а кто – нет. Потому что у каждого из них была своя некая маленькая правда.
Потом чаша весов склонилась в сторону обиженного – того, на землю которого вторгся агрессор. Теперь уже точно враг, а не друг.
Но оставалась малая толика сомнений – ведь враг на самом деле вступил на свою собственную землю. Исконную, русскую. От которой когда-то опрометчиво отступился. Хотя формально – теперь чужую. Поскольку кто-то прочертил внешние границы.
А те, кто желали не упустить собственные интересы, торопились подобно лесным зверям – пометить новые границы, расставив вдоль них пушки, направленные этому врагу прямо в сердце. Это называлось – политикой сдерживания.
И речь теперь шла с точки зрения врага – о безопасности оставшейся в его руках территории. Не говоря уже о престиже. А на деле – о попранной гордости. Поэтому он неустанно устраивал провокации, подначивая живущее по ту сторону границы население к сепаратизму.
Наконец, Эрика поняла, что вопрос на уровне сопоставления двух правд неразрешим.
Правды разных народов, как и разных людей, их групп и группировок, всегда эгоистично двигались всяк в свою сторону и лишь дипломатические хитрости временно удерживали их от войн. И все равно – столкновения разных правд с той или иной степенью периодичности – становились неизбежными. И разряд их был тем сильнее, чем дольше их сдерживали.
Выход был один – в обретении Истины.
А Истиной был Христос.
Только в Нем как в истинной Субботе мог успокоиться единый божий народ без того, чтобы не делиться на эллинов и иудеев, мужчин и женщин, рабов и свободных.
Для этого же – всяк должен был отворотиться от своей личной правды и увидеть правду соседа. И смириться перед ней. И – взглянув окрест, вдруг узреть общее небо над головой. И необозримую прекрасную Землю вокруг.
Добро пожаловать друг, на новую Землю! Да будет воля нашего Бога и на Земле, как на Небе!
Соседи, втайне стесняясь происходящего, давно проскочили мимо и скрылись за воротами. Отпели радостный гимн своей иконе – солнцу – птицы. Робко замерла в отдалении кошка, не решаясь пересечь незримую черту, отделявшую Эрику от всех и вся. А молитва ее все лилась и лилась, словно уравнивая две чаши весов с молитвами обоих народов. Словно это теперь всецело зависело от нее – преодолеют ли они притяжение земли и явятся ли во всей своей оголенной нищете пред очами неподкупного Бога. Долго еще вырывались вслед за незримым струением из груди – из тесноты ума вопросы. И, не встречая сопротивления, возносились в простор. Где иные из них внезапно озарялись ответами и, ликуя, обретали полноту. Чтобы лучиться потом из глаз теплой ясностью и простотой.
Наконец, дверь рядом с лавочкой решительно распахнулась и на пороге появилась высокая пожилая женщина с аккуратными, коротко постриженными седыми волосами. Она повернула к Эрике, глядя на ту подобно подсолнуху немного сверху, длинное одутловатое лицо с правильными чертами и довольно живыми, хоть и грустными глазами, и протянула чайник. Она была в выцветшем халате, накинутом поверх ночной рубашки.
– Деточка, ты уже встала? Нагрей, пожалуйста, кипятку. А я организую бутерброды.
Женщину звали Елизаветой Семеновной. Но сама она предлагала называть себя тетей Лили.
Эрика охотно направилась в полуразваленный флигелек напротив, служивший одновременно кухней, ванной и туалетом и, сделав то, о чем ее просили, заодно умылась.
Здесь, как и в доме, было чисто, несмотря на обилие бытовых предметов, годных на все случаи жизни. Поскольку хозяйка то и дело их перебирала под предлогом уборки. Правда участок двора между домом и флигельком, где повсюду ютились в горшках дремучие комнатные растения изрядного возраста, был не так опрятен, ибо ближайшие соседи частенько роняли тут мусор и даже иногда ставили свое мусорное ведро. Хозяйка же, спокойно приплюсовывая чужой мусор к своему, однако, выдворяла ведро. После чего иногда следовала брань из плотно зашторенного оконного проема квартиры за левой стеной. А в районное отделение мэрии или куда повыше летели жалобы…. Ох уж эти итальянские дворики, обычно излишне романтизированные, полные обид из-за тесноты. Здесь тоже иногда разворачивались нешуточные бои.
Сейчас чужого ведра не было, и Эрика прибралась тут на ходу сама.
Потом, когда уже они сидели за завтраком, тетя Лили, всматриваясь в лицо Эрики своими прозрачно-синими, совсем не выцветшими глазами, в которых всегда что-то мерцало, как в хрустале, тревожно бросила густым, бархатистым голосом:
– Не хотела говорить с вечера. Звонили из мэрии. Эти опять накатали жалобу. Теперь на тебя. Дескать, примазалась к старухе, живешь без регистрации. Я-то понимаю к чему все эти поползновения. Им нужно сжить меня поскорей со свету, чтобы дети племянника моего покойного супруга, на которого был записан дом, продали бы им эти метры. А тут ты… Помогающая, продлевающая мне жизнь.
– Да что вы, тетя Лили, это вы мне помогаете. – Теперь опять придут проверяющие. Это не страшно – они люди понятливые, уже поднаторевшие в разгребании доносов. Но беседовать с тобой все равно будут.
– Ну и побеседуем.
– У тебя-то с документами вон какая история! Может напишешь про все про это детективный роман?
– Как раз сегодня иду в Дом юстиции за очередной справкой. Оставьте, прорвемся!..
– Ох, деточка-деточка, как же тебя мучают. Я тоже в прошлом году ходила вот так вот по всем кругам бюрократического ада. А все из-за Петра, моего прежнего жильца и помощника, когда он тут жил. Ну, ты же знаешь эту историю – его порекомендовали мне из лютеранской церкви, когда он подрабатывал у них разносчиком обедов для пожилых. Парень из Белоруссии, биолог. Объездил пол бывшего Союза и, попав в Грузию, прямо-таки очаровался ею. Решил жить здесь столько, сколько позволят. Хотя он и нигде не мог найти работы, кроме случайных подработок грузчиком. И не только потому, что он иностранец. Он был с травмой головы после какой-то аварии, с дыркой в черепе. Какой из него работник – все такому отказывали. Да и характер как у контуженного – никто не хотел связываться. Даже эти побаивались… И поставили было доносы на паузу. – Знаю, тетя Лили. Он не долго думая схватил ваш паспорт и побежал с ним в социальную службу, чтобы выхлопотать прибавку к пенсии. А когда вы закричали ему вслед: «Вернись, ты же не все знаешь!», он сделал вид, что не услышал.
Эрика старалась деликатно закруглять истории, которые тетя Лили любила рассказывать ей и любым зашедшим на огонек гостям по многу раз на дню. Эти истории были невероятно подробны.
– Ну, хлопотал-то он больше для себя. Кушал-то он обычно за троих. Я все время вертелась на кухне, готовя ему борщи. Правда продукты в основном приносил он, причем, бесплатные. Поскольку посещал все церкви подряд, в какие только не хаживал благотворительные столовые. И по магазинам он у меня ходил, и на базар бегал пешком. Знаешь, деточка, после гибели Вадика я разговаривала с монахинями и они сказали, что мне ничего не остается как всю оставшуюся жизнь молиться и помогать нищим. Мол, только так может мать облегчить грех самоубийства сына. Ну, я хоть и неверующая, но одно время исправно молилась. А потом плюнула на это дело. Но твердо решила найти человека, который бы нуждался в помощи. Поэтому Петра я взяла к себе без платы. Пока в его жизни не появился Николоз, который, наконец, устроил его на работу, вставал он чуть свет, убирался во дворе, поливал цветы, а после завтрака, если не нужно было закупаться, исчезал на весь день. Видимо, больше для того, чтобы меня не беспокоить. Где ходил-бродил и не знаю, скрытный он был, не любил говорить о себе. Знаю только что крутился все больше возле католической миссии при Посольстве Польши. И еще часто ездил на Тбилисское море в благотворительную детскую больницу, открытую монахинями ордена святой Камилы. Из католической миссии он и привел однажды молодую женщину – монахиню Людмилу. Сказал, что она тоже родом из Белоруссии и что он знает ее давно. Людмила стала навещать меня и часто не с пустыми руками. Однажды он даже пригласил ее в Оперный театр. Сам он обошел все тбилисские театры, все музеи. Регулярно взбирался на Мтацминду. И даже – ты не поверишь – нашел лазейку в посольства самых разных стран, ходил на какие-то дни открытых дверей. Все про все знал, особенно про свои права. И мне говорил, что я не знаю своих прав, что мне положены такие-то и такие-то выплаты. Умел этих выплат добиться. И в тот раз тоже, несмотря на мой запрет, побежал куда-то качать права. И накачал!.. Выяснилось, что я живу тут без регистрации, но при этом зарегистрирована в другом конце города в бывшей квартире сына, которую продала после его смерти аж двадцать лет назад. Ну, мне тут же и заблокировали паспорт, а вместе с ним и с пенсию. А потом – боже мой! – сколько мы с Петром ходили в этот самый твой Дом юстиции, сколько собирали справок. Племянника вызвали из Москвы, чтобы он как собственник меня прописал. А Петр между прочим и тут обнаружил мои права. Объяснил мне, что племянник моего умершего супруга оформил дом на себя незаконно, что единственная его наследница – я. И что можно дать ход делу. Но я сказала: «Сиди уж!… Будто я не знаю этого сама. Я только делаю вид, что не знаю. А ход делу, если понадобится, можно дать всегда. Но с чего бы мне б это понадобилось? Думаешь, кто мне помогает деньгами все эти годы – государство? На государственную пенсию нам с тобой вдвоем точно не прожить. И еще бы не помогать, ведь это племянник упросил меня срочно продать тогда квартиру Вадика буквально за копейки, чтобы они могли уехать в Россию и купить там, добавив свои финансы, приличное жилье. Эти деньги они у меня одолжили с условием, что будут помогать. И исправно все эти годы помогали. Уже и выплатили тот долг, а я все живу. А два месяца назад умер племянник. Вот так-то деточка. Я была поражена в самое сердце. Не ожидала я от него такого. Мне-то уж восемьдесят пять. А ему было – только семьдесят. Эх, зажилась я… В маму свою пошла. Она тоже ушла в восемьдесят пять.
– Да что вы такое говорите. Не считайте годов! – После смерти племянника его дети в помощи мне отказали. Я их понимаю, никто и не обязан содержать постороннюю старуху. Но ничего, у меня еще есть кое-какие антикварные вещички, есть книги позапрошлого века – я их и раньше понемногу продавала. Надо торопиться, а то кому все это достанется? Случись чего, соседи взломают дверь и все вынесут. Я вот все думаю, что мне свои вещи и книги надо кому-то завещать. Только чтобы этот человек не забыл похоронить меня. А то я все время боюсь, что меня кинут в общую яму… Может быть, ты станешь таким человеком?.. А знаешь, деточка, говорят, что племянника похоронили очень достойно. Были такие столы, такие букеты, такой катафалк! А какие гости!..
Эрика протестующе замахала руками, вскочила, накинула пиджак, схватила сумку с документами и – бросилась прочь.
– Погоди, а как же бутерброды?!
Но Эрика, машинально поглаживая шею, как после сорванного с нее слишком теплого и тугого шарфа, провоцирующего удушье, уже была далека.
2
Дом юстиции Грузии представлял собой гигантское здание в центре Тбилиси. Построенный не так давно, он цеплял взгляд своей необычной, постмодернистской красотой. Крыша его была покрыта громадными плитами, напоминающие издали не то листья, не то шляпки грибов, не то совиные крылья. Нескончаемым муравейником вливались в него потоки посетителей, не создавая, однако, очередей. Ибо все юридические службы, бывшие здесь в одном флаконе, были разделены на отсеки и всюду сидели за компьютерами многочисленные операторы с высшим юридическим образованием.
Не будь этой системы, так удачно сфокусированной в одной точке, Эрике бы пришлось еще туже.
Мытарства в кафкианском стиле начались в жизни Эрики с год назад, когда у них с братом дошли руки до приватизации их общей, все еще государственной квартиры.
Ох уж этот квартирный вопрос. Собственно, из-за него Эрика и перебралась жить к тете Лили. Поскольку конфликты с братом, который к тому же подсел на алкоголь, стали невыносимы.
Он почему-то считал, что приватизировать квартиру следует на него, потому что, дескать, он мужчина. Эрика же отстаивала законный, а не шовинистский вариант – приватизацию на всех троих, включая мать. Матери же при этом было все равно. Она просто жалобно призывала их обоих к миру и спрашивала нельзя ли отложить переоформление до ее смерти.
А пока брат всячески саботировал процесс, отказываясь собирать свою часть справок, выяснилось, что вообще-то сначала еще надо доказать, что в данной квартире живут именно они. И что они вообще – дети своих родителей.
Итак, верхушка айсберга системы в виде здания с совиными крыльями втянула Эрику в свои коридоры, и втянула надолго. Она достала тетрадь, где отмечала, какие справки пора забирать сегодня и какие пришла очередь заказать и взяла первый номерок. Потом привычно двинулась по узким извилистым коридорам к окошку с указанным номером.
Там она протянула бумагу, пробежав которую взглядом, ей должны были выдать другую бумагу. На основе которой она бы заказала в другом отсеке – следующую бумагу. И так предстояла сделать, постоянно перемещаясь из конца в конец, несколько раз.
На сей раз женщина-оператор, заглянув в компьютер, пытливо вперилась ей прямо в глаза и спросила:
– А зачем вам нужно такое количество бумаг?
– О, это длинная история. Понимаете, родители назвали моего отца именем Сандро. Полагая что оно французского происхождения. Они желали придать жизни сына легкости. А когда он получал свой первый, еще советский паспорт – паспортист решил что это – чисто грузинское имя. И что будет грамотней записать его полный вариант, и притом по-русски. И вписал в паспорт имя «Александр». К тому же паспортисту не понравилось как звучит отчество моего папы. Дедушку звали на грузинский лад – Биктором. И отец носил отчество – Бикторович. Паспортист исправил и эту оплошность – вписал на русский лад моему родителю отчество «Викторович»… В общем, отец принял все это как что-то само собой разумеющееся. И попал на весь своей век и даже на посмертную жизнь – в нарушители закона. А вместе с ним – все мы, его законные супруга и дети.
Женщина едва заметно усмехнулась. И небрежно обронила, вписывая что-то в компьютер:
– Что ж, бывает. В советское время случались еще не такие истории – посетите музей советской оккупации и убедитесь. Кстати, моя мама тоже украинка.
– Да, мама родом из Запорожья. Правда, мать у нее была русская. Национальность матери ей и вписали в графу. Хотя фамилия осталась отцовская.
– Это называется – русификация. Записывали украинцев как русских. – Да нет, маме, по ее словам, было все равно. Ее спросили, какую вписать национальность. Она не долго думая выпалила: «Русская». А почему – и сама не знает. Наверное, говорит, потому, что в семье, да и всюду, говорили по-русски. – Вот это и есть то самое. Когда даже не поняли как проглотили наживку. – Между прочим, дедушка, узнав про этот выбор, ничуть не обиделся. А бабушка даже сказала: «Ну и умница. Хоть одно дитя будет в меня». В семье было четверо детей, и старшие записались украинцами. – Скажите, а как ваш отец прожил семьдесят четыре года с неправильными паспортными данными. Неужели никто никогда ему на это не указывал? Неужели у него не возникали проблемы?
– Возникали, наверное, но он про них нам не рассказывал. Не знаю как в последние годы, а тогда все решала взятка. Предполагаю, что так ему было проще – ведь у него уже были жена и двое детей. Причем, брак он зарегистрировал в Туркменской ССР, а дочь, то бишь я – родилась в Узбекистане. Поменяй он имя и отчество, пришлось бы и нам менять все документы. Причем, начиная с Туркмении и Узбекистана. – Дорогая, все тайное рано или поздно становится явным. К сожалению, нерешительность и низкая законопослушность отца обернулись для вас… как бы подобрать слово помягче… неким родовым проклятием. Ведь что посеешь, то и пожнешь.
– Увы, это так. И я даже рада, что когда мы затеяли приватизацию квартиры, все это вдруг обнаружилось. Я благодарна каждому юристу, кто дотошно указывает на все неточности, помарки и опечатки. И тщательно их исправляю. Я очень не люблю нарушать закон. К тому же, если бы мне захотелось отправиться в путешествие по бывшему Советскому Союзу или даже эмигрировать в одну из стран СНГ, в любой момент мне могли бы перечеркнуть визу или вид на жительство и отправить обратно. Это бы было ужасней всего!
– Вот, значит, что является вашим стимулом соблюдать закон – желание эмигрировать.
– Но и Грузию я люблю тоже. Просто то, что теперь принято называть периодом советской оккупации, совпало с моим ранним детством. И, учась в русской школе, я выросла на русской культуре. Даже закончила потом филфак в тбилисском педвузе. Но работы потом по специальности «Русский язык и литература» уже не нашла.
– И себя, как видно, не нашли.
– Может быть.
– Наверное, вам бы могло помочь двойное гражданство – грузинское и одновременно российское.
– Но вы же сами знаете, что для таких как я это возможно лишь чисто теоретически. Выйти из грузинского гражданства, принять российское и только потом опять попробовать получить второе гражданство уже как иностранной подданой, что предусматривает экзамен по грузинскому языку… Все это слишком энергозатратно! И – к тому же материалозатратно. – Давайте ближе к делу. В итоге, закон о том, что основным документом гражданина является его Свидетельство о рождении, выписываемое согласно актовой записи о рождении, обязал вас вернуть вашему покойному отцу его законные имя и отчество. И отец посмертно опять стал Сандро Биктровичем. Так?
Тонкие губы логичной женщины опять едва заметно вытянулись в подобие усмешки, словно между ними лениво расположилась змейка. Правда, довольно безобидная змейка. Скорее – уж.
– Так, – вздохнула Эрика.
И добавила, горячась:
– Да никто его этим именем и отчеством никогда и не называл! Даже в семье его звали «Сашей»! И мама, и мы! А теперь нам, его детям, тоже приходится стать Сандроевной и Сандроивичем. Да и у мамы вдруг объявился новый муж – Сандро. Я уже поменяла метрику и паспорт. Брат же ничего менять не желает. Говорит, что отец был Александром, и что он тоже останется Александровичем, и точка тут!… Впрочем, вскоре он убедится, что все его прежние документы стали незаконными. И его тоже будут ожидать большие перемены. Причем, за каждую справку надо платить!.. Если не за саму справку, то за ее перевод. И за печать нотариуса. – Ну, видите, это и есть родовая карма. Надо было записывать – как звали. Или звать – как записывали.
– А может быть стоило предусмотреть для таких случаев в законе исключения? Ведь вы же сами говорите, что советское государство было оккупационным, мало ли что оно наворотило в своих документах. Оставили бы отцу его имя, с которым он прожил всю жизнь, и дело с концом. Тем более что мы-то уже живем в другой стране. – Э-э-э, дорогая… Не так это просто, не так. Вот представьте – вы покупаете квартиру у некой Эрики Александровны. А в домовой книге при этом записано, что ее отец – Сандро. Вы-то, наверное, и не обратили бы внимания на такую мелочь. Но Дом юстиции не может не обратить. Потому что если окажется, что Эрика Александровна все-таки не дочь Сандро, а потом объявится законная дочь Эрика Сандроевна и спросит кто продал ее квартиру от имени какой-то мошенницы, у которой даже отчество не ее – отвечать будем мы. Но больше всего пострадаете опять-таки вы – это вас заставят вернуть квартиру законной владелице. Причем, совершенно безвозмездно. – Да я уже это поняла. Просто мне все кажется, что закон все равно можно как-то модернизировать. Дополнить справедливость милосердием. Уравновесить, так сказать, первое – последним.
Эрика нехотя улыбнулась.
И даже оператор-юрист, наконец, выпустила изо рта невидимую змейку и, откинувшись на спинку стула, тихо рассмеялась в кулак.
3
После того как очередная порция бумаг была собрана и заказана, Эрика опять оказалась на воздухе. Быстрым шагом прошла она к площади Свободы и остановившись у отвернутого от стоящей в ее центре статуи Героя-Победоносца, скромного бюста Пушкина, стала прохаживаться.
Монумент с Георгием на коне заменил когда-то стоявшего здесь на постаменте Ленина с традиционным указующим перстом. В бытность, когда Площадь Ленина переименовали в Площадь Свободы, каменного идола снесли. Возможно, это сам Ленин превратился в поверженного дракона, которого блистающий золотом Георгий разил копьем. Вокруг монумента, как и прежде, важно разворачивались автомобили, проплывали синие автобусы. Пушкинский сквер же, полный щебета птиц, зелени и фонтанной воды, служил этому – нет, не альтернативой, а скорее – дополнением. Здесь тбилисцы и гости столицы делали передышку. Быть может, сквер тоже был переименован. Но все по-прежнему называли его пушкинским.
Мысли о злосчастных бумагах не покидали ее. Вся эта канитель, казалось, вытянула из нее за год все силы. Эрика даже похудела. Что, впрочем, ей шло. Она вновь стала выглядеть как в двадцать лет. Хотя как раз в этом году эта сумма удваивалась. Но Эрика в душе никогда ничего не удваивала, она удивительным образом умела сохранять ядро своих юношеских мыслей и чувств, своих убеждений.
Вот только реалии и подстраивающиеся под них идеи или, лучше сказать, идеологии, сквозь которые люди привыкли взирать на факты, постоянно менялись. И Эрика нередко путалась. Ей приходилось тратить львиную долю энергии, чтобы по-прежнему сохранять «лица не обще выражение».
Чтобы отвлечься, она прибегла к самому верному способу – стала просматривать новости и сообщения в телефоне. Было 10 мая 2022 года. Многие посты все еще были посвящены отпразднованному в России Дню Победы. Участники Бессмертного Полка уже проплывали летящими портретами- журавлями перед взором миллионов пользователей соцсетей. Были среди них и портреты двух ее двоюродных дедов с Украины – дяди Пети и дяди Вани, как называла их никогда не видевшая их, но выросшая под их портретами мама. Те погибли – один в Румынии, а другой – в Австрии.
Господи, какое это чудо, что ей осталась хоть социальная Сеть! Здесь, как нигде, можно было еще оставаться собой. И быть там – сразу со всеми, невзирая на границы.
Однако впервые праздник со слезами на глазах – который был, наверное, для нее, самым чистым и светлым, даже светлее чем Новый Год – совершенно не радовал.
Порадовало только видео от подруги из российской глубинки. Та любовно обошла с телефоном зацветшую на даче вишню. Тихое веяние ветерка, колышущего цветки, неторопливый завтрак пчелы, тихо струящийся комментарий подруги и отдаленные голоса с русской речью, среди которых преобладали беззаботные вскрики детей – они были стремительны, как чижи – помогло ей, наконец, войти в атмосферу пушкинского сквера.
Она так и представляла себя – Самарская область, электрички, дачный поселок, подруга и другие дачники с их весенними хлопотами – это прямо тут. Стоит только руку протянуть… Но, боже мой, сколько бюрократических препонов нужно преодолеть и сколько вложить средств, чтобы оказаться перед этим лицом к лицу!.. На каждый километр пути – небось, не меньше килограмма справок. Эрике все это было совершенно не под силу! А между тем жителям отколовшихся от Украины регионов раздавали российские паспорта просто так, даром. Как и грузинским абхазам и осетинам.
Тут Эрика некстати вспомнила, как, когда она однажды обратилась в Консульство РФ в Грузии с просьбой о гражданстве, помощник консула только руками развел. И рад бы, мол, помочь, но закон не велит. Только в общем порядке – сначала разрешение на временное проживание, если дадут квоту, потом срочный отъезд в точно указанный срок, временная регистрация в чьем-то, а всего лучше – в собственном жилье, потом спустя год, быть может, вид на жительство, если позволяют доходы. И обязательная справка о них, обязательная работа с заработком не ниже прожиточного минимума, куда иностранцев не так уж и берут, ведь руководству предприятия, за них, иностранцев, приходится отчислять государству какие-то выплаты. И так – в лучшем случае пять лет. После чего можно подавать заявление на гражданство. Которое могут и не дать. Даже если ты вырос на русской культуре. И даже если твоя мать сделала выбор в пользу русской национальности. Да даже если ты русский.
Правда, одну возможность перед Эрикой тогда все-таки вытянули, как кота из мешка.
Ей предложили, благо у нее было педагогическое образование, отправиться преподавать русский язык в детском доме. Чему бы она была несказанно рада. Да вот только тот детдом был – в заброшенном дальневосточном поселке, что располагался прямо у границы с Японией. Там, по словам помощника консула, имелось общежитие и гражданство за этот переселенческий подвиг обещали предоставить в трехмесячный срок. И даже посулили подъемные.
Эрика, любившая также и Грузию, своих тбилисских родных и друзей, любившая своих друзей, проживавших по всей России, дорожившая редкими встречами с украинской родней, не могла обречь себя на ссылку, откуда, – она это знала – по материальным возможностям возврата не будет. К тому же здоровье ее не годилось для каторжного труда. Да, наверное, консул потому и предложил этот вариант, что был уверен, что он не пройдет. И можно будет поставить галочку – дескать, мы сделали все, что могли.
И вот, забытая суровым законом, Эрика прохаживалась сейчас напротив бюста Пушкина.
Непринужденная атмосфера парка, ее легкость снова исчезли. Словно на месте святого Георгия, сменившего Ленина, на фоне которого кудрявая голова поэта казалась детским мячиком, вдруг появился Медный Всадник.
Куда ты мчишься, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
Этого в современном мире теперь не знал никто.
Из любви к родной культуре, литературе и одиночества Эрика иногда вела воображаемые диалоги с деятелями прошлого. И сейчас ее внутренний взор словно проник в изваяние поэта. Пушкин, приветливо улыбнувшись, покинул изваяние и, материализовав трость, принялся вышагивать взад-вперед, поглядывая на Эрику с совершенно неземным, величайшим добродушием.
– Александр Сергеевич, вы бы хоть усыновили меня, что ли… Я тоже Александровна, но теперь, получается, Эрики Александровны, согласно документам, на Земле больше нет.
Приостановившись, Пушкин посмотрел на Эрику так проникновенно, что у нее мурашки пошли по коже.
– Как грустна наша Россия, – протянул он задумчиво. В этот миг печаль так и переливалась в его горящем взоре, но лицо при этом оставалось светлым. Оно, казалось, стало даже светлей от печали. Но он быстро опомнился, опять взглянул на Эрику, прокрутил в руке трость, направил ее к небу и ласково промолвил:
– Дитя, я – брат твой. Товарищ твой Пушкин, как говаривал наш собрат Андрюша Платонов. Мы все тут – дети одного Отца.
– Так, – охотно согласилась Эрика. – Но скажите мне, брат Пушкин, как же так получилось, что в созданном вами, как нам всем тут рассказывают в школе, современном русском литературном языке стали исчезать слова? Все помнят, как в годы сталинских репрессий исчезали люди. Но чтобы – слова… Вам знакомо слово «спецоперация»?.. Мне страшно, что, возможно, через совсем малый промежуток времени этот канцеляризм станет повсеместным. И вытеснит из нашего с вами братского языка точное, громадное по силе воздействия слово, соответствующее этому явлению. А там гляди – сгладятся в сплошную плоскую линию и все другие слова. И тут – это для меня ужасней всего! – мы перестанем понимать даже вас! Хотя, признаться честно, в школьные годы вы были мне безразличны. А потом до вас – было недосуг. Но сейчас, когда у меня есть досуг – я вдруг узрела брата!.. Как славно, что вас уже невозможно запретить! Но можно перекодировать ваши смыслы, сделать их чуждыми уму и духу.
Пушкин опять нахмурился. С ожесточением вцепился в трость и, озираясь, хотел было кому-то ею пригрозить. Но вдруг, обернувшись, увидел золотого Георгия на коне.
– Какая подделка! – произнес он гневно. – Боже мой, неужели вы по-прежнему молитесь золотым истуканам!..
– Но это же святой Георгий, – возразила Эрика. – Нет в этом скафандре ничего святого! Святые источают мир из собственного сердца! Да так, что порой даже иконы – мироточат. – Вы хотите сказать, что такое явление как святой Георгий, поборовший на этом самом месте такое явление как Ленин – не соответствует своей форме на данном конкретном месте?
– Да, он совершенно неуместен.
– Так как же соединить суть и форму в стол разъявшемся мире? Знаете, мой брат, одна наша сестра, страдающая синдромом Аспергера, как-то спросила меня, зачем поэты пишут стихи? Разве нельзя, как она изящно выразилась, говорить просто?
Пушкин добродушно подмигнул:
– «Как сердцу выразить себя, другому как понять тебя?» – «Трудов напрасных не тая, любите самого себя, достопочтенный мой читатель, – быстро продолжила Эрика, – Предмет достойный, никого, любезней, верно, нет его». Поэтому так бьет в самое сердце тютчевская строка, ставшая афоризмом: «Мысль изреченная есть ложь». Знаете, мне иногда хочется замолчать насовсем. После таких стихов.
– Мне тоже хотелось, – признался Пушкин. – Собственно, в раннем детстве я больше молчал. Родители мои были дома слишком откровенны. Они не прятали от детей своих истинных чувств. Например, до нас с сестрой им было недосуг. И они нам не врали – не показывали большей любви, чем у них было. Не произносили пустых слов. Не пытались тужиться, наполняя слова энергией, которой они не чувствовали. Отчего слова бы раз -Дваивались, раз -Траивались и раз – Четверялись, становясь двусмысленными. И я за это им теперь благодарен. Зато я с малых лет видел, как слова превращаются в змеиные хитросплетения, едва только на порог дома ступали гости. И как эти невинные домашние ужи превращаются в гадюк, вступив в пределы большого света. Ах, каюсь, я тогда испытывал нездоровое наслаждение, молча наблюдая из своего угла за их коловращением. Я тоже не любил говорить. И даже делать лишних движений, за что получал нагоняй от матери. Я не хотел быть обманщиком, как все. Но позже я открыл дверь в библиотеку отца. И поэзия, куда проник мой нескромный взор, – не только высокая, но и неловкая из-за своей торжественной напыщенности, а иногда и скверная, представляющая собой фривольные стихи, стала моим спасением. Я увидел, что слово может быть просто выражением любви. Даже в ее искаженной, извращенной форме. И что все слова в стихах стремились достичь этой любви, как просветления. Стремились обрести свое первоначальное, простое значение… С этого дня я почувствовал себя освободителем слов. И мою неповоротливость, замкнутость и молчаливость как рукой сняло.
– Я поняла, дорогой брат! Вы потому потом и совершили революцию в отечественной словесности, вернув ей свежесть и простоту золотого века! Вы стали нашим освободителем! Нашим солнцем, греющим нас изнутри подлинной любовью! Как же я вас раньше недооценивала! Бедный вы наш добрый гений! Да и мы все тут, наверное, вас до сих пор недооцениваем, как недооценивала, впав в замешательство от вашей искренности и чистоты, собственная матушка. Но как же вы могли… Как вы сумели найти потом общий язык буквально со всеми – от горничных до царей? Да и к сердцу не понимавшей вас матери все-таки проложили незримую тропу перед самой ее смертью?.. И – простите – но зачем вы стали таким повесой, зачем вам понадобился высший свет, зачем вы мелькали там, подобно мотыльку, летящему на лампу?.. Зачем столько вертелись, столько болтали в этом ложном кругу?..
– Милая, если бы я болтал меньше, этот свет был бы – еще хуже.
Когда улыбается Пушкин, все темное вокруг становится таким незначительным. Таким временным.
Едва приметно усмехнувшись, Пушкин опять обернулся на истукана на постаменте. И – о чудо! – тот опять показался Эрике настоящим героем. Но ведь только что Пушкин – сам Пушкин! – указывал на его ложное величие. И при этом сердился.
Встретившись с Эрикой взглядом, Пушкин промолвил – почти неслышно, больше глазами, чем словами:
– Дело не в том, что у чаши снаружи, а в том, что у нее внутри. Если ты от души полюбишь святого Георгия, то он будет весь – твой. Он так и просияет от твоих мыслей. И будет стоять на своем месте – хоть на этом же самом – только для тебя одной. А как бы было славно, если бы и все кругом его полюбили!
– А как же Ленин? Вы знаете, когда он тут стоял, некоторые его любили. Хотя большинству было все равно, а иные даже надсмехались.
– С Ленином немного сложнее. Он начал за здравие, а кончил за упокой. В школьные годы он даже изучал в религиозном кружке Слово Божье. И по своей наивной честности, присущей гениальным, то бишь, попросту естественным детям – тоже заметил несоответствие великой Истины – Правде и Красоте, которые, казалось бы, должны были идти рука об руку. Но нет правды на Земле. И он от всего сердца решил, будто ее и в самом деле нет ее и выше. Особенно его оттолкнули мертвые напыщенные слова, которыми преподавали тогда Закон Божий. Какие же из этого вышли
ужасные следствия! Мой бедный брат Ленин решил, что Царствие Божье можно восстановить не Сверху, а -снизу. Причем, насильственным путем. Отняв у Слова его творческую Силу. В дальнейшем, когда по логике вещей слово его стало неумолимо расходиться с делом, он вдруг смутно почувствовал себя обманщиком, очень страшным обманщиком. И на этой почве – заболел… Еще бы немного и Ленин бы от тоски – замолчал. Даже не отдавая себе отчет – почему. Поэтому пришедшая к нему смерть была самим милосердием.
– Знаете, тете Лили, у которой я сейчас живу, не хватает на нашей Площади Свободы именно Ленина. Ведь он был символом ее молодости. Они тогда воображали, что он – самый лучший человек на Земле. И что действительно видит светлое будущее. И указывает в него путь уверенной рукой. – Ну и славно. Пускай эта светлая вера омоет там, на небесах, Ленина от его невольной лжи, осушит его слезы и – поднимет в великий град Иерусалим. Пусть тысячи советских людей, поверивших в миф о вожде, засвидетельствуют своей чистотой свою любовь к нему. А Господь, как мудрый и добрый правитель Дук из моей поэмы «Анджело», конечно же, простит его. Только тот, зажав в ужасе уши руками, должен тут же отмахнуться от непереносимых его слуху слов чистой хвалы и тут же переадресовать их подлинному настоящему Человеку. Человеку, и – одновременно – Богу. Потому как нет под небесами другого имени, которое открывает путь в Будущее, нежели имя – Иисус Христос.
Пушкин ушел не прощаясь. Просто растворился в тонком луче, в котором порхала белая бабочка.
Зареяли над бюстом стрижи.
Потом по нему запрыгал воробей, чикрнул клювом по плечу. Птичья перекличка слеплялась в ком, каталась по земле, платаны перекидывались им. Порой ком застревал в кустах и звуки становились веселей.
Подплыл синий автобус. Пассажиры важно высадились и тоже поплыли кто куда походками стройными, значительными. Все-таки это был самый центр столицы. Здесь все выглядело приличным.
Сегодня эта важность показалась Эрике какой-то легкой, воздушной. Она встала со скамьи и принялась обозревать окрестности, намечая дальнейший путь.
Сердце ее звенело и даже все тело растворялось в какой-то умиротворенной прохладе, овевалось светлым ветерком.
В таком настроении она долго бродила по улочкам старого города, присматривалась к причудливым цветам на балконах и выхватывала взглядом на некоторых из них ласковый сине-желтый флаг с шелковым полотнищем.
Витрины с сувенирами не казались ей, как раньше, слишком назойливыми, неуместными. Она даже отметила, что некоторые изделия отличались отменным вкусом.
Полакомившись лепешкой с лобио из придорожного ларька, она поднялась по крутой тропе к храму недалеко от крепости Нарикала. Отсюда со смотровой площадки, хотя это была еще не самая вершина горы, уже был виден весь город.
Его храмы, площади, будто склоненные друг к другу крыши и Гора Мтацминда, нежились в привычном утре.
Тут же, склонившись друг к другу, стояли парень и девушка со славянской внешностью и тоже глядели вдаль.
Наверное, украинцы. Их теперь можно было встретить повсюду. Хотя, может быть, и русские.
Да как их отличить.
Да, все верно. Для того, чтобы быть искренними, совсем не обязательно молчать. Достаточно просто любить.
А там можно – даже иногда шалить.
И – «истину царям с улыбкой говорить».
4
У тети Лили за накрытым столом сидели гости – монахиня Людмила и Петр. Эрика, расцеловавшись с ними, тоже присела. Она уже знала, что это их последняя встреча с Людмилой. Та уезжала в Польшу, куда переводили некоторых сотрудников их миссии. Петр был сумрачен, Людмила как обычно – скромна и приветлива. Она сидела прямая как тополь, очень белокурая, светлокожая, с тонкими чертами лица, тонкими пальцами, с тихим, мелодичным голосом. С ясным, открытым взором.
Одета она была в однотонную ситцевую юбку и кофту. Шею украшали маленькие жемчужные бусы. Руки лежали на коленях, и только иногда она бралась тремя пальцами за ручку чашки, аккуратно отхлебывала глоток. Рядом с ней вечно сжатый в пружину Петр с его угловатыми движениями и резко падающими словами, казался каким-то топором. И, видимо, чувствуя это, помалкивал. Он ожесточенно жевал колбасу, тихонько пододвигая при этом блюдо с бутербродами поближе к соседке. Та же к ним так и не прикоснулась.
Тетя Лили сегодня была не так хлопотлива. Доставив последнее блюдо, она поскорей встала рядом со столом, облокотившись о его край. А там – повела круговую чашу своих воспоминаний по новой.
Все они уже выучили эти истории наизусть. И чувствовали себя не то заложниками, не то заговорщиками, когда, переглядываясь и подмигивая
друг другу, старались переключить внимание хозяйки со своего прошлого – на что-то другое.
Петр даже достал блокнот, вырвал листок и стал писать к тете Лили какие-то вопросы. Но тщетно – сквозь ее глухоту, да и упрямство, пробиться было невозможно.
А тетя Лили торопилось. Она верила, что передает им что-то очень важное. Чего передать больше некому. И упорно закачивала в их память, как в компьютерный диск, множество сведений.
Казалось, она желала добраться до генетической памяти целого народа и порой говорила так ярко и эмоционально, словно стояла прямо перед ним. Она буквально стояла, произнося свои речи, и могла, несмотря на одышку, выдержать так несколько часов, если бы гости через некоторое время не разбегались.
Сейчас она опять рассказывала историю своей семьи как историю любви. Точнее, серию историй о любви. Про каждую из них можно было написать отдельный роман, о чем все ей неоднократно советовали. Но советы тоже благополучно пропускались мимо ушей.
Сегодня, едва взглянув на Петра, который украдкой взглядывал на профиль Людмилы как узник на свет в единственном окне накануне расстрела, Эрика внезапно все поняла про него.
Она поняла, что Петр увлечен не Грузией, а Людмилой. И не увлечен, а одержим. Он приехал сюда за ней. И вероятней всего, вскоре после ее отъезда начнет не находить себе места и сорвется в Польшу. Эрика сразу почувствовала, как усилилась в ней теплота к этому человеку. Как все просто. И как благородно.
А ведь тетя Лили, безуспешно пытавшаяся вытянуть из того причины его нежелания возвращаться на родину, уж было предположила, что он что-то натворил там. Может быть, даже украл. И на всякий случай запирала шкафы и отмечала положение ваз – не повернуты ли они. Не искали ли в них сокровища, хотя их и нет.
Не сбылось и предположение Эрики о политических гонениях в Белоруссии на прямолинейного Петра.
Внезапно, глядя на молодеющее на глазах лицо тети Лили, которая властно вступала в череду воспоминаний, самоотверженно отметая подобно соловью даже собственное тело с его немощами, отметая даже слушателей, и, пожалуй, даже близкородственную душу, Эрика впервые поняла, что эта дошедшая до края жизни женщина стоит сейчас не перед прошлым, а перед будущим.
Это будущее качалось заманчивыми небесами над ее молодыми героями. Это из него шли во все стороны еще неведомые тропы. И было еще время сделать любой выбор. Или пока что просто бродить, заглядываясь на всю эту то тихую, то бешеную кутерьму затей и событий, перескакивая с тропы на тропу.
Можно было еще над будущим немного посмеиваться, безудержно в него стремясь.
Не брать его в расчет.
Или слишком брать, отдавая даже жизнь.
Внешне рассказы тети Лили напоминали записи летописцев. В них скурпулезно отражалась внешняя канва событий. Словно все это было крайне необходимо не столько будущим потомкам, сколько небесам, где в Книге жизни ведется незримый учет каждой детали. И каждая из них имеет свой вес. И – свои последствия.
Это-то обилие фактов и не вмещалось в сердца слушателей. Потому что предназначалось не для них.
Сердцами они ловили лишь настроение, ловили эмоции, которые тетя Лили передавала, полная ими до краев, с поистине художественным блеском. Не умея, правда, как следует передать суть, да и не всегда понимая ее. Эти две задачи – так бережно хранить факты и так сильно чувствовать все, что за ними стоит – были титаническими. И даже в чем-то несовместимыми. Им, молодым, такое было еще недоступно. Для этого нужна была титаническая натура уже много пожившего и много увидевшего человека. Его неисчерпаемая энергия, ушедшая теперь в будущее и двигающее именно его.
«А мы-то по наивности называем это старостью, Думаем, что силы уходят в песок, – подумала Эрика.
И вот Эрика принялась сама для себя отдаляться от деталей, которые не вмещались в сознание, и извлекать стоящую за ними музыку. Эта музыка была одновременно высокой поэзией. И, в таком уже виде, органично вписывалась в глубину ее души, в некий ее код.
… Тифлис начала двадцатого века.
Две юные смешливые гимназистки – Мария и Нина – немного опаздывая из-за того, что долго наряжались, и нисколько этим не тяготясь, шагают в ногу. Внезапно, прыснув, они прекращают эту забаву, становятся деланно солидными.
Едва уловимая дрожь в мостовой все нарастает, превращается в грохот копыт за спиной, а потом вдруг стремительно сходит на нет. Сидящий в коляске юноша, откинув верх, приветливо снимает шляпу и произносит немного нараспев:
– Приветствую вас, барышни. Давайте-ка я вас подвезу. Это Левон – внук известного во всей Российской империи нефтепромышленника и мецената Александра Манташева, сын
продолжившего его дело Левона Манташева, больше известного тифлисцам в качестве конезаводчика – тоже едет учиться. Только его гимназия мужская.
Но до перекрестка, где их пути разбегутся и завиляют по узким улочкам, дорога пока одна.
И эти встречи, эти смущенно-сладостные поездки «до перекрестка», когда все молчат и лишь искоса изучают друг друга, – да нет, просто излучают друг в друга еще не тронутую прелесть – стали игривой традицией. Проворно выпрыгнув из коляски на развилке, этот, кажется, сам принц, торопится подать руку, чтобы девушки сошли. А там лошади лихо срываются с места и – вот уж только вихрь остается на дороге. И маленький остаток пути до здания из красного кирпича кажется им таким приятным. Строгая учеба впереди – уже получила свой неведомый заоблачный привет. И может теперь только внушительно покашливать.
Гимназия из красного кирпича и поныне стоит на одной из улочек старого города, что сбегают ручьями с горы сразу за Площадью Свободы. Теперь тут – обычная школа. Здесь выучилась и тетя Лили.
Странная все-таки у них была семья. Сложная из-за несходства ярких натур. Ее бабушка была польской пани, вышедшей, вопреки воли семьи, замуж за русского инженера с украинскими корнями по фамилии Олешко, занимавшегося постройкой военно-грузинской дороги. С ним она познакомилась на водах северного Кавказа. После чего семья отреклась от юной пани и та переехала к мужу в Тифлис. А там у них и родились ее будущие тети – тетя Мария и тетя Нина, бывшие сестрами- погодками. И младший их брат Семен – ее будущий отец.
Но счастье длилось не долго. Отец семейства, как и многие интеллигенты той поры, сочувствовал народу. Как-то он не пошел на работу, и, надев, праздничный костюм, взволнованный, торжественный, куда-то вышел. Таинственно бросив жене, чтобы она не отпускала сегодня детей на прогулку. Хотя обычно он имел привычку докладываться жене про то, куда направляется.
Пани с ее критическим умом показалось это странным. Взяв маленького сына на руки, а девочек-подростков за руки, она тихонько увязалась следом. Так они дошли до Кирочного парка. Где уже бушевала стачка рабочих. Многочисленную толпу окружали не менее многочисленные зеваки, многие из которых тоже были интеллигентами. К ней и прикорнул отец семейства, встав в самом конце. Держа под мышкой портфель, он поправил на носу очки, вытер лоб платком и принялся вытягивать голову. – Роман!.. – внушительно сказала у него под ухом жена. Обернувшись, господин Роман Олешко с ужасом посмотрел куда-то поверх ее головы и, оттолкнув ее и девочек вбок, прикрыл их спиной. И в самый раз. Нагайка с металлическим кругом на конце угодила только в него. Это полицейские в голубых мундирах и на конях, рубя направо и налево нагайками, стремительно заливали толпу.
Спустя несколько месяцев в том же 1909 году отец семейства скончался от опухоли почки, которая развилась от удара. Пани же всю оставшуюся жизнь потом сердито твердила: – Ну зачем же, зачем же надо было быть таким ротозеем! Какой он был подлец – оставил меня в такой стране одну!
Оно и понятно, ей пришлось поднимать семью в одиночку. Она даже платила за съемную квартиру, поскольку приезжий инженер не успел обзавестись своей.
Поэтому когда в дом явился высокий светловолосый красавец-юнкер и, представившись женихом ее старшей дочери Марии, попросил ее руки, пани резко сказала, что свадьбы не бывать. Поскольку нет приданого. На что юнкер возразил, что отсутствие приданного для него не помеха, что родители его, имевшие в Витебской губернии большое имение, благословение которых он уже получил, напротив, обещали сами прислать довольно внушительную сумму к свадьбе. Он только что окончил университет и должен теперь дополнить свое образование – военным. А поскольку с детства он как дворянин был приписан к Цициановскому полку, а тот дислацировался на Кавказе, то решено было продолжить учебу в Тифлисе.
Юноша искренне поведал и о том, что родители были даже рады, что он оказался в Тифлисской губернии, они надеялись, что он тут, обретая самостоятельность, подзагорит и наберется витаминов на всю будущую жизнь в туманной столице. Поскольку он надеялся со временем обосноваться в Петербурге.
Тогда пани выдвинула условие – свадьбе быть только после того, как юнкер через три года наденет офицерские погоны. А до той поры пусть изволит помогать их семье денежно, пусть выплачивает нечто вроде ежемесячного пособия. Чем и докажет – собственную серьезность и дельность. Встречаться же с дочерью можно будет у них дома. Тем более, что на тот момент будущей супруге было всего пятнадцать лет. Жених же был старше той лет на восемь.
Хитрая была пани.
Но юнкер, не раздумывая, принял это предложение. И, видимо, как-то сумел обосновать сию прихоть перед родней.
Три года пролетели как в сказке. Выкуп был выплачен, свадьба сыграна и в 1913 году тетя Мария покинула материнский кров.
Поначалу юная чета отправилась в городок Сарыкамыш Карской области Российской империи, где и стоял на тот момент 156-й пехотный Елисаветпольский полк имени генерала князя Цицианова. Там Александра Григорьевича Ипатова – так звали молодого офицера – поначалу назначили заведовать лошадьми. И он так истово исполнял служебные обязанности, что когда однажды тетя, приносившая обед в конюшню, разглядев в углу кусок отменной веревки, шепнула мужу, что неплохо бы было приобщить ее к личному хозяйству, муж с возмущением воскликнул: «Неужели ты могла подумать, что я, русский офицер, могу стать вором?!. Сходи в москательную лавку!»
Позже он принял в декабре 1914 – январе 1915 годах участие в героической обороне этого населенного пункта от турецких войск. Это закончившееся русской победой сражение по стойкости и героизму, а также тяжелым потерям с обеих сторон историки называют одним из решающих в ходе Первой мировой войны. Не удержи они тогда Сарыкамыш, Турция могла овладеть Карсом, дойти до Тифлиса и захватить весь Кавказ. Тетя же, окончившая с началом войны курсы сестер милосердия, помогала раненым. Среди них был и муж. Его потом переправили в тифлисский госпиталь, и ей довелось повидаться с родней.
Вскоре блестящего офицера и специалиста, повысив в звании, назначили помощником военного атташе при Русской Миссии в Тегеране. Ведь Александр Григорьевич знал несколько европейских языков и самостоятельно выучил фарси.
Но и эта чета была разлучена.
Случилась революция – сначала февральская, потом октябрьская – и глава семьи был убит.
Причем, тоже совершенно невинно, тоже, казалось бы, из-за пустяка.
И поначалу тетя долго верила, что так не бывает. Что этого просто не может быть, ведь тут просто ошибка.
Просто когда они возвращались через несколько лет после Октябрьского переворота в Россию, потому что Русская миссия, оказавшись в невольной эмиграции, фактически, бездействовала, а Александр Григорьевич рвался в Петроград, в гущу событий, так как сочувствовал большевикам, – он даже пытался помочь, когда русские дипломаты из-за политической чехарды на одно время перебазировались в Красноводск, организовать побег двадцати шести бакинским комиссарам, заготавливая для них лодки – ей вздумалось сначала заехать в Тифлис. Душа была не на месте, так хотелось опять проведать родных, ведь теперь от них не доходили вести. По словам тети, сам шах уговаривал их не возвращаться. Они могли бы остаться жить в Персии, могли бы уехать в Париж. Но Александр Григорьевич твердо отвечал: «Я – русский! И мое место сейчас – в России!».
Добравшись по Каспию до Баку, неся среди поклажи кадку с мандариновым деревом, подаренным напоследок самим персидским шахом, с придворными которого Александр Григорьевич, бывало, обедал, а после все они иногда устраивали поездку к морю и плавали на фелюгах, они сошли с парохода.
Мандариновое дерево пришлось выкинуть прямо в прибрежные волны. В Баку свирепствовал тиф и кадку с ним дальше берега не пропустили из-за карантина.
Приняли решение пробираться в Тифлис через Гянджу. Добрались туда с какими-то попутчиками на подводе.
А там, на вокзале, первый же красноармейский патруль, увидев офицера, взял его под арест. Погоны они тут же сорвали, а даму при этом небрежно отстранили локтями, хотя та тоже рвалась за супругом. Да еще и скрутили ему руки за спину, когда тот попытался ими размахивать. Сейчас это кажется странным, но по свойственному ему чистосердечию он въехал во владения большевиков в форме царского офицера. Быть в форме, в которой присягал на верность Отечеству, казалось ему естественным.
Александра Григорьевича отправили обратно в Баку и заключили в острог на острове Наргин.
Разве могли они знать, что незадолго до этого в Гяндже был подавлен мятеж, организованный кадровыми военными, в основном офицерами-азербайджанцами. Среди них были и русские. Поэтому пойманный офицер сразу попал под подозрение.
Это был переоборудованный чекистами в тюрьму бывший лагерь для турецких военнопленных. Сбежать оттуда было невозможно. Крошечный – всего в три километра – остров омывался со всех сторон Каспийским морем. Причем, территорию с тюремными постройками отделяла от воды только узкая прибрежная полоса. И на ней почти по всему периметру острога сидели родственники заключенных.
Тетя Мария тоже вернулась в Баку.
И потекли долгие дни неизвестности.
Каждый день тетя писала письма: одно – мужу, а другое – следователю, перечисляя одно и то же: простые бесхитростные события, дни безмятежного счастья, всю жизнь любимого, бесконечно благородного существа, которая проходила – вся – на ее глазах. Объясняла, что… ну не мог он быть членом антисоветского заговора. Попросту потому что они после революции не разлучались ни на минуту. И потом – ведь муж революцию любил.
День за днем в сторону острова Наргин – он располагался в десяти километрах южнее столицы – шли подводы, а затем и баржи с родственниками заключенных.
Каждый день тетя Мария, переночевав где придется, тоже проделывала этот путь, подходила к зданию тюрьмы и вставала в серую очередь к окошку, куда передавала письма и скудную передачу.
Иногда получала письмо от мужа и тут же жадно впивалась взглядом в строки.
Потом выходила во двор и вступала в круг сидящих прямо на усыпанной гравием земле других женщин – чьих-то жен, матерей, дочерей. Все эти женщины, каждая из которых была погружена в себя, в какую-то глубоко свою, отчаянную думу, казались монументом. Да и весь мир – он внезапно окаменел. И как бы – уже покрылся бронзовой пылью истории. Можно было биться об него головой, можно было сиро глядеть себе под ноги, где под исчезнувшей опорой дымилась собственная потухающая жизнь. Суть дела от этого не менялась. Через равные, а иногда и неравные промежутки времени – где-то там, во дворе тюрьмы – сухо расписывались выстрелами на телах их родных творцы нового мира. Каждая из них, как ни сдерживали они, окаменев, слезы, все равно вздрагивала при этих звуках, выйдя на секунду из оцепенения. Каждая думала – уже без слов – сокрыв свою думу глубоко в сердце даже от собственных, не говоря уже о посторонних – глаз: «Не мой ли это?..».
Но некоторые из женщин молились. Для них молитва была действительно опиумом. Плюс некое подобие опоры в виде надежды на загробную жизнь удерживало их от помешательства.
Как-то тетя Мария услышала краем уха, что тела расстрелянных и умерших от тифа, пыток и недоедания свозят на самую верхнюю часть острова, где вырыт гигантский котлован. Там их сбрасывают, присыпают известью, тонким слоем земли и ждут новую партию.
Потом все повторяется заново.
Порой земля шевелится. Кое-где слышны стоны. Это мечутся в предсмертном бреду случайно недобитые.
А для еще более масштабных расстрелов была припасен другой котлован – он находился на соседнем острове Песчаный. Заключенных переправляли туда на баржах. И туда уже никого не пускали.
В один из таких тягучих, однообразных дней чья-то рука опять механично протянула ей из окошка сложенный лист бумаги. Письмо!.. От Александра Григорьевича!..
А вдруг он уже лежит, оприходованный, в общей яме?..
Она еще не знала, что это письмо окажется последним.
То письмо тетя Мария, которая больше никогда не вышла замуж, хранила
всю жизнь.
Все они видели этот пожелтевший лист бумаги, исписанные неровным мелким почерком, некоторые слова на котором стали от времени неразборчивы, много раз. Тетя Лили каждый раз доставала его из особого ящика в столе, разворачивала прямо в воздухе и принималась читать. Голос ее становился совсем молодым, потому что в нем никогда не высыхали слезы. В нем рокотал протест, лилось недоумение. Жалость с умилением – была тому опорой. Все это так и кипело, грозясь перешагнуть даже через край жизни.
Александр Григорьевич, казалось, писал по воздуху прямо сейчас:
«Милая и дорогая Маруся!
Я живу пока благополучно, очень тебе благодарен за все то, что ты делаешь для меня в такой длинный период времени. Мне одно хотелось бы – хотя бы еще раз увидеться с тобой – но это так трудно, что я не советую тебе обращаться за пропуском для свидания. (Далее неразборчиво)…. несколькими словами как этим письмом.
Ввиду разных осложнений или я, возможно, буду осужден на срок, а то в худшем случае и навсегда со свету, ты особенно не беспокойся и береги лишь себя, а моя судьба вся от Бога! Двум смертям не бывать. Тебе же советую уехать по возможности скорее домой – устроиться дома и жить спокойно. При такой дороговизне уже при наших средствах очень трудно и невозможны никакие помощи. Пока я живу, и думаю, что хотя я и в тюрьме, все же меня кормят с грехом пополам, а как-то тебе, я и представить себе не могу.
Мне очень грустно, что ты так скучаешь, беспокоишься. Милая моя деточка, старайся лучше жить дома.
Если тебя интересует моя судьба, ты тогда все же… (Неразборчиво)… лишь бы я не был перед тобой виноват… (Неразборчиво)… нигде нельзя сверить точного времен…(Неразборчиво)… может быть, просижу долго, что для меня лучше, чем смерть.
Обязательно напиши мне, когда ты уедешь. Можешь принести мне кусок… (Неразборчиво)… около одиннадцати часов и дать мне с письмом?
(Неразборчиво) … будешь знать – нахожусь в тюрьме. Если можешь, то привези мне 2 пары белья, больше ничего не нужно, и то не передавай, пока не узнаешь, что я жив и в тюрьме, а то пропадет. Хорошо было бы, если бы хотя бы меня осудили, а то так – на нервах отражается.
Маруся, деточка, ты очень много расходуешь на посылки, я тебе всегда об этом писал, ведь ты каждый раз, когда свободна… (Неразборчиво)… можешь в любое время принести и дать мне знать о своем отъезде. Желаю тебе всего хорошего, большого счастья. Кланяйся всем моим. Не беспокойся, береги главное свое здоровье. Никто тебе в жизни не поможет, если сама не будешь себя беречь.
Целую тебя крепко-крепко и прости меня за все. Будь здорова и счастлива.
Целую крепко.
Твой Саша».
Закончив чтение, тетя Лили, у которой глаза, которые часто наливались слезами, были сейчас совсем распахнутыми, беспомощно сказала:
– Ну, вот и еще одна жизнь в нашем роду была жестоко оборвана революцией. Хоть дядя Саша и не был моим кровным родственником, но для меня он – все равно наш!
Она развела руками, как крыльями, словно большая неведомая птица, запутавшаяся в каких-то силках, забрала из воздуха лист и бережно отправила обратно в ящик.
Оттуда же она извлекла старинную шкатулку. А из нее – какое-то сияние тихо перешло в ладонь.
– Людмилочка! – сказала тетя Лили как можно торжественней. Стараясь твердостью в голосе отогнать только что пережитое. – Эти сережки подарил моей тете Марии в день свадьбы ее Александр Григорьевич. Ты знаешь, она тоже потом жила как монахиня. Она больше не вышла никогда замуж. И, знаешь, старалась каждое воскресенье подниматься в церковь Давида на Мтацминде. Оставаться в Баку дольше она тогда действительно не могла и, видимо, передав для мужа все, что он просил, последовала его совету. Вернувшись в Тифлис, где у нее был на Авлабаре дом, купленный для нее мужем, где и жила на тот момент ее родня, тетя целиком посвятила себя уходу за матерью, сестрой, братом. Она даже усыновила внебрачного сына моего отца, родившегося от гулящей женщины, когда тому было семнадцать лет. А заодно – тетя забрала из детдома, куда отдали детей после смерти матери, и его младшего брата, отец которого был неизвестен. А там, когда брат женился на моей маме – простой селянке из Манглиси, – и мои родители, перебравшись в отдельную квартиру, едва концы сводили с концами, упросила их, чтобы они отдали ей на воспитание меня, старшую дочь. Потому что у тех только что родилась еще одна девочка. Тетя меня и воспитала. И знаешь, деточка, воспитала очень хорошо. Я не хвалюсь. Но тетя сама говорила, что я не доставляла ей никаких хлопот… А теперь, знаешь ли, мне скоро умирать и не хочется, чтобы эта семейная реликвия сгнила вместе со мной в земле или попала в чьи-то равнодушные руки. Я хочу подарить эти серьги тебе. – Мне?!. Что вы, тетя Лили, нам этого нельзя! Мы даем обет бедности. – Это, деточка, не богатство, а – свет.
Вытерев глаза, тетя Лили подытожила, стараясь говорить суше, чтобы совсем не расстроиться.
– Позже, когда тетя написала в Кремль письмо с просьбой сообщить ей о местонахождении мужа, из местного ВЧК пришел ответ, что Ипатов Александр Григорьевич был расстрелян за участие в контрреволюционном заговоре. Приговор был приведен в исполнение в 1921 году. На письме же Ипатова к супруге значилась указанная его рукой дата – 26 августа 1920 года. В этот день – тоже 26 августа, но год спустя – тоже за участие в заговоре – он известен теперь всем историкам и знатокам русской литературы как «Дело Таганцева» – в Петрограде был расстрелян поэт Николай Гумилев. Считается, что это было одно из первых дел, с которого начались массовые расстрелы в отношении дворянской интеллигенции. Хотя на том же Наргине такие расстрелы были уже давно поставлены на поток. Примечательно, что в этот же месяц и год Россия похоронила Блока.
5
Бумаги. Бумаги. Бумаги.
Поворот налево, поворот направо. Окошко под одним номером. Окошко – под другим. За каждым из них сидят похожие на изваяния люди. Они глядят в компьютеры, стараясь не глядеть на посетителей. Понять их можно – посетители проходят здесь валом и, если, встретившись раз с ними глазами, не отвести мгновенно взгляда, каждый из них станет как бы братом. И совестно будет не разбиться ради его дела в лепешку. Сердца же на всех не хватает, ох не хватает. Раз дело поставлено на поток. Вот и мелькают взад – вперед тела. И человек в окошке тоже старательно ведет себя как тело. Да он и действительно сейчас – только тело. Человеком он становится только перед лицом другого человека. Только когда обнимет его изнутри как друга.
– Здравствуйте!
– Здравствуйте.
– Как там наше дело?
– Какое дело?
– Дело о приватизации квартиры на имя моей матери. Вот справка. – Покажите доверенность.
– Пожалуйста.
– Хорошо. Подождите немного. Я узнаю пришел ли ответ… Да, ответ есть. Распишитесь.
– А не могли бы вы его мне прочитать?
– Минутку… Знаете, тут написано, что вам пока что отказано в оформлении и приватизации квартиры. Но вы можете в течение десяти дней обжаловать это решение.
– А где обжаловать?
– Не знаю. В суде, наверное
– Этого еще только нам не хватало!
– Там написано, что вам все равно придется обратиться в суд. Потому что имя вашего покойного отца «Сандро» не соответствует имени «Александр» в Протоколе заседания Совета народных депутатов Орджоникидзевского района Грузинской ССР от такого-то числа такого-то года. Имеются и другие несоответствия. Кто такая Валентина Майсурадзе? – Моя мать.
– В Свидетельстве о наследовании Валентины Майсурадзе, согласно которому ей передаются права на все движимое и недвижимое имущество супруга, указан в качестве наследодателя Александр Майсурадзе. А в Свидетельстве о смерти и Свидетельстве о браке данного господина – указано имя «Сандро».
– Да мы вообще не поймем, зачем понадобилась процедура наследования. Ведь у отца не было никакого движимого и недвижимого имущества. Что мы наследуем? Причем нотариус оценил сумму не существующего наследства аж в 25 000 лари. Из-за чего наша семья теперь считается хорошо обеспеченной. И ей не положены некоторые социальные льготы. – На кого был выписан ордер? Только на отца? – В утерянном ордере было указано, что на отца и членов его семьи – мать и дочь. Имя отца было указано, а наши с матерью имена – нет. – Тогда надо наследовать.
– Но что?!
– Право на наследство от отца. Поскольку государственные квартиры были подарены советским режимом при его распаде в собственность всем бывшим гражданам советского Союза. Но только тем, на чье имя был выписан ордер. Всем остальным это право – передается по наследству. – То есть мы должны сначала унаследовать недвижимость и только потом обратиться с просьбой передать ее нам в собственность? Какой-то абсурд. – Без этого передача собственности была бы невозможной. – По-моему, все это можно было сделать проще. Но тогда бы пострадала казна. Сколько выписывается в год таких свидетельств!.. Целая статья дохода.
– Кроме того, в документах Эрики Майсурадзе… кто такая Эрика Майсурадзе?.. тоже имеется несоответствие. В архивной Справке по Форме 16-17, где отражаются выписки из Домовой книги, указано, что ее отчество – Александровна. Тогда как ее настоящее отчество – Сандровна. – Но ведь это сам Дом Юстиции рекомендовал нам привести имя покойного отца в соответствие с его актовой записью о рождении! И привел его согласно нашему заявлению! Там же имеются справки о изменении имен и отчеств в наших личных документах.
– Этих справок недостаточно. Протокол на получение квартиры, заменяющий утерянный ордер и справки по Форме 16-17 на всех проживающих в данной квартире лиц должны быть теперь подтверждены в суде. Поскольку это правоустанавливающие документы. А несоответствие имен, отчеств и дат рождения в правоустанавливающих документах подтверждается только в суде.
– Час от часу не легче! Какие же это правоустанавливающие документы, если собственности еще нет? Точнее, собственность-то, наверное, все-таки имеется. Но только в виде потенции… А как же тогда… – Девушка, может быть хватит? Мы думаете, вы у меня одна? До свидания!
– Добрый день!
– Здравствуйте.
– Недавно мне пришлось еще раз пробежаться взглядом по Справке об изменении имени моего отца в моем Свидетельстве о рождении. И я заметила опечатку. Вместо дня моего рождения 5 июля, на одной из страниц указано «015». Это что – телефон экстренной службы? Исправьте, пожалуйста. Жаль, что девушка за стеклом при получении мною сего многостраничного документа сначала попросила расписаться за его получение, а выдала – уже потом.
– Это ничего. За исправление ошибок, допущенных Домом юстиции, вам платить не придется.
– Хоть одна хорошая новость. Тогда исправьте, пожалуйста, опечатку прямо сейчас. И распечатайте документ в трех экземплярах. – Увы, вторая новость плохая. Сначала я напишу с ваших слов заявление, а потом оно поднимется наверх – вы же знаете, мы только операторы, только посредники между заявителями и юристами, которые занимаются каждым конкретным вопросом персонально. Причем, мы даже не знаем их имен. А они сами – не знают, чей документ попадет им сегодня на стол. Все распределяет компьютер через систему номеров. Эти господа юристы находятся на втором этаже. Наш этаж может сообщаться с ними только по телефону. И то – только с сотрудниками-консультантами. – И когда же я получу cверху исправленную справку? – Увы, никогда. Именно в данную справку исправление уже внести задним числом не получится. Но вам выдадут еще одну справку. Где будет указано, что в прежней – имеется ошибка.
– Так получается, у меня теперь будет две справки, которые я должна буду всюду носить вместе со свидетельством о рождении? – Это небольшая одностраничная справка.
– Но за ее перевод на иные языки тоже придется платить! Тоже придется заверять перевод у нотариуса. Я вижу, что у вас тут свой маленький бизнес. – Я понимаю, вы устали. Поэтому не знаете что говорите. – Хорошо, а как мне быть с ошибкой в отчестве покойного отца? Кто мне ее подтвердит? Неужели только мой папа?
– Я переправлю вас в сектор «17». Там служба ЗАГСА. – Добрый день! Я хочу справку!.. О том, что в Свидетельстве о смерти и Свидетельстве о браке моего отца с моей матерью изменилось не только его имя, но и отчество. А также – что такая же метаморфоза с отчеством отца произошла и в моем Свидетельстве о рождения. Потому что отчество в актовой записи о рождении отца и в его паспортах отличалось одной начальной буквой. В актовой записи было указано «Бикторович», а в паспорте – «Викторович». Почему-то в справке об изменениях в данных отца ничего про это не сказано.
– Покажите справку…Ну что ж… Все понятно… В данной справке невозможно было отразить изменение в отчестве вашего покойного отца. Потому что отчества у в Грузии отменены.
– Но отчество-то все равно есть. И в советских документах оно тоже имелось. Как мне теперь подтверждать за границей тот факт, что мой отец Александр Викторович стал господином «Сандро, имя отца которого – Биктор». Как дословно впечатано в справку. Или вы считаете, что тамошние юристы не так хорошо видят?
– Я считаю, что у нас нет полномочий подтверждать ошибку в отчестве, раз в новых документах его нет.
– Где же ее можно подтвердить?
– Не знаю, наверное, в суде.
– Тогда дайте справку о том, что вы мне отказали. Чтобы я имела возможность обосновать свое обращение в суд. – А для чего вы собираетесь обратиться в суд за данной справкой? – Просто для того, чтобы у меня были правильные документы. – Это не основание для обращения в суд. Он может отклонить ваше заявление.
– Но почему?! А вдруг я захочу уехать?
– Вот когда захотите, тогда и появится юридически верное основание. Если вам дадут в Консульстве другого государства отказ на рассмотрение ваших документах из-за разночтений в отчестве отца. Советую вам заблаговременно разыскать актовую запись о рождении деда – она обязательно понадобится. – Уже разыскала. Точнее, узнала о невозможности ее разыскать. Так как архив 19 века села Схлити, в котором родился мой дед, проживший, кстати, по документам, 99 лет, был утерян. Но дедушку действительно звали Биктором. Имеется Свидетельство о смерти. Правда, есть одна маленькая неприятность. Раньше было принято указывать в актовых записях о рождении возраст родителей малыша. А дед был старше бабушки почти на 30 лет. Постеснялась бабушка разницы в возрасте и, видимо, упросила супруга соврать, будто ему на десяток меньше. Хочу предупредить об этом казусе заранее, а то мало ли что… Эту историю сохранило семейное предание. Впрочем, теперь уже я не ручаюсь за ее точность. Может дедушка соврал при получении паспорта, прибавив себе лишний десяток. Может, он не хотел идти на войну в составе советских оккупационных войск. – Какие-то вы все сказочники. – Простите, а как можно подтвердить то, что в одном документе в нашей фамилии «Майсурадзе» имелась опечатка. Русская буква «Й» была напечатана дважды. Точнее, ошибку уже исправили, о чем имеется соответствующая справка. Но в грузинском языке буква «Й» отсутствует. И переводчик, когда мне понадобилось перевести справку об этом исправлении, вынужден был перевести «Й» – краткое» как простое «И». Но в русском-то документе русский человек из какой-нибудь русскоязычной организации – все равно разглядит букву, которой нет. – Даже не знаю, что вам посоветовать. Может быть, вам стоит обратиться в Московский институт русского языка? В моей практике были прецеденты такого обращения за письменным подтверждением фонетических казусов.
– А как быть с разницей между местом Харагаули и поселком Орджоникидзе Харагаульского района Грузинской ССР, где родился отец? В Географическое общество Грузии, что ли, обращаться? Раз по мере того как круто менялась власть этот населенный пункт несколько раз изменил название?
– Да это всем и так понятно. Забейте на это.
– Но за границей нашу историю не преподают будущим консулам и нотариусам.
– Не знаю – не знаю. Кстати, а вы обратили внимание, что печать в вашем советском Свидетельстве о рождении совсем выцвела? Этот экземпляр уже потерял силу.
– Мое внимание уже обратили и на это. Но, к счастью, Дом юстиции уже заново зарегистрировал в Грузии и выписал мне новое свидетельство. Видимо, там, наверху, владеют техникой прочтения даже древних манускриптов. Но дубликат своего прежнего Свидетельства о рождении я на всякий случай все равно заказала через соответствующую службу. Правда, пакет с дубликатом из Узбекистана пока не пришел.
– Прошу вас посмотреть, не пришел ли еще ответ из Узбекистана на мое заявление. Мне должны были переслать дубликат Свидетельства о рождении. – Ответ сильно задерживается. Не знаем, по каким причинам. Честно говоря, он может вообще не прийти. Наши коллеги из Узбекистана такие не обязательные… Может у вас есть там родственники, которые смогут придти в архив ЗАГСА с вашей доверенностью и заказать дубликат на месте? Или, может, вы сможете съездить к ним в гости сами? – Да я была там только проездом. Когда еще сидела в животе мамы. Плюс еще трое суток после освобождения.
– Тогда – ждите. Может вам и повезет.
– Вот возьму и откажусь от этой чертовой приватизации! – Дело ваше. Но проживать в муниципальной квартире без правильных на нее документов вы все равно долго не сможете. На вас и так заведено административное дело о незаконном вселении. Оно приостановлено только до тех пор, пока вы не приостановите своих усилий доказать обратное. – Тогда выпишите всех нас – и дело с концом! Может быть, от этого всем сразу станет легче?
– Вообще-то сначала надо доказать сам факт прописки. – Получается, что если я захочу уехать, то не смогу… Неужели я не смогу уехать?!
6
Потрясающая духота. Весь город в точках. Из них создаются многоточия. Из многоточий – тучи. Из туч – тьма.
Эти точки – сжавшиеся Вселенные.
Каждый человек – это потенциальная Вселенная. Каждый человек – носит искру Творца.
Но почти каждый стал номером.
Каждый уснул в плоскости своего удостоверения личности.
И вот одна точка под зовом внутренней энергии творения все-таки сорвалась. Она взорвалась. И Вселенная вкруг нее распустилась, заиграла, возрадовалась. Но и загрустила великой болью, великой скорбью.
Итак, точка стала звездой. И заболела пушкинской тоской, пушкинским сумасшествием.
Когда б оставили меня
На воле, как бы резво я
Пустился в темный лес!
Я пел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду
Нестройных, чудных грез.
И я б заслушивался волн,
И я глядел бы, счастья полн,
В пустые небеса;
И силен, волен был бы я,
Как вихорь, роющий поля,
Ломающий леса.
Да вот беда: сойди с ума,
И страшен будешь как чума,
Как раз тебя запрут,
Посадят на цепь дурака
И сквозь решетку как зверка
Дразнить тебя придут.
Что-то подобное почувствовала сейчас Эрика, покинув дом правосудия. В этом здании словно сконцентрировалась мощь ядерного гриба, который еще не преодолел инерцию камня. Массивные крыши-глыбы вдавливали эту мощь в землю. Земля же проседала и, мелко дрожа, из-за всей силы сдерживала какой-то идущий изнутри гул.
Эрика была на стадии срыва, накануне взрыва. Пребывая, так сказать, в стадии свободного падения.
И что бы с ней было, если бы не Творец и его пламенные товарищи – Пушкин и Николоз.
Опять словно материализовался перед ней постамент с бюстом Пушкина и стал похож на смартфон, по экрану которого медленно проплывали вверх – строчкой за строчкой – имена ее виртуальных друзей, разбросанных по всей планете.
Среди этих имен она увидела имя «Николоз» и нажала на звонок. К счастью, он жил в Тбилиси.
– Здравствуй, Николоз! Ты сейчас где? Не мог бы ты приехать на площадь Свободы? Что-то я нехорошо себя чувствую.
И Николоз, конечно же, приехал.
Это был словно вылитый Николоз Бараташвили, умерший в лермонтовском возрасте поэт-романтик еще такого далекого от скоростного интернета девятнадцатого века – такой же черноглазый, со сросшимися на переносице густыми бровями, с непокорной челкой в волнистых каштановых волосах. С легкими быстрыми движениями, нежной улыбкой, веселым, ясным, ласковым взором. Добрым, благородным нравом. Тоже худощавый, тоже юный, хотя был старше своего тезки почти вдвое. Недавно этот нынешний Николоз вступил в еще один роковой для поэтов возраст – ему исполнилось тридцать семь.
Нет, он отнюдь не подражал знаменитому грузинскому поэту. Тот, наверное, даже не входил в круг его чтения. Но как только Николоз появился перед ней, как только они с ним расцеловались по принятому в Грузии обычаю, Эрика сразу ощутила «цвет небесный, синий цвет». Полюбившаяся Николозу с детства «синева иных начал» была так щедра, что распахивалась перед каждым, кто доверчиво вступал под ее сень. Эрика, взяв Николоза за руку, почувствовала прохладу родничка. Ее гнет и смятение тут же рассеялись.
Она могла бы сразу рассказать ему про то, как давило на нее правосудие, хотя она сама не совершила ни одного правонарушения. Но вместо этого Эрика, не выпуская ладони Николоза, просто рассмеялась, припомнив
рассказ тети Лили про то, как закончил свои дни на острове Наргин ее дядя Александр. Ее собственные треволнения показались в сравнении с этим совершенно незначительными. Дом Юстиции словно превратился из ядерного – в простой гриб, и, уменьшившись до своих естественных размеров, исчез в траве. Хотя и оставался по-прежнему ядовитым.
Так, смеясь неизвестно чему, они поднялись на проспект Руставели, дошли до Кашветской церкви, нырнули в переход и, переправившись на ту сторону, выпили по стаканчику лимонада в «Водах Лагидзе» и съели по мороженому. Потом вдруг ринулись бежать, несколько удивляя прохожих, почти что вскачь. И, добравшись, с несколькими передышками, до вагончиков фуникулера, вдруг запрыгнули в них, решив подняться в парк на Горе Мтацминда. Причем, им удалось уговорить сотрудников впустить их в вагончик без пластиковых карт, на покупку которых денег уже не осталось.
Мало помалу Эрика разговорилась и выложила на суд Николоза свое главное сомнение. Ведь Николоз был еще и философом – он закончил философско-богословский факультет в каком-то православном вузе.
– Понимаешь, я не знаю, как можно любить людей и при этом не осуждать их. Страшно признаться, но мне нравится Грузия – без грузин, Россия – без русских, Украина – без украинцев и, видимо, Европа – без европейцев. Наверное, это называется – Земля без людей?..
Они опять немного посмеялись.
Но улыбка Эрики выглядела слишком неуверенной, слишком грустной.
Николоз шутливо упал на траву, лег на нее лицом вниз и раскинул руки самолетом. Потом быстро перевернувшись, сел и протянув к ней руку, усадил рядом с собой.
– Понимаешь, ты путаешь вот эту вот Землю – с Новой Землей. Эту проблематику по-своему обозначил еще Кант. – Как это?
– А вот как!
Поднявшись, он поднял за руку и ее. Теперь они вновь стояли, соприкасаясь ладонями, на краю смотровой площадки, откуда был виден весь город. Но свободной рукой Николоз показывал не вниз, а прямо перед собой и немного вверх. Потом он очертил для пущей наглядности этой своей свободной рукой круг над их головами. Так, что Эрика вдруг почувствовала себя в центре шара.
Она с удивлением опять взглянула окрест. И, встретившись с внимательным, озорным взглядом своего спутника, выпустила из сердца, как из рук, какой-то старый, давно превратившийся в хлам груз.
Фух!… Как же она долго спала. Ее улыбка, наконец, тоже стала настоящей – такой же ясной, безмятежной, как у Николоза.
Синий небесный свет был у нее внутри. А если внутри, то и – повсюду. Люди и деревья, травы и цветы, крошечные здания внизу, носящиеся в воздухе стрижи, роящиеся мошки – все это стало удивительно красивым. Эрика смотрела на все это и не могла взять в толк, как она не замечала этого раньше.
– Стоп-стоп, – сказал Николоз и шутливо провел у нее перед глазами ладонью, как бы желая сменить кадр. – Ты можешь уклониться в другую крайность. Мы еще не на Новой Земле. Пока что ты только поставила ногу на следующую ступень лестницы, конец которой бесконечен. И на каждой ступени – своя мера Света. Каждая – отдельный мир, хоть и органически слитый с целым. Поскольку обителей, то есть миров в Царствии Божьем – наверное, не меньше, чем звезд на небе.
Эрика невольно вслушалась в долетавший до них говор других посетителей смотровой площадки. Большей частью это были иностранцы. Среди них была и русскоязычная женщина с ребенком. Малыш капризничал и женщина осаживала его скупыми, как бы глинистыми на ощупь, холодными словами.
– Мы еще не на Новой Земле, – продолжил свою мысль Николоз, подмигнув малышу, после чего тот стразу замолчал и уставился на него. – Хотя одновременно и на ней. Понимаешь, ты, как и большинство людей, путаешь реальное – с идеальным. А эта путаница – та еще штука. Из-за нее и возник весь тот сыр-бор, который мы называем – кто хаосом, а кто – злом. Думаешь, что проповедовал змий нашим предкам в Раю? Землю реальную. Оторвавшуюся от небес. Землю бескрылую. Землю унылую. Землю – с рельефом вместо гор. И человека, оторвавшегося от Бога. Неполноту которого вдруг захотелось стыдливо прикрыть фиговым листом. Но самое печальное даже не в этом. Змий начал с того, что оторвал в нашем воображении Бога – от Бога.
– Ты хочешь сказать… Неужели и Бога – тоже два?.. – Как я люблю твою понятливость, милая Эрика! Ты всегда все схватываешь прямо на лету! Да, люди жестоко запутались. Очень часто они обращаются к Богу бескрылому. Богу – ветхому. Похожему на них самих. Который возвышается над ними ну точно как какой-нибудь крестный отец у мафиози, лишь благодаря силе, уму и могуществу. Вот этому-то не благому Богу и научил их поклоняться сам сатана.
– Все верно, Ника! Так было до тех пор, пока настоящий Бог, смилостивившись над ними, не явился во плоти, сидя на простом осле. Правда, большинство не узнало его. Так как давно забыло.– Более того, большинство по-прежнему принимает двух богов – истинного и ложного – за одного. Причудливо соединяя их богословским мостом, перекинутым к Новому Завету – напрямую из Ветхого. Тогда как на самом деле там нужен не мост, а лестница. Лестница, построенная по законам диалектического мышления. Поскольку все в мире развивается или деградирует по спирали – диалектически. И сам Христос без сомнения – был диалектиком.
– Вообще-то да. Он-то не зря говорил притчами. А люди!.. То есть мы. Вот что мы сделали хотя бы из его слов про то, что если тебя ударят по одной щеке, следует подставить и вторую? Мы решили быть настолько буквальными, что стыдливо отводим глаза, когда нас бьют. Да и за других вступиться не хотим. А Иисус-то всего лишь хотел сказать, что нужно быть великодушными. Иногда кажется, что лучше бы он с нами, дураками, обходился без притч.
– Да. Поэтому я и хочу сделать новый перевод Библии. Хочу перевести ее на язык современных понятий. Снабдив его соответствующими комментариями. Пускай истины этого древнего текста, написанного также и для будущего, дойдут, наконец, до наших современников в таком виде, какой оптимально соответствует их современному мировосприятию, с учетом сегодняшнего уровня развития. Честно говоря, я этим уже занимаюсь. Я начал, однако, сразу с Нового Завета, так как он является высшим Синтезом двух противостоящих друг другу религиозных систем – как бы тезиса и антитезиса – в виде политеизма и монотеизма. Эти системы наиболее ярко в те времена и на той территории проявили себя в вероучениях и образе жизни язычников и иудеев. И Ветхий Завет тут имеет лишь переходное значение. Он – всего лишь Антитезис. Печать же непонимания священных текстов снимается Св. Духом. Не знаю справлюсь ли я с Божьей помощью с такой задачей, но – поле для деятельности тут необозримое. Тут необходим парадигмальный подход. Все человечество до прихода Иисуса билось, как в тисках, в парадигме ветхого мышления, ветхой веры. Даже праведники были от этого несвободны и руководствовались в поступках и писаниях некоторыми понятиями своего века. Поэтому и Новый Завет часто понимался на протяжении веков тоже через призму прежних установок. Эту традицию пытались прервать гностики и особенно Маркион, но и они многое поняли не так. Нужно, наконец, избавиться от то и дело всплывающих по инерции из коллективного бессознательного прежних богословских установок. И взглянуть на то, что донес Иисус через свое Слово – совершенно без предубеждений. Увидеть сказанное – другими глазами. По правде говоря, если бы христиане с самого начала опирались на один только Новый Завет, благоговейно оставив Ветхий Завет на полке с первым букварем – ибо тот был только детоводителем ко Христу – христианство бы от этого только выиграло. Бог иудеев – был еще слишком иудей. Конечно, он уже лучше беспринципных греческих богов, над которыми, любя, по-своему потешались даже люди, что засвидетельствовано в эпосе Гомера. И все же, все же, все же…
Эрика, глядя во все глаза на Николоза, который, посерьезнев, задумчиво всматривался сейчас как бы внутрь себя, вдруг выпалила:– И тогда все в наших головах, наконец, встанет на свои места. Потому что Бог предлагает нам только самое лучшее. Истина – проста, полезна и красива. Она просто прекрасна. И только этим и заслуживает нашего внимания. Она не навязывается как скучная дидактическая правда этого самого второго… который как бы другой Бог. Взять хотя бы заповедь «Не сотвори прелюбы!» – как истолковывает ее Христос. Помнишь, как он ответил на вопрос можно ли разводиться? Дескать, и вовсе не разводись, кроме как если была измена. А если ты прикоснулся к другой женщине хотя бы мысленно – то ты уже прелюбодей.
Эрика смутилась.
Но Николоз, бегло одарив ее улыбкой, казалось, не заметил этого смущения. Он стал с жаром развивать ее мысль:
– Ну и как прочитать эти слова без предварительной установки, которую внушил нам социум? Церковь заботится о недопустимости разводов. А Иисус заботился – о любви. Он говорил всего лишь о том, что настоящая любовь между мужчиной и женщиной может быть только единственной. И верность – ее органичное свойство. А когда любви нет, то – нет и верности. А если нет верности, то – нет и брака. Если же нет брака, то – имеет место развод, даже если двое продолжают по инерции жить вместе. Слова «и вовсе не разводись» не означают: «Не разводись никогда». Иисус говорил, что настоящая любовь – вечная. Но если мы ей изменяем, то смысла в браке нет.
7
Ветер крепчал. В сильных лучах солнца желтела поднятая им пыль. В этой песчано-глинистой пыли словно вырисовался перед пылким воображением Эрики бараташвилевский храм в песках. Найденный поэтом после жестоких разочарований. Тот так не нашел отклика у любимой женщины, казавшейся ему единственной родной душой. В чьих глазах он только и видел отражение горнего света.
А еще он видел это отражение в Родине, которой поклонялся столь же рыцарственно.
Я храм нашел в песках. Средь тьмы
Лампада вечная мерцала,
Неслись Давидовы псалмы,
И били ангелы в кимвалы.
Там отрясал я прах от ног
И отдыхал душой разбитой.
Лампады кроткий огонек
Бросал дрожащий свет на плиты.
Жрецом и жертвой был я сам.
В том тихом храме средь пустыни
Курил я в сердце фимиам
Любви – единственной святыне.
И что же, – в несколько минут
Исчезли зданье и ступени,
Как будто мой святой приют
Был сном или обманом зренья.
Где основанье, где престол,
Где кровельных обломков куча?
Он целым под землю ушел,
Житейской пошлостью наскуча.
Не возведет на этот раз
Моя любовь другого крова.
Где прах бы я от ног отряс
И тихо помолился снова.
Двинувшись к тропе, ведущей к спуску, Эрика с Николозом, не сговариваясь, приостановились рядом с молчаливо разглядывающим их малышом и, заискрившись улыбками, приветливо замахали руками. А Эрика даже погладила того по голове.
Потом их дискуссия долго еще крутилась вокруг проблем педагогики. Николоз с жаром доказывал, что те христиане, которые по-прежнему желают обходиться без лестницы, держась за ветхую букву, являются ревностными поклонниками другого бога в первую очередь в области педагогики. В то время когда передовая педагогика как синтез науки и практики давно уже стала гуманной, такие псевдохристиане уперто цитируют апостола Павла, его Послание к евреям: «Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает». Опять-таки, даже такой образованный апостол все равно еще пользовался некоторыми понятиями и предрассудками своего времени, к тому же он, как и Моисей, старался в своих беседах с наиболее твердолобыми из новообращенных учеников – самими иудеями – говорить на понятном тем образном языке. Ясное же дело, что тут не идет речь о физических наказаниях. Несомненно, что мир, созданный нашим Богом, был великолепным. И если люди, оторвавшись от него, принялись строить другой мир, строить в отрыве от Творца, то есть бескрыло, то – святая указка нашего великого Педагога, которая радостно скользила по карте живого Мира – превратилась в их руках в палку для наказаний. Но разве Христос не переломил собственной крестной смертью все эти летящие в него палки, камни и копья? Как можем мы по-прежнему брать их в руки кроме как с целью защитить жизнь?
Заповедь же «Почитай отца и мать», по убеждению Николоза, является только тезисом диады. Антитезис гласит: «Родители, не раздражайте детей ваших». Но тезис и антитезис – это только одна из ступеней в лестнице. Никак нельзя на ней останавливаться! Истина приближается на новом витке, с каждой новой ступенькой. Но обретается, только вверху. Она не смешивает оба начала, но беря из них лучшее, преобразует в нечто новое, превосходное. Синтезом в данном случае, как впрочем, и во всех других случаях на самой вершине лестницы является Любовь. Которая не превозносится, не ищет своего.
– Так это без Любви все распадается на пары противоположностей? – Да, синтез достигается только в Любви. А она – дар Свыше. Даруемый через нисхождение Св. Духа. Эта всеобъемлющая Любовь является на каждой ступени лестницы по-своему, снисходя к нашей малости.
– А как можно почитать родителей-пьяниц, родителей-насильников, родителей, которые тебя бросили? Или может быть даже домогались, ведь бывает и такое? – cпросила Эрика.
– А вот это – вопрос, на который ты, милая Эрика, сегодня уже ответила. Хотя может быть и не соотнесла свой ответ с данной конкретной заповедью. Запомни, пожалуйста, запомни навсегда, твердо веруй: существует мир реальный и мир идеальный. Причем, идеальный мир и есть наш реальный мир. А то, что мы принимаем за реальность – лишь временные случайные черты, которые когда-нибудь сотрутся. И мы увидим – мир прекрасен. Поэтому во всех людях, большинство из которых являются чьими-то детьми и родителями – следует почитать эту истинную идеальную основу. Любить, как говорила Марина Цветаева, человека таким, каким его задумал Бог, но не осуществили родители.
– А как же любить волков, питающихся агнцами? Я имею ввиду не волков в агничьих шкурах, а реальных зверей. Кто создал хищников? Тоже тот, который второй?
– Несомненно. Я твердо верю в пророчество Исайи. Когда случайные черты сотрутся, «волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их».
– Между прочим, я читала, что, быть может, некогда на Земле существовала цивилизация людей, которые видоизменили растительный и животный мир по собственному произволу. Вроде бы это они внесли в природу хищничество, вмешавшись в генетические коды. – Скорее всего, это сюжет для фантастики. Но чем черт не шутит. – А еще я думаю, что, быть может, время многовариантно и быть может Земля с Эдемом и Земля после грехопадения находятся в параллельных пространствах и между ними существует портал. Вот только пройти сквозь него могут только чистые сердцем. Не обремененные ничем лишним. Такая картинка стала вырисовываться у меня после прочтения книг писателя-фантаста Владислава Крапивина. Ведь Вселенная по Крапивину представляет собой Великий Кристалл. А всевозможные миры – только его грани. Перемещаться по ним могут только те, кто сохранил в себе детство в евангельском смысле. И знаешь, Ника, намерение одного чистого сердца может изменить даже прошлое. Потому как прошлое, настоящее и будущее – они как бы всегда здесь и сейчас.
– Вот Иисус и изменил Вселенную. Давай только не забывать, что нет под небом другого Имени, которым можно бы было спастись. Только храня Его в нашем сердце как знамя можно жить здесь или там. Без Него наше сердце не очистится.
Спустившись с вершины Горы к ее подножию – в узкие гористые улицы со старинными домами и зданиями, которые были здесь тихи, хотя и несли свою неспешную жизнь рядом с проспектом, – они продолжали увлеченно обсуждать свои сегодняшние открытия.
В некоторых окнах можно было увидеть флаг Украины. А из одного двора вылетела шумная ватага детворы и принялась делиться на команды. Кто-то звонко выкрикнул, что он – за Зеленского. И тут же нашелся оппонент, выпаливший со смешком, после некой заминки, что он согласен быть Путиным. Компания вмиг разделилась на две команды и принялась воевать с помощью игрушечных пистолетов. Те же, у кого же их не было, были вооружены самодельными дубинами из старательно обструганных веток.
– Да уж… У детей чувство юмора не иссякает никогда, – промолвил Николоз. – Ты полагаешь, что их забава так уж невинна? – Во всяком случае, они отчетливо чувствуют, что что-то в этой войне не так. Какая-то она не натуральная, постановочная. Я так пока и не понял, кто за нею стоит. Пока Восток и Запад, так называемые великие державы проводят свои границы, делят влияние, быть может, какая-то третья сила является их кукловодом.
– Этой третьей силой может быть только так называемый другой бог. – Но он всегда опирается на людей. Наверняка за всем этим стоят планы неких современных преемников иезуитов по уменьшению численности населения планеты. А это значит, что войны и эпидемии будут только множиться. И все идет к тому, что когда-нибудь во имя всеобщего мира будет создан новый мировой порядок во главе с мировым правительством. Будет ли он лучше войны всех против всех? Хотя не ручаюсь за правильность этих выводов. Опять-таки, когда нет всеобъемлющей Любви, все распадается на пары противоположностей и вступает в борьбу. А потом – скатывается во вражду. Люди борются то с миром, то с собой. Те же, кто желает сохранить в себе лучшее – убивают мир в себе, отсюда – нервные болезни. Все мы мечемся между самыми разными крайностями. И только Св. Дух может опять объединять, опять избавлять, возвращать цельность. – Но ведь развитие все равно предполагает борьбу. Хотя бы борьбу за лучшее будущее. Или я чего-то не так поняла?
– Да, в мире после грехопадения за все приходится бороться. Идеальный мир не взять без борьбы. Но борьбы – благородной, по всем правилам чести. Борясь за свои идеалы так, как это делал Спаситель. Единственная допустимая честная и благородная борьба – это борьба за ценности, завещанные нам Христом. Но самое главное, за что заповедал бороться сам Христос – это за то, чтобы мы проповедовали о нем самом: разносили бы во все концы света благую весть о его рождении, жизни, смерти, воскресении. О его учении, о его Имени. О спасительной силе этого Имени. И о том, что спасать только самих себя -мало, надобно – нести весть о спасении другим. – А за что же боролись или, быть может, борются и сейчас – раз уж прошлое и будущее едины – люди, живущие в Эдеме? – Сейчас-то они борются за нас, стараясь нам помочь из всех своих сил. А раньше они просто играли… Да, наверное, они, радуясь, играли!.. А может быть, и сейчас играют в какую-нибудь благородную Игру.
– Жалко людей. Жалко их, Ника. Многие просто ткут свои тусклые дни совсем как пауки. И добыча их так же жалка. Бедные эти операторы за компьютерами Дома юстиции, как бездарно пролетают их дни. – Ну не скажи, что бы было с нами в столь падшем мире, если бы не учет и контроль. Разбойник на разбойнике бы сидел и разбойником погонял. А вот то, что тебе стало их жалко – это хорошо! Есть повод для того, чтобы стать для них – педагогом.
– Мне?! Педагогом?!
– Ну да. У тебя и диплом соответствующий. Подумай, чем занимался Иисус на Земле. Именно педагогикой! Он перевоспитывал грешников. А праведников – просто воспитывал.
– Да… Но!.. Хотя впрочем…
– И я бы посоветовал тебе начать воспитательный процесс с министерств и ведомств, ответственных за принятие законов. Взять под педагогическое крыло – журналистов, депутатов. Ты можешь запечатлеть свои мытарства на бумаге. А я – дополню их своими соображениями по реформе законодательства и мы попробуем заинтересовать общественность. Смотри что тут можно сделать – депутаты могут инициировать закон, по которому материальная ответственность за ошибки в документации ложится на юридические службы. И расходы гражданина по их исправлению – включая заверение и перевод у нотариусов разнообразной документации, а также ее возможное доказательство в суде – тоже должны оплачивать соответствующие юридические структуры. Частично компенсируя их из зарплаты допустивших их служащих. Если же ошибка была совершенна в далеком прошлом – придется компенсировать за счет госбюджета. Предусмотреть в бюджете специальную статью расходов под это дело. И даже выдавать гражданам, нуждающимся в исправлении документации, беспроцентный кредит, который потом погасит само государство, когда клиент предоставит подтвержденную платежными документами смету своих расходов. Поверь, после этого ошибки в таких документах станут нонсенсом. – Как мудро, Ника. Вот только где у государства деньги на еще одну статью расходов. Если люди не смогли довольствоваться разумной плановой экономикой и опять скатились к частной собственности, опять предпочти серфинг на волнах экономических кризисов. И похоже что государство только радо пополнять прорехи в казне за счет пошлины с моей беготни по бумажным коридорам.
– Но достижения-то есть и у капиталистического общества. Мы можем вооружиться его способностью к самоорганизации. – А как ты думаешь, Ника, Маркс совсем был не прав? – Ну, как тебе сказать. Перевернутый, поставленный с ног на голову мир, который сама Библия называет падшим, действительно руководствуется самыми низменными, чисто экономическими интересами. Потому как вожделеющее и страстное начала душ большинства людей – берут вверх над их разумной частью. Это если прибегнуть к объяснению процесса исходя из трехчастного деления души по Платону. И вот этот практически обезбоженный мир, прикрывающий наготу фиговым листком внешних религий, Маркс описал превосходно. Он ошибся только в сроках падения капитализма, не учел его великой способности к мимикрии. Эта мимикрия в виде мелкобуржуазной психологии успешно встроилась даже в советского человека, буквально въелась в него. Да иначе и быть не могло. Раз Маркс, увидев перевернутый мир в его истинном свете, не догадался поставить его на место. А место мира – только под Богом. Сама подумай, за что сейчас борются, дойдя почти до прямого ядерного столкновения, такие акулы капитализма как США и Западная Европа с одной стороны, и вновь пытающаяся стать акулой Российская Федерация? За постсоветское пространство как за колонии. Они могут достаться или одной стороне, или – другой. Россия пытается не упустить своего. Понять ее можно. Но не простить. Потому что хватит уже оставаться христианской страной чисто номинально. Хватит гнаться за новомодными технологиями эксплуатации человека, которые становятся все более хитрыми, тонкими.
8
Долго они шли, опять взявшись за руки, по новой Земле. Шли, как ее хозяева, лаская взорами синь неба в хлопающей листве платанов. Проницая лучистыми взорами хлопающих глазами людей. Обнимая взорами – все без изъяна. Чувствуя себя педагогами, призванными раскрыть в человеке – человека. И сделать Землю гуманной, святой.
И опять возник перед внутренним взором Эрики – Храм. Он, прозрачный, покачивался прямо в воздухе. А может быть он и состоял из воздуха и тонкого прозрачного пламени – то белого, то золотого, то – зеленого. Они с Николозом незаметно оказались внутри него как под сенью раскидистых платанов и пошли, не прерывая беседы, как по проспекту. По прежнему с одной стороны струилась дорога с проплывающими по ней синими автобумами, а с другой – уносились за спины величественные здания. И шли навстречу, как бы на ощупь, какие-то очень неуверенные, потерявшиеся в себе люди. Слепо озирались по сторонам. Маялись внутри самих себя, робко высматривая просвет наружу. Хотя снаружи казались – просто замкнутыми, усталыми. Искали выход там, где выхода нет – не внутри, а снаружи. Вдруг взглянув искоса на Николоза, Эрика увидела, что тот тоже был сейчас человеком и – одновременно храмом. Захотелось прислониться, прильнуть к нему.
Похоже, что те же чувства испытывал и Николоз. Приостановившись, он тоже пристально взглянул на Эрику. И, озадаченный, отступив на шаг, неуверенно улыбнулся.
Эрика же процитировала начало бараташвилевского «Мерани»:
Без дорог и троп звездный твой галоп, мой Мерани, Ворон каркать стал, но от нас отстал за горами.
В этот момент они проходили возле знаменитой первой мужской тифлисской гимназии – ныне это была просто школа под номером один, – в стенах которой и учился некогда поэт. Прах которого покоился в пантеоне писателей и общественных деятелей на Мтацминде. Но сейчас перед школой, которая располагалась у подножия Горы, на которой Бараташвили любил уединяться, дабы отрешиться от суетности, стояли лицами к проспекту на каменном постаменте два других великим грузинских поэта и общественных деятеля – Илья Чавчавадзе и Акакий Церетели.
Николоз задумчиво промолвил:
– Кажется, это стараниями праведного Ильи и были впервые напечатаны стихи Бараташвили? Ведь это ему передала бережно хранимую ею тетрадь женщина, ставшая бараташвилевской музой?.. Что скажешь, филолог? – Да, Бараташвили не печатался при жизни. Да и успел он написать всего тридцать шесть стихотворений и поэму «Судьбы Грузии». Кстати, поэма интересна тем, что в ней честно излагаются все главные неприятности, которые постигли или могут постигнуть Грузию под крылом России. Но вывод – тоже честно – делается иной: другого выхода нет. Что за странный рок, что за судьба предначертана народам, которые стали для этого вечно мятущегося океана – России – ее невольными берегами? Это уже вопрос к тебе, философ. – Праведный Илья тоже размышлял о том, как нашим двум народам разорвать свою дружбу-вражду. И ты знаешь, вся глубина его мысли не понята до сих. Многие думают, что Илья вел борьбу за политическую независимость Грузии. Тогда как на самом деле – он боролся за ее духовное пробуждение. Для пробуждения же – нужно было сбросить все оковы. В том числе внешние. А из внешних оков – наисильнейшим был гнет тогдашней царской России, который распространялся и на русский народ. Опять-таки, гнет исходил из ветхой, самодержавной, крепостнической России. А добро могло прийти на святую Грузинскую землю только из святой Руси. Точнее, все добро, конечно же – от Бога. Но подлинную братскую руку помощи в борьбе с иноплеменниками-мусульманами мог протянуть погибающему грузинскому народу только святой русский народ. Вот только до себя самого, таящегося глубоко внутри, русскому народу еще предстояло дорасти. Так же как и грузинскому. Так, и только так обретается дружба народов! Только так она перестает быть жалкой пародией! Перестает быть – несносной комедией. Это возможное будущее торжество святости, торжество божьего Света в жизни грузинского народа Илья изобразил в поэме «Видение». Наверное, все это можно отнести и к возможному будущему русского народа, ведь все святые народы идут в одном направлении. И нет народа не святого, когда он действительно зрел.
Эрика же вспомнила, как поразили ее когда-то поэмы другого классика грузинской литературы – горца Важа Пшавелы. Она даже раздобыла книгу о его жизни и с упоением погрузилась в настоящее рыцарство. Им был проникнут каждый поступок этого ни на кого непохожего творца. Каждая его строка – тоже была поступком. И за каждый из них – горные рыцари, населяющие волшебную страну, которая сквозила, извлеченная точным воображением поэта, из глубины тогдашней Пшавии, готовы были платить кровью. Вначале Эрику даже слегка оттолкнуло это обилие чистой алой крови, которую обильно проливали мифические пшавские рыцари за родину, честь, царицу Тамар и свою величайшую святыню – Лашарский крест. Потом, погрузившись в чтение кристально чистой по тональности прозы Важа Пшавела, где жизнь человека тоже была неотделима от природы и буквально трепетала в эфире Вселенной, проникая в незримые простым глазом пространства, паря там горным орлом – Эрика поняла все по-другому. Гимн крови был для поэта – символическим гимном жертвенной жизни. Поскольку за счастье и свободу в этом мире надо было платить.
Одного тогда так и не смогла понять Эрика… Но у нее теперь был человек, который, как ей казалось, мог объяснить буквально все.
Она немедленно обратилась к нему, словно перед ней стоял сам некоронованный царь и отец грузинского народа, получивший такие прозвание потому, что буквально возродил и выпестовал его во второй половине 19 века, реформировав даже язык – сам Илья.
– Ника, объясни мне, пожалуйста, как мог Илья Чавчавадзе, которого православная церковь даже канонизировала как святого, назвав его праведным… Как мог праведный Илья, руководя банком, созданным им ради ссуд на поддержание лучших проектов отечества, не помочь Важе Пшавела, который так нуждался. Важа Пшавела не был князем, он жил в своем селении крестьянским трудом и охотой, был многодетен. Платили же ему за стихи не так щедро, как равным ему по таланту и популярности поэтам-князям. Он даже не смог доучиться, когда Общество по распространению грамотности среди грузин отправило его учиться в Санкт-Петербург. Потому что этих средств хватило только на один год. Более того, это Общество спустя несколько лет потребовало от поэта, и без того жившего впроголодь, занятого непосильным трудом, чтобы тот вернул некогда предоставленный ему кредит. Поскольку поэт так и не выучился. Из-за чего Важа Пшавела испытал немало горьких минут. Его даже травили в тогдашних журналах, так как сумму этот мужественный человек возвращать отказался. Гордо умолчав о том, что она была попросту неподъемна. Более того, когда он уже в зрелых летах еще раз обратился в Общество, чтобы оно помогло ему доучиться, чтобы отправило еще раз в Россию – потому что нуждался в дальнейшем развитии, нуждался в новых людях и впечатлениях – ему в очередной раз отказали. А ведь этим Обществом руководил ни кто иной, как Илья. Во всяком случае, его сотрудники. Все это совсем подрезало крылья горному орлу. Недолгую он прожил жизнь.
Конечно, вопрос был не шуточный.
Ника призадумался. И даже развел было руками. Но вдруг лицо его озарилось какой-то мыслью, стало радостным.– Эврика!.. Я вдруг понял, что, наверное, праведный Илья молился, прежде чем принять то или иное решение. И скорее всего Бог не положил ему на сердце оставить Важа Пшавела за границей на весь срок учебы. По неизвестным нам причинам тот мог бы там даже погибнуть. Скорее всего, из-за своей вспыльчивости. Ведь он был еще вспыльчивее Пушкина. Чуть что – и пытался решить проблему в кулачном бою. Точно-точно!.. Не миновать ему было дуэли! А так как он был метким стрелком, то противник из самозащиты, стреляя первым, вынужден бы был убить того наповал. Или сам Важа стал бы убийцей и сгинул на каторге. Праведный Илья знал про все такое не понаслышке, сам он тоже был вспыльчив. И тоже дело доходило до дуэлей.
– Что-то в этом есть. Ты знаешь, был даже случай, когда Обществу распространения грамотности среди грузин, которое и устроило молодого Важа Пшавела учителем в народную школу, вынуждено было согласиться с его увольнением. Потому что тот избил какого-то начальника. – Потому что пылкий просветитель, вероятно, тоже путал реальное с идеальным и не умел ждать. Он не умел жить будущим и приближать его через терпеливое постепенное взращивание однажды посеянных всходов. Поэт увяз в рыцарстве, которое грезилась ему раем из прошлого. Потому что и в самом деле стоял на некой святой земле. Но он не понял, что этот рай – в будущем. А до него большинству – еще далеко… Он – то идеализировал общину горцев, которые не знали крепостного права, то горько разочаровывался, когда видел в современности отступничество от мифических заветов предков. И, честно говоря, хоть отец его был священником, и притом хорошим, мало он думал о силе Крови Христа. И о его великой гуманной педагогике. Вот почему Важа Пшавела был так неуживчив с разного рода чиновниками, а с прямыми подлецами немедленно схватывался в рукопашную. Мог он, наверное, ввязаться в драку и с теми, чье внешнее поведение не соответствовало каким-то его представлениям.
– Ты хочешь сказать, что Бог не зря наложил на Важа Пшавела оковы бедности, дабы научить того смирению?
– Нет, милая Эрика, настоящий Бог так не поступает. Такое манипулирование обстоятельствами и слабостями людей – плод ума падшего Денницы. Наш Господь всего лишь хотел уберечь Важа Пшавела от гибели на чужбине. И поэтому не положил на сердце Ильи оказывать тому более существенную денежную поддержку. Ведь будь у Важа Пшавелы средства, тот бы немедленно рванул за бугор. И заболел бы там к тому же ностальгией. Когда кто-то предложил в присутствии Ильи послать Важа Пшавела учиться в Германию, Илья воскликнул: «…знаете ли вы, что из этого получится? Оставьте его в покое. – в Германии, в лучшем случае, увлечется философией и тогда повесит пандури высоко к потолку. А что, если и философа из него не выйдет?.. Назначьте ему гонорар, пусть лучше уйдет он в горы и пишет».
– Знаешь Ника, будь я на месте Важа Пшавела, я бы все равно отправилась учиться. А там будь что будет! Гипотеза твоя, конечно, правдоподобна. Но ответ на вопрос, почему Важа Пшавелу целых два года травили в журналах, когда он не смог вернуть ссуду за учебу в Санкт-Петербурге, прерванную вопреки его желанию, я все-таки не получила. Скорее всего, Илья Чавчавадзе из-за своей занятости просто пропустил эту журнальную возню.
Их разговор перекинулся к теме о послушании. Оба они с жаром поддержали ту мысль, что во всем послушными могут быть своим наставникам только малые дети. И то до определенного возраста, пока не научатся здравому суждению и не выработают в характере первоначальный стержень. А далее слепое послушание может причинить только вред. Особенно добровольно-принудительное послушание духовному учителю, которое при полном устранении собственной воли становится гипнотическим подчинением. Тогда как надобно не устранение данной нам Творцом собственной воли, а ее преображение, устремление к горнему. Глагол «слушаться» происходит от корня «слух». Поэтому развитие внутреннего слуха, чуткости к руководству просвещенной Святым Духом Христа совести – и есть подлинное слушание. Оно не имеет ничего общего с казарменным послушанием. Выбор, решение почти всегда остается за слушающим. Будь это иначе, мы бы были машинами. Или марионетками. И в этом неживом качестве могли бы быть спасены одной волей Бога. Но к счастью, люди не марионетки. Они живые. Из чего следует и высокая ответственность – делать свой выбор, принимать решения. И да – отвечать. Как за судьбы всего мира, так и за собственную судьбу, за собственное спасение.
Тут же полезли в интернет и выяснили, что слово «послушание» встречается в синодальном переводе Библии всего четыре раза. Очень обрадовались этому открытию. Твердо решили, что новому переводу Библии на язык современных понятий – быть! И даже придумали ему название – «Рыцарский».
Съели опять по мороженому и разошлись.
На прощание Николоз крепко обнял ее, прижал к груди.
«Милая Эрика», – не раз повторяла она мысленно, удаляясь от проспекта. И чему-то
улыбалась.
9
Удивительные потекли дни.
Николоз пригласил ее в свою бригаду.
А там ее вскоре – приняли в отряд.
Это была бригада ремонтников во главе с бригадиром– самим Николозом. Эрика никогда не представляла себя в такой роли. Обычно она зарабатывала тем, что помогала с уроками детям из русскоязычных семей. Но теперь было лето, а ей были необходимы деньги на документы. Вот Николоз и предложил ей заняться малярными работами вместо исчезнувшего после отъезда Людмилы Петра.
Никто не знал, куда занес Петра никому непонятный вздор его души, которой он так никому и не открыл. Действительно ли он рванул в Польшу? Или впрямь – как сказал напоследок – ушел в местный монастырь? Адреса он не оставил, зато бросил, прощаясь, все свои вещи, велев кому-нибудь отдать. Однако тетя Лили все еще хранила их, надеясь, что тот даст о себе знать. Порой же у нее мелькала мысль, не наложил ли Петр на себя руки – слишком уж поспешным было его бегство.
В общем, сложилось так, что Эрика заняла в их бригаде место Петра. Николоз сам обучил ее основам малярного дела, казавшегося Эрики таким не хитрым, но оказавшегося на деле целой наукой, которая, к тому же, как и все на свете, часто расходилась с практикой. Потому что жильцы, которым был необходим ремонт, а иногда и предыдущие жильцы, делали все не правилам, на авось. И теперь приходилось либо полностью все переделывать, либо фантазировать, пытаясь сделать что-то – из ничего. Да и средства на ремонт по всем правилам требовались не шуточные, а хозяевам их обычно недоставало. Особенно если учесть, что они были очень странной бригадой. Некоторые клиенты, узнав про такую их особенность, иногда сразу закрывали перед ними дверь. Не все могли сразу поверить, что им предлагают ремонт за цену в два или три раза меньшую, чем на рынке. А некоторым малоимущим – и вовсе бесплатно. Некоторым же, кто зарабатывал неплохо – по полной цене. Николоз умело перераспределял средства так, чтобы компенсировать недобор от малоимущих и совсем неимущих клиентов за счет тех, кто готов был щедро оплатить качественную и добросовестную работу.
Эрика и познакомилась с Николозом на сайте, где тбилисцы искали и предлагали работу или жилье. Ей нужно было снять комнату. И Николоз, поинтересовавшись в сообщении ее обстоятельствами, неожиданно предложил пожить у пожилой женщины совершенно бесплатно. Правда на тот момент там проживал Петр, но Николоз пообещал переманить того в собственную холостяцкую комнату. Он тоже жил в итальянском дворике, на одной из улиц по соседству с тетей Лили. Его старший брат, эмигрировав в Чехию, со временем перевез туда и родителей. Те звали его с собой, но Николоз, по его словам, не видел необходимости менять место жительства, ведь Земля всюду одна.
Не прошло и двух дней, как задуманное предприятие состоялось. И Эрике даже в голову не пришло призадуматься над тем, за что ей такое благо. Большинство людей рядом с Николозом каким-то образом сразу переставали озадачиваться такими вопросами, настолько все становилось самим собой разумеющимся.
Бригада их состояла из трех-четырех человек. Ника был электриком и по совместительству мастером на все руки. Эрику все почтительно именовали – маляром-штукатуром (на практике это означало, что Эрика занималась шпаклевкой и поклейкой обоев, покраской рам и дверей, а все остальное – таскание мешков и красок, цементную штукатурку, покраску стен и потолков брал на себя Николоз). И был еще уже не молодой сантехник по имени Георгий. Тоже, как и Николоз, – русскоязычный грузин с какими-то славянскими корнями в роду. По-юношески любознательный, с живым, распахнутым, ласковым взором, в котором нежность перетекала в печаль, а печаль, накаляясь, могла вдруг упруго излиться в виде короткой вспышки гнева – чаще всего безадресного. Тот закончил художественное училище имени Тоидзе и тоже умел работать кистью. Умел в нужный момент грациозно подправить то, что Эрике пока не удавалось. Частенько присоединялся к ним худющий белобрысый Алексей – неловкий паренек, который занимался когда-то вместе с матерью возле церквей попрошайничеством. Николоз отбил его от влияния семьи, и тот теперь, зарекшись быть вечно нищим, успешно постигал азы духовной нищеты, временно поселившись в его жилье. Благо что раскладушка после Петра еще не успела быть сложенной. Отец выставил Алексея за дверь за общение со странным старшим другом, под влиянием которого тот стал ему перечить. Надеясь на то, что сын, который только что окончил школу, не справится с самообслуживанием, и вскоре, отрекшись от дружбы с Николозом, вернется в его объятья. Хотя вроде бы и сам безуспешно гонял жену и сына за иждивенчество за церковный счет. Теперь же успех незваного незнакомца взбесил его. Но Алексей, называя Николоза братом, буквально ходил за тем по пятам и жадно впитывал каждый его жест, хотя тот и отмахивался от всяких попыток подражать себе, и даже иногда сердился. (Кажется, это был единственный пункт, из-за которого Ника мог сердиться, поскольку считал, что у каждой подлинной личности – своя индивидуальность, своя колея). Он то и дело делал Алексею в полушутливой форме внушения за попытки брать напрокат его, как он выражался, личину.
Алексей даже решил никуда в этом году не поступать, чтобы сначала выучиться у Николоза. Когда же его спрашивали, чему он желает выучиться, тот скромно ронял: «Всему». Над чем окружающие, да и они сами, немало повеселились, пытаясь найти и перечислить то, что входило в это понятие. В их бригаде он быстро освоил все профессии и названный старший брат уже доверял ему некоторые участки работы.
Состоятельных клиентов они находили через интернет. А все остальные узнавали об их благотворительной бригаде изустно. Отбоя от клиентов не было, поскольку они уже понемногу становились местной легендой. Тем более, что редко можно было встретить ремонтников, которые готовы бы были, помогая друг другу, быстро справляться со всеми видами работ. Николозу даже приходилось проверять, в самом ли деле люди нуждаются, и отбирать среди них действительно нуждающихся. А еще у них были официальные сертификаты о том, что они – индивидуальные предприниматели, занятые в сфере мелкого бизнеса. Бригадир хотел, чтобы все было законно и все члены бригады зарегистрировались в налоговой службе. Хотя вообще-то налоги с мелких предпринимателей в Грузии не брали. Но могли начать брать в будущем. И Николоз счел бы своим долгом платить их.
Работа была хоть и тяжелой, но под шутки и разговоры, нередко переходившие в философичные диспуты, а иногда и в жаркие споры, она спорилась, и время пролетало быстро. К тому же благодушно улыбающиеся чему-то хозяева тоже иногда вставляли свои реплики. А некоторые из них начинали с ними приятельствовать, и потом иногда все вместе гуляли. Иные даже подключались и к другим идеям Николоза, у которого они никогда не переводились и успешно воплощались в делах.
Все это уже было до появления Эрики и ей ничего не оставалось, как радостно влиться в это великолепное сообщество.
Работали они по общему решению всего по шесть часов в день, с десяти до четырех. С обязательными выходными днями в субботу и воскресенье. И с возможностью кому-то опаздывать или уходить раньше или брать однодневный отпуск, в связи с уважительными причинами. А иногда кто-то мог взять короткий отпуск вовсе без уважительных причин. Им позволял это принцип взаимозаменяемости. Николоз и быстро набирающийся профессионализма Алексей как игрок в запасе всегда были, как говорится, готовы.
В обязательный же отпуск решили уходить всей бригадой в сентябре. И даже предвкушали, что проведут его в этом году в палатках, путешествуя по горам. Николоз знал много удивительных маршрутов, где пышная красота природы соседствовала с древними храмами и монастырями. Обычно он, как только выдавались праздники, – уходил в такие места один. Часто он проводил выходные в палатке близ какого-нибудь монастыря, посещал богослужения, беседовал с паломниками и, если повезет, монахами.
Свободного времени им хватало. И если Эрика не всегда понимала куда его деть, то Николоз посвящал его «Богу, людям и себе». Так говорил он сам, немного растерянно поглядывая на Виктора. Все-таки раз тот уж был склонен к подражательству, то надо было иногда озвучивать, чему именно стоит подражать, как-то объяснять свои мотивы. Поэтому Николоз также разъяснял, что под словом «себе» имеется ввиду саморазвитие.
Встав в шесть утра, Николоз проводил не меньше получаса за молитвой. Потом гулял с час в парке, имея с собой блокнот и порой записывая в него какие-то приходящие мысли. Иногда – уносился на велосипеде в Парк Рике. Прихватывал он на прогулку и томик какого-нибудь поэта. Он считал, что истинная поэзия – родом из той самой глубины, где коренится настоящая личность. И каждый глубокий поэт был для него другом, с которым он и общался на этой глубине.
В последнее время Николоз ходил с томиком стихов А. К. Толстого. Он часто говорил, что весь строй дум этого на редкость прекрасного человека коренился в Красоте, которая неотделима от Добра. И ссылался на отзыв о А. К. Толстом философа Владимира Соловьева. Книга же Владимира Соловьева «Оправдание Добра» была у него настольной, наряду с Новым Заветом, Псалтырью и сборником произведений Ильи Чавчавадзе. А еще в комнате у Николоза имелась икона праведного Ильи.
Другому чтению – а оно было обширнейшим, куда входили не только святые отцы и протестантские проповедники, но и философы, историки, искусствоведы, педагоги, психологи, классики прозы и поэзии – Николоз отдавался уже после девяти вечера, часов до одиннадцати. Когда возвращался после каких-то своих дел или из гостей. К современным писателям он был равнодушен, а постмодернистов не выносил.
После утренней молитвы и прогулки Николоз писал книгу о диалектическом методе толкования Библии. Он говорил, что этот метод также можно назвать парадигмальным, так как, по его мнению, при каждой смене парадигмы развития общества следовало понимать текст Писания еще глубже, вровень со временем и даже больше того. И для каждой парадигмы может потребоваться очередной перевод на язык углубившихся понятий, а также, быть может, возникших новых понятий.
Писал Николоз медленно, вдумчиво. Тратя на это дело всего лишь час, но зато какой час! Весь сжатый в превосходный афористический текст. Который можно было читать и как часть книги, и как отдельную миниатюру, в которой фрактально отражалась тоже отражалась многогранная суть целого. А еще он – переводил.
Словом, Николоз был по-хорошему занятым и, может быть, потому – счастливым человеком.
На уборку Николоз времени почти не тратил, поскольку старался сразу класть все на свои места, сразу мыть тарелки, кастрюли. И того же по умолчанию ожидал от других. Благо что предметов быта в его жилище, которое они прозвали в шутку Бочкой Диогена, было в отличие от книг – немного. Только самое необходимое.
Режим приготовления пищи тоже не занимал у него много времени. Николоз питался пищей простой и здоровой – варил за 15 минут суп из крупы, представляющей смесь нескольких злаков, картофеля, моркови, болгарского перца и приправы из сухой зелени. Варил без зажарки, добавляя подсолнечное масло и приправу уже после варки. Руководствуясь правилами здорового питания, он считал жареное вредной пищей. И старался не употреблять консервантов, кофе. Не ел он и мяса. Хотя позволял иногда себе рыбу, яйца и молочное. Любил лобио, гороховый суп, каши на воде. Включал в рацион семечки и орехи. А летом и вовсе переходил на салаты и тушеные кабачки. И, конечно же, покупал себе фрукты, если была такая возможность (чего мог позволить себе не всегда). Николоз приучил себя к двухразовому питанию, благодаря чему вес его всегда оставался одним и тем же. Правда, в этом случае приходилось налегать на хлеб, обычно черный.
Как-то они с Эрикой говорили о постах, и Николоз процитировал отрывок из пятьдесят восьмой главы пророка Исайи: «Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетённых отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». Николоз сказал, что в этих словах сконцентрирована вся соль христианства. Вынь ее и останется пустая вода. И прибавил, что никогда не постится в общепринятом смысле. Лишь иногда, когда он чувствует, что грехи совсем одолевают, у него настолько пропадает аппетит, что он сам не может притронуться к пище. И хватается как погибающий за продолжительную молитву (хотя никто не знал за Николозом грехов, тот часто с болью говорил, что некоторые свои склонности ему омерзительны).
Тогда же он рассказал об еще одной своей гипотезе в области христианской науки.
Николоз считал, что по мере того, как человек возрастает в Духе, телесный его состав тоже обновляется. Меняется даже метаболизм. Вероятно, он замедляется. И поэтому количество пищи тоже необходимо уменьшать. Но, конечно, не в сторону одного хлеба и воды. А в сторону простой, малокалорийной, богатой витаминами и микроэлементами пищи, содержащей, к тому же, растительный белок. Для этого достаточно фруктов и овощей, злаков и бобовых. Черного хлеба. Растительного и зеленого чая, растительного масла.
Если же человек, возрастая в духе, не меняет свои пищевые привычки, то начинает полнеть и болеть. И даже может стать инвалидом. Поэтому, как он считал, частенько от полноты страдают православные батюшки.
Да и у тех, кто далек от духовности, с годами замедляется обмен веществ. Но количества пищи они при этом не уменьшают.
Вслед за диетологами Николоз считал, что здоровое питание обязательно следует дополнять физической активностью на свежем воздухе. В идеале всем этим условиям – появлению здоровой пищи на столе, физической активности на природе – соответствует работа в саду и огороде. Но жителям городов остается довольствоваться суррогатом – хотя бы утренними прогулками по зеленым улицам, ближним скверам и паркам. Можно при желании – заняться скандинавской ходьбой, велосипедом, поиграть в мяч.
Относительно раннюю смерть своего любимого А.лексея КонстантиновичаТолстого – тот стал после пятидесяти лет страдать от полноты, головных болей, грудной жабы, астмы и умер от передозировки морфия, с помощью которого тогда снимали боль – Николоз объяснял именно отсутствием телесной самодисциплины. А также наивным туризмом в оккультизм и тем, что в отличие от своего тезки Льва Толстого, поэт не смог подняться над привязанностью к охоте. Он не смог догадаться, что привычка к этому невежественному развлечению является убийством и, будучи одухотворенным человеком, все-таки продолжал грешить.
– А Владислав Крапивин понял это сразу. Он с детства возненавидел охоту, – не преминула напомнить Эрика и о своем любимом авторе. Но не затем, чтобы противопоставить его А. К. Толстому – тот тоже был для нее одним из любимейших. Просто Эрике всегда хотелось восхищенно говорить о Крапивине, открывать для людей это чудо. Так, наверное, относились к Евангелию настоящие проповедники. Они просто не могли молчать. Правда, Эрику смущало то, что, получается, Евангелие ей заменяли книги писателя, который, как она считала, воплотил Евангелие в собственной жизни.
– Но насколько я знаю, Крапивин тоже стал после пятидесяти страдать от полноты. И даже от непомерной полноты, – возразил Николоз. – Да, – вздохнула Эрика, – Пожалуй, твоя гипотеза верна. Если бы Владислав Петрович вовремя бы взялся за себя, то не разрушил бы свое здоровье. Хоть он и прожил долгую жизнь, но тоже вынужден был уже после пятидесяти отойти от активной жизни физически. Он даже уже не смог руководить «Каравеллой» – детским отрядом, который он создал еще в юности.– А как бы он взялся за себя, если никто не рассказывал ему о связи духовности и питания? Или, может, кто ему чего и советовал, но неубедительно. Людям нужно говорить о таких вещах вновь и вновь, пока они не призадумаются и не сформируют у себя нового мышления, не выработают новой установки.
10
В июле они познакомились с семьей Кароянов. Им тоже был нужен ремонт, а денег на него не было совсем. Их частенько не было даже на пропитание и на оплату коммунальных услуг, из-за чего семья нередко оставалась без света и газа, при этом готовили на дровяной печи, используя вместо дров доски, палки, ветки и шишки. Мебели тоже почти не было – спали на брошенных на пол матрасах. Впрочем, не было и пола. Так же – как и стен. Были – просто обмазанные цементом блоки.
Цементное облако постоянно стояло в воздухе, из-за чего ходившие летом в одних трусах мальчишки – дети приветливой высокой женщины по имени Эльвира – вечно терли кулачками припухшие веки и красные, слезящиеся глаза.
Был у детей и отец, но он горько пил, а напившись, буянил. Семья его в такие периоды выселяла. И периоды эти все больше затягивались. Так что отец фактически бродяжничал, лишь иногда наведываясь в гости.
Это были курды.
Как и цыгане, эта народность вписывалась в тбилисский колорит сугубо по-своему. Местные курды обычно жили разрозненно, тихо. Амбициозности в них не было совсем. К высшему образованию они не стремились и часто можно было увидеть их, узнаваемых по смуглым лицам и густым, курчавым волосам, одетыми в оранжевую спецформу с изображением на спине по-своему мудрого и задумчивого старика – дворника с картины Пиросмани. Но встречались среди курдов и люди образованные. Они были с приятными манерами, отличались простотой, ценили шутку.
Николоз говорил, что для этого народа у Бога есть особый промысел – он незримо отрицает чванство, шовинизм у тех народов, среди которых обитает (своей независимой страны у курдов не было, как и евреи, они были рассяны повсюду).
А по тому, замечает ли человек на своих улицах таких людей, здоровается ли с ними – познается он сам.
Итак, они познакомились с семьей Кароянов, которые жили в одном из спальных районов в брошенной строителями времянке на пустыре рядом с рынком. Таких времянок – они стояли вряд, подобно солдатам на смотру – было несколько. И в них тоже жили какие-то вселившиеся туда без спросу люди, оставшиеся без крыши над головой.
Поселение образовалась несколько лет назад. Городские власти вначале не знали про это, потом им было недосуг, и они смотрели на факт вселения сквозь пальцы. Но когда поселенцы обустроились, сделали ремонты, огородились и даже вырастили сады – им захотелось все это узаконить. И тогда-то и началась битва с городской администрацией за право жить на этой территории и дальше. Битва эта продвигалась с переменным успехом. Администрация то грозила выселением, предлагая взамен оплату съемных квартир в соседнем микрорайоне, то обещала все-таки разрешить им проживание на территории после очередных выборов. Все зависело от политического контекста – от близости выборов в органы местного управления. И под шумок такой обнадеживающей близости им как-то даже провели электричество и газ.
Семья Кароянов жила в крайнем бараке. За ним сухая глинистая земля была усеяна колючкми, на которых отчаянно трепыхались на вечном ветру обрывки целлофановых пакетов, которые, казалось, были собраны охапками со всего района. Кое-где валялись пластиковые бутылки, консервные банки и даже шприцы. Тут же располагалось очищенное от хлама футбольное поле, опознаваемое только по воротам, обозначенным двумя булыжниками. На этом поле обычно носились с мячом или просто сидели на деревянной балке, молча глядя прямо перед собой непонятными, струящимися вверх взглядами, три мущкетера, как называл их Николоз – Стефан, Гриша и Лука. Это и были братья Карояны, почти погодки.
Старшему, Стефану, было двенадцать лет, Грише – одиннадцать, а Луке – девять. Все они, как дети, еще не вступившие в подростковый возраст и не обнаружившие, что мир совсем не таков, к каковому готовили их родители и учителя, были еще добрые и в крупном – послушные.
Когда Николоз приходил с чемоданчиком, полным всевозможными инструментами, деталями, разноцветными проволками, раскрывал все это, как волшебную шкатулку, мушкетеры стразу налетали и принимались все это с раскрытыми ртами перебирать. Стефан спрашивал про назначение каждой вещи и Николоз весело объяснял. Если надо было – даже показывал. И
вскоре уже и эти мальчишки стали ходить за Николозом по пятам. Тем более, что он подарил им набор шашек с шахматами и после рабочего дня они еще успевали сыграть с ним партию в шахматы. Тянули жребий – кому из мушкетеров выпадет счастье сесть за шахматную доску. Эрике оставалось только удивляться, как быстро мальчишки освоили трудную для нее игру, хотя младшие – Гриша и Лука – учились в спецшколе. Считалось, что – из-за задержки в развитии.
Сама она предпочитала футбол. После шахмат все они высыпали во двор и азартно гоняли мяч до темноты.
А после шли в ту темноту как во все расширяющиеся ворота далеко-далеко, пока бараки совсем не скрывались из виду, и разжигали в поле костер из заблаговременно набранного в мешки хвороста.
Пекли картошку.
Потом Николоз читал стихи… Мальчишки же и сама Эльвира, которая была еще душой молода, мечтательно глядели в потрескивающие угли, улыбались чему-то.
Понравилось их бригаде в этих местах. И хоть работы было много – нужно было отштукатурить, отшпаклевать, покрасить все стены и потолки, выложить пол кафелем, переделать проводку и водопровод – день проходил весело. Расходиться не хотелось. И однажды они так и не разошлись, так и заночевали прямо у костра, подстелив побольше сухой травы. А проснувшись, еще и организовали субботник – набрали в освободившиеся от хвороста мешки пластиковый хлам и сожгли его. А консервные банки выкинули потом в мусорные баки. И скоро уже ребятам так все это понравилось, что они стали каждый день носиться по пустырю с мешками и вскоре тот стал чистым, ровным.
Только гирлянды из разноцветных целлофанов они снимать не стали – пускай висят себе на колючках как елочные игрушки и весело треплются на ветру, пускай в их краю будет как бы вечный Новый Год.
Они даже придумали такую игру – назначили себя хранителями Нового Года.
Живут вот на городской окраине дети – ходят в трусах, гоняют в футбол, режутся в шашки, сидят, мечтательно поводя глазами, на балке. Все думают, что они просто мальчишки. А они – хранителя Нового Года. Без них тот не придет.
Вели взрослые бригадиры и свои любимые философичные разговоры. Чаще всего говорили о религии, истории, искусстве. Возвращались постоянно мысленно к событиям на Украине. Прошли уже те первые дни, когда жарко спорили об их причинах, а потом, спохватившись, начинали думать, как остановить кровопролитие и что могут сделать лично они. Давно уже пришли к горькому выводу о своем бессилии. И к необходимости положиться на высший Промысел. И решили каждый рабочий день завершать общей молитвой за мир между Россией и Украиной. Причем, молились и за тех, и за других. К ним обычно присоединялись и люди, у которых они находились. А Эрика, вернувшись к себе, еще и участвовала онлайн в аналогичной молитве по соглашению в Соцсетях.
Кроме того, они решили на часть своего заработка покупать в букинистическом магазине книги и дарить их беженцам из Украины. Прикупив вдобавок детских игрушек. И взяли за правило начинать каждый субботний день с посещения одной из гостиниц, целиком отданной украинцам.
Там они тут же оказывались в середине круга набежавшей ребятни, к которой потом подтягивались и взрослые.
Раздавая подарки, они всякий раз присоединяли к ним карманный Новый Завет с Псалтырью в синем кожаном переплете. Николоз доставал их бесплатно у каких-то миссионеров и распространял где только мог, не забывая и жильцов, в домах которых они работали.
Многие дети наперебой кричали, что у них уже есть такая книжица. Некоторые даже показывали ее, вынув из кармана. А иные и прибегали, держа ее высоко над головой и размахивая, как флажком. На что бригадир отвечал: «Если у тебя уже есть такая книга, отдай ее тому, у кого ее еще нет. Найди такого человека – удиви его. Поиграй в такую антивоенную игру! В следующую субботу расскажешь мне, если захочешь, что тебе удалось».
Чувствовалась, что игра всем нравилась.
Николоз не уставал объяснять, что войны происходят оттого, что люди не читают этой маленькой книжицы. А если и читают, то не вникают в нее, что гораздо хуже. Потому что, не вникнув – часто не понимают. А значит – и искажают. И, что самое плохое, – становятся потом жертвами идеологической пропаганды. Начинают массово верить, будто война может быть превентивно-оборонительной. И даже молятся за победу в такой войне. Наивно веря, что защищают и защищаются. Не веря на самом деле в Бога. Любовь и доверие к которому познаются только по тому, любим ли мы, исполняем ли Его заповеди. Видим ли в них Красоту, в которой нуждаемся пуще хлеба. А Божьи заповеди Иисус Христос пересказал в виде Заповедей блаженства. Это – кодекс всякого честного человека. Без поступков в его русле не может быть счастья и радости просто потому, что так устроена жизнь. Что записано в одном из пунктов этого кодексе? «Блаженны миротворцы». Миротворцы не вносят раздоры для того, чтобы их регулировать. Не разжигают пожар для того, чтобы тушить. Не осыпают милостями и не приближают для того, чтобы держать под контролем.
Чем больше коллектив, тем он действует сплоченней. Это хорошо, когда коллектив объединяет Добро. А если люди объединились для того, чтобы сеять раздоры, поджигать, а потом мирить и тушить – причем, объединились в сверхдержавы и противостоящие друг другу военные блоки – что может быть в этом хорошего для населения Земли?
А в этом – подковерная суть мирового порядка, скрытая подоплека политики.
Нельзя называть одних хитрых и подлых людей шпионами, а других, столь же коварных и вредных – разведчиками. Одних – нападающими. А других – обороняющимися. Только потому, что, дескать, те, другие – свои.
Нет своих и чужих – вся Земля Господня.
Первый из людей, протянувший когда-то руку к клочку на общей Матушке-Земле и воскликнувший: «мое!» – уже нарушил кодекс всеобщего Счастья. И положил начало междоусобицам и войнам.
Поэтому одни и те же народы постоянно находятся то в одной роли, то в другой – то нападают, то – обороняются. А по сути – все связаны одной рабской цепью вражды.
Историки скажут, что это – историческая неизбежность. Скажут, что прогресс не обходится без жертв. Что сам Господь Бог создал народы и определил каждому из них границы. Но из Слова Божьего следует, что это было сделано из милосердия к уже падшему, уже разделившемуся человечеству. Для того, чтобы этот Вавилон не смог сплотиться в глобальный коллектив под знаменем Зла, думая, что творит Добро и вовсе не истребил бы себя в своей самонадеянности.
Всякому народу Бог определил свои границы, дабы он искал в них Его самого и Его настоящее Добро, искал подлинное Счастье, а не боролся за Счастье с соседями.
Николоз и Эрика и там читали стихи.
Была в гостинице и гитара, и Николоз пел христианские песнопения. Потом гитара шла по кругу. Георгий затягивал грузинские народные песни, особенно хорошо получалась у него возвышенная, щедро-разливная, бодрая песня «Тушури». Кто-нибудь из поселенцев гостиницы затягивал украинские песни. Звучали старые бардовские песни и лирические песни из старого советского кино.
11
Но однажды кто-то из украинцев хмуро заметил: – Я так и не увидел вашего отношении к оккупации нашей земли. Такое ощущение, что вы демагог, пытаетесь обелить роль России, уравнять нападающих и обороняющихся. Пожалуйста, отделяйте мух от котлет. Говорю вам это как украинец русской национальности. Как русский европеец. Только европейский путь с опорой на мирный оборонительный блок НАТО может сковать на время один из образов многоликого апокалиптического дракона, этого нового Гога и Магога – Московскую Орду. Причина этой войны – родовая российская азиатчина. Московия никак не может выдавить ее из себя по капле.
Николоз собрался было ответить, но его опередил Георгий. Он закричал, внезапно выскочив в центр круга из-за спин собравшихся людей и встав с Николозом плечом к плечу:
– Эх, дорогой! Какой ты европеец?! Разве европейцы отрекаются от родного языка? Почему ты запретил своему русскому европейскому языку вольно ходить по Украине?!
– Во-первых, я лично ничего не запрещал. А во-вторых… – Нет, это ты запретил! – упрямо топнул ногой Георгий, вперив в русского европейца гневно сузившиеся глаза. – Государство, это кто по -твоему, разве не ты?! Вспомни какие раньше мы пели песни: «Я, ты, он, она – вместе дружная страна!». Да, той страны больше нет, но лучшее от нее можно же было оставить. Или она не была вам матерью?! Безродные мы все тут, сироты, шалтай-болтай. В мать плюем! И потом, какой к черту мирный военный блок?! Ты что – в армии не служил?! Где ты видел мирную армию? Раз повесил на стену ружье, значит, оно когда-нибудь выстрелит. Может быть даже – само… Допустим, сегодня блоком НАТО правят мирные генералы. А вдруг завтра – военный переворот?! А ты помогаешь опоясать братскую тебе страну чужими военными базами. Пойми, Путину не нужна твоя территория. Ему нужно чтобы с твоей территории не затягивали вокруг его горла золотую цепь. Это все-таки – кот ученый. Надоело ему ходить на золотой цепи. Вот он и взорвал международную законность, раз та мягко стелет, да жестко спать. Что можно противопоставить однобокой рациональности? Только иррациональность! Но это, конечно, не выход.
Еще какой-то мужчина гневно произнес:
– А дракона и нужно держать в цепях. Это политика сдерживания. Правильно делает НАТО! Ты, брат, уже, наверное, не помнишь, что Украина добровольно взяла на себя статут безъядерной державы. Все свое ядерное оружие она отдала России. И, как оказалось, напрасно. Украина стала подумывать отказаться от безъядерного статуса только после того как Орда вторглась в Крым и Донбасс. Будь прокляты россияне, раз они молчат и не останавливают свое сумасшедшее руководство! Все видят – и молчат! Будь они прокляты!
– Да Московии всегда была варварским государством! – сказала одна женщина. – Это мы – Киевская Русь! Хоть поляки с литовцами и теснили нас, но дух у нас с ними был общий – европейский. А Московия действительно вековала свои века с Ордой. И – где теперь Орда?.. Туда и ей дорога!.. Будь прокляты наши враги! Они позавидовали нашему европейскому развитию. Решили сбить нас с пути!
Георгий, вдруг стушевавшись, приложил руку к груди и принялся взволнованно увещевать всех с выступившими на глаза слезами:
– Родные, не проклинайте никого! Вспомните, что вы христиане. Проклятые мысли циркулируют по кругу, потому что все происходит из одного корня. Вспомните, что Россия, приняв на себя удар татаро-монгольского нашествия, дала другим европейским народам время на развитие. А спустя века – героически приняла на себя удар Наполеона, а потом – Гитлера. И на сей раз не только заслонила, но и освободила Европу. А сама – да, отстала. Причем, она и сейчас является для Европы щитом, сдерживая притязания мусульманского Востока. И ее же теперь за это упрекают, нещадно подстегивая к переменам, которые не могут быть мгновенными. Внешне на скорую руку поменяться можно, и уже менялись не раз, да серьезно ли это. Если уж вы идете в Европу, вспомните что и она образовалась из варварских народностей. Нрав ее стал понемногу смиряться только с приходом христианства. Хотя варварство все равно давало о себе знать в период мрачного средневековья. Извратило оно Христа, столько крови пролило. Несло, якобы, другим народам, свет. Ах, елки-палки, миссионеры-варвары!.. И сейчас – то же самое. Только хитрей.
Эрика вспомнила как Георгий, выкладывая пол плиткой, мог вдруг, вскипев, закричать на эту самую плитку, если та легла криво: «Да ты что?! Нет, только не это!.. Ах, ты белая тварь! А ну давай ложись!». Переложив плитку заново, Георгий долго еще потом бурчал на нее. А потом, поднявшись с корточек, вдруг подойти к Эрике, и взяв ее руку, вдруг поцеловать ее. Кротко попросить, глядя в глаза своим ласковым, чуть смущенным, всегда немного удивленным, лучистым взглядом: «Водички бы мне… Принесешь?». Георгий называл себя мастером-путешественником, он многие годы с удовольствием кочевал с целой повозкой инструментов из квартиры в квартиру, делая ремонты с поразительным мастерством и ответственностью. Брал он за такую работу недорого, но зато по-хозяйски занимал каждую ремонтируемую квартиру на весьма неопределенный по растяжимости срок и с толком, с расстановкой делал свое дело до тех пор, пока все не становилось ладным. А после, выкликнув ликующе: «Я памятник себе воздвиг!..» – удалялся в трехдневный запой. Были у него и жена с взрослой дочкой. Те иногда звонили, и Георгий выходил переговорить в подъезд. Иногда – не брал трубку. Домой он возвращался за полночь, уходил рано утром. И с семьей никого из них не познакомил. От расспросов о ней уходил.
И нет бы Эрике сейчас дипломатично поддержать товарища словом или хотя бы промолчать. Но в их компании было не принято – руководствоваться в спорах принципом «свой или чужой». И Эрика сказала то, что думала:
– И все равно Россия не должна была вторгаться в Украину. Просто потому, что она великая. А большие – они великодушные, не трогают маленьких. Жалко великана… Упал он.
Тут Николоз и произнес свое точное, разительное по ясности определение: – Но для того, чтобы стать большим, надо сначала снова стать… маленьким.
Стразу стало тихо. Даже дети перестали резвиться.
И вдруг кто-то зааплодировал.
Потом, через паузу, кто-то еще.
И вот уже со всех сторон понеслись, создавая пространство для еще большего вдохновения, настоящие аплодисменты. Они были противоположны слезам, которыми эти люди были переполнены до краев внутренне.
– Да-да, – повторил Николоз. – Нужно сначала отбросить всю эту внешнюю шелуху – мысли о том, чей род древнее, кто более варвар, кто иудей или эллин, русский или еврей, грузин или осетин, славянофил или западник, социалист ли, капиталист ли – и просто снова стать собой. Тем маленьким мальчиком. Или девочкой… Тем человеком, который сейчас плачет внутри тебя. Его зовут Иисус. Или Андрей. Или Эрика. Или Георгий. Эльвира, Стефан, Гриша, Лука, Алексей. И даже Путин Владимир Владимирович.
Люди поняли, что и слезы – они тоже бывают разные.
Есть печаль мирская, и есть – печаль по Богу.
Даже слезы о потерянной и поруганной Родине, может быть даже плач по упавшей Родине – как они не прекрасны – это всего лишь слезы о людях. Хотя и нет на Земле ничего более возвышенного, чем любовь к отечеству.
Но есть слезы – святые.
Взяв гитару, Николоз спел песню Сергея Калугина. Она называлась, как узнала потом Эрика, захотевшая тоже выучить ее наизусть – «Над пропастью во ржи»:
Звезды и годы,
Лица и тени,
Снов хороводы,
Хитросплетенья…
С каждой минутой
Бегства из рая
Я забываю,
Мы забываем,
Что наш Великий Господь –
Это маленький мальчик.
Совершенный Господь –
Просто маленький мальчик.
Всемогущий Господь –
Это маленький мальчик.
Беззащитный Господь…
Пьяные споры,
Волчьи метанья,
Блудные взоры,
Страх воздаянья…
А в поле над пропастью,
В метре от края –
Маленький мальчик…
С ним не играют.
И он наш Великий Господь –
Этот маленький мальчик.
Совершенный Господь –
Этот плачущий мальчик.
Всемогущий Господь –
Потерявшийся мальчик.
Беззащитный Господь…
И которую ночь, разметавшись в бреду,
Я хриплю и плыву в алкогольном поту,
И бегу – бегу через поле…
Он один в этой тьме, на пустом берегу,
Я успею, мой маленький, я помогу,
Я иду, я здесь,
Я уже скоро!
И воссиял великий свет
И отделился свет от тьмы.
Явились сонмища планет.
И солнца жар,
И блеск луны.
И звери шли за родом род
И населяли круг земли
От ледяных его высот
До преисподней глубины.
И этот мир и эти сны
И всей Вселенной дивный шар,
Нам лёг в ладонь, как робкий дар.
И что же мы?
12
Хороший был день. Солнце, когда они вышли из гостиницы, казалось, тоже протянуло им незримые руки, и робко дотронулось до их рук, плеч, коснулось чьей-то макушки, а потом скромно скрылось за облаком. Словно боясь сжечь что-то тонкое, важное.
Точно так же попрощались с ними сегодня обычно шумные украинцы. Притихнув, разошлись каждый в свою комнату. Многим захотелось побыть наедине с собой.
Обычно по субботам и они расходились кто куда. Но сегодня в их компанию напросились братья Карояны и они решили показать им Мцхету. Тем более, что августовская жара буквально выметала тбилисцев за город. Когда уже шли к остановке, чтобы добраться до автовокзала, их догнал высокий широкоплечий мужчина в тщательно отглаженных брюках и белой сорочке с черным галстуком, в черных лакированных туфлях. Голова его была неподвижна, но взгляд маленьких цепких глаз то и дело внедрялся мелкими гвоздиками в лица и предметы, причем, даже в лица прохожих. Впрочем, держался этот человек приветливо, стараясь скрыть свою настороженность.
За спиной мужчины несся вприпрыжку, глядя куда-то мимо и растопырив руки самолетиком, белобрысый светлоокий мальчишка лет десяти.
– Николоз, вы сейчас куда? Я бы хотел с вами поговорить.– cказал мужчина, уверенно встав между Эрикой и Николозом, – Возьмите и нас с собой. Меня зовут Анатолий. А это… мой сын Руслан.
Последние три слова он произнес сурово. Потому что, оглянувшись, увидел как его заигравшийся летчик, споткнувшись, полетел в пыль. Тот сразу вскочил и чуть ли не вытянулся в струнку, напряженно глядя отцу в лицо. Однако как только отец отвернулся, он скорчил рожу и принялся скакать у того за спиной.
– Как вам удается заставлять детей слушать библейские уроки? Ведь это был настоящий библейский урок, я правильно понял?.. – А мы не заставляем, – спокойно сказал Николоз. Не ответив на вопрос про урок.
Позже, уже в дороге на Мцхету, Руслан так расшалился на последнем сидении маршрутки, которое взял до того приступом, юркнув в маршрутку раньше всех, что обычно вежливые, покладистые братья Стефан и Гриша, по креслам которых Руслан водил какую-то машинку, немало не обращая на них внимания, сделали ему внушение. После чего Руслан спрятал машинку в карман и с такой силой откинулся на спинку своего кресла, что ударился о нее головой. После чего, нахмурившись, обиженно потер затылок. А потом всю дорогу хмуро смотрел в окно.
Но как только они приехали в Мцхету, он выскочил пулей и принялся скакать кругами, не обращая на этот раз внимания даже на отца. И опять свалился. Да так, что разбил в кровь колено. Тут же, искоса взглянув на отца, сорвал лист лопуха, и неловко зажал им ранку.
– Очень хорошо! – холодно сказал Анатолий и отвернулся.
Руслан, прихрамывая, пристроился за Стефаном и Гришей, которые шли пока что рядом.
Самый младший же из Кароянов – низкорослый Лука, похожий на ослика с большими, нежно улыбающимися глазами, какими их изображают иногда в муьтиках, кажется, нарочно приотстал, чтобы пристроится у Руслана за спиной. Вскоре они с Русланом, обменявшись какими-то репликами, принялись показывать друг другу искусство, каким обычно обладают парнокопытные, когда скачут, взбрыкивая, по полю.
Анатолий, делая вид, что больше не замечает сына, приступил к расспросам. Не обращая внимания на щедрую мцхетскую природу, он пытался на ходу заглянуть Николозу в лицо. Но это ему не удавалось. И поэтому он немного сердился.
Он первым делом спросил, из какой они церкви.
– Из церкви Иисуса Христа, – ответил Николоз, слегка усмехаясь.
– Слыхал я про такую не то церковь, не то секту. – Да нет, вы не поняли меня. Мы не принадлежим ни к какой церковной организации. Всех нас крестили когда-то в детстве в православной церкви. Иногда мы бываем на Литургии. Я даже время от времени причащаюсь. Но вряд ли можно назвать нас воцерковленными верующими. Мы и с протестантами дружим. Можем и к баптистам прийти на службу, и к адвентистам, и к квакерам. Эрика вон еще любит Армию Спасения. – А я думал… Теперь понятно, откуда берется у вас эта свобода. У вас нет Ковчега. И вы гребете туда, куда несут вас волны, на своем утлом суденышке.
Николоз ничего на это не сказал. Только едва приметно вздохнул. Понимал, видимо, что слишком у них разные языки – не объясниться.
Интересно, что сам Анатолий тоже не сказал из какой он церкви. Только кратко сообщил с деланной скромностью, что он по профессии – пастор.
Мало-помалу пастор расслабился и, поняв, что имеет дело с людьми, с его точки зрения, наивными, принялся понемногу поучать их. По ходу этого дела он как бы откровенно приоткрывал завесу собственного сердца. Но только как бы. Это было у него приемом, заимствованным из арсенала практикующих психологов.
Хотели они начать с осмотра знаменитого храма Светицховели. Хотели настроиться на посещение раки с мощами прославившегося на весь мир святого блаженного старца Габриэла Угребадзе в монастыре Самтавро. Но при таком раскладе пришлось начать с пикника. Углубившись в лес, они нашли широкую травянистую поляну и сели на ее краю под кронами могучих деревьев. Разложили прямо на траве нехитрый обед – хачапури да лобиани. Поставили бутылки «Боржоми».
Дети, не притронувшись к еде, побежали все вместе обследовать окрестности. Георгий с Алексеем тоже куда-то исчезли. А Николоз, Анатолий и Эрика прилегли на развернутые туристские коврики и продолжили беседу в окружении удивительных, невероятных по размерам трав, среди порхающих бабочек, проносящихся с гулом жуков, среди синего неба и густых белых облаков в нитях солнца, под которыми парил орел. Все это настраивало на безмолвие. Но Анатолию все еще хотелось говорить. И ничего не оставалось, как дать ему выговориться. И – попробовать что-то разъяснить.
Много чего объяснял в тот день Николоз их неожиданному попутчику.
Но особенно Эрике запомнился разговор про то, может ли человек грешить после того, как покаялся и принял Св. Духа. Поскольку в Писании говорилось, что всякий, кто от Бога – не грешит. А если грешит, то, стало быть, Духа Святого в нем нет.
Анатолий сказал:
– Я от природы имею склонность к гневу. Но еще в школьные годы я раскаялся и стал свой гнев, как и некоторые другие свои страсти, подавлять. Стал упорно бороться с ними. И весьма преуспел. Но вот что случилось с гневом. Он раскололся на две неравные части. Одна часть – примерно процентов восемьдесят – трансформировалась в праведный гнев. Трансформировалась – в рвение по Богу. В горение светлого духа. Но, увы, склонность ко греху все равно остается и иногда мой праведный гнев выхлестывает за норму. И тогда я могу вспылить, могу накричать на кого-то. Это уже злость, тут Бога нет. Но такого вот – неправедного гнева – во мне только процентов двадцать. И вот какую штуку я заметил. Так как мы, люди, склонны к крайностям, склонны к максимализму, то я одно время из-за своей вспыльчивости не хотел принимать в себе вовсе никакого гнева. Даже праведный гнев я подавлял. Я превратился было в человека, который все и всех оправдывает. Превратился – в закрывающего глаза на реальное зло в мире. Превратился в этого адвоката. Тогда как Господь Иисус Христос со злом не мирился, он даже переворачивал столы торговцев и выгонял их из храма с бичом… И вы знаете что из этого вышло? Эмоция гнева никуда не ушла, а просто затаилась в подсознании. Причем, она стала налегать оттуда на сердце и мозг так сильно, что у меня стало подскакивать давление. Я стал жить под угрозой инфаркта или инсульта. Но самое плохое другое – я стал перегорать, затухать. У меня почти не осталось рвения, я вел свои служения в церкви как автомат… Ну, а потом я понял, что зря я выплеснул вместе с водами и ребенка. Зря ради тех двадцати процентов – погасил в себе весь огонь… И тогда я перестал его в себе зажимать. И он опять разгорелся с прежней силой. Слава Богу – теперь я понимаю, что человек, пока он в теле, не может избавиться от остатка своих грехов окончательно. И не корю себя за периодическую вспыльчивость. Просто прошу Бога милостиво простить мне их на Страшном Суде, а там – окончательно изгладить. Но, конечно же, я стараюсь свести свои крайности до минимума.
Эрике показалось, что в этом есть своя логика. В ней тоже было рвение по Богу. Была критичность к миру. Ее она проявляла в разговорах как разумное, спокойное обличение. Хотя в душе при этом была печаль. Но какая-то светлая печаль. Что бы со всем этим стало, реши она прогнать свое рвение? Наверное, именно так, запутавшись, люди предают свои идеалы и начинают маяться от скуки и пустоты.
Но Николоз подошел к делу совершенно иначе. Он сказал:
– Простите меня, если мне придется вас разочаровать. Но видимо, вы пока что не приняли Св. Духа. И это для вас – хорошая новость. Значит, вы, исправив свои мысли, можете принять его теперь. Хоть прямо сейчас… И Св. Дух – преобразит вашу природу. Вернет ее вам такой, какой она на самом деле и была. Пока не склонилась ко греху. Как преображает он природу всех искренне к нему обратившихся, искренне раскаявшихся. Ну не может из одного источника течь и сладкая вода, и горькая. Не может гнев быть одновременно и праведным, и нет. Если гнев, хотя бы на двадцать процентов, иногда становится неправедным, то, значит, и весь он не праведен. Но не надо ничего подавлять! Это действительно не приносит ничего кроме вреда. И многие новоначальные христиане могут на этом этапе даже пошатнуть свое здоровье. Вместо этого нужно очень сильно захотеть перестать мешать Богу своими усилиями. Следует всего лишь расслабиться и перестать пытаться все понять рационально, одним умом. И дать Богу возможность действовать внутри нас. Бог сам преобразует своим Духом наш характер. Понимаете, когда Св. Дух вас преобразит, вам больше не захочется кого-то критиковать, на кого-то наезжать. Вы на все будете смотреть глазами Любви. Замечать, конечно, зло. Печалиться о нем. И даже, если нужно, обличать. Но вы будете делать это с Любовью. Помните – Любовь изгоняет множество грехов – и прежде всего из вас. Вся Энергия Бога состоит из Любви. Но свободная Воля, данная нам Богом, с помощью которой мы, созданные им существа, становимся живыми и самостоятельными, может все равно по привычке тянуться к греху. Тем более, что плоть и Дух противоположны. Однако плотская природа у преображенного Духом человека уходит на второй план, занимает свое подчиненное положение. И она будет молчать, будучи лишенной силы к греху. Но если вы добровольно уклонитесь к ней, опять позволив себе старое, то Дух моментально отойдет. Потому что не может чистый светлый Дух жить в чем-то грязном. Он даже обижается, когда мы пытаемся удержать Его. И вот вернуть его потом уже сложно. Придется, проникнувшись одиночеством, опять осознать заново, какого друга мы потеряли. Конечно, он опять вернемся, если мы искренне раскаемся и постараемся больше не повторять прежнего греха. Но зачем же Его так обижать, так не уважать.
– Николоз, неужели мы становимся, обратившись к Богу, настолько безгрешными, как ты говоришь?! – воскликнула Эрика. – Зачем тогда существует покаянное исповедание грехов, к которому принято прибегать вновь и вновь?
– Ты думаешь, что это праведно перед Богом – бесконечно грешить и каяться, каяться и грешить?
– Но что же делать-то? Что?! Раз склонность к греху остается?
– Остается не склонность, а – инерция. Установка на новую жизнь уже сформирована. А прежняя – перестала быть актуальной и понемногу затухает. На это действительно нужно время. Но не вся жизнь! Мы не можем остаться младенцами на всю оставшуюся жить. Не можем постоянно то и дело грешить. После того как Св. Дух изменил нас, выбор за нами – грешить или нет. Да, поначалу мы можем по инерции падать. Но тут же – будем вставать. Несколько раз упадем, встанем, но потом уж – пойдем. И там уж падать не будем. А если опять добровольно выберем грех, то Дух отойдет от нас. Все труднее будет Его вернуть. Слова про то, что Св. Дух, поскольку он Личность, тоже может обижаться – это слишком человеческие слова. К ним авторы Писания прибегали по нашей и своей немощи. На самом деле, Св. Дух не то чтобы обижается, а просто не может… Да, как это ни странно, но Он не может ничего делать без нашей помощи. Без нашей свободной воли, нашего выбора. Иначе мы были бы марионетками, а марионетки – это механизмы, а не живые существа. Если мы применяем дарованную Им Жизнь и Свободу во вред себе и другим, то – что он может поделать? Он сделал уже все что мог, и даже больше – Сына Своего единородного послал к нам, дикарям, на верную гибель, чтобы тот своим примером показал нам, как может человек преобразить свое бытие. Этим примером он и лишил власти своего противника. Который думал, что сможет бесконечно манипулировать нами, загоняя в круг ложных представлений о Боге и его святом характере, которому мы подобны.
– Но ты же сам говорил о двоемирии. О том, что люди и даже страны имеют божий мир – внутри себя. Но не помнят об этом. И в этой жизни часто ведут себя по-другому. А мы можем видеть лишь их потенциал – видеть их такими, какими задумал их Бог.
– Неужели Бог задумал их такими только для того, чтобы любоваться их потенциалом? Дорогая Эрика, нет никакого двоемирия в привычном смысле слова! Ничто не раздваивается на плохое и хорошее! Повторюсь, Источник один, и он не разделяется в самом себе. Не может из него течь одновременно и сладкая, и горькая вода. Божья Сила одна. А примем ли мы ее – такой как она есть, и станем ли жить с ней в согласии или начнем плыть против ее Течения, внося сумятицу, зависит от нашего выбора. Плохой выбор – это только потенциальная возможность. Она ведет в тупик. А выбор хороший – открывает мир безграничных возможностей, безграничной полноты жизни. К сожалению, очень многие выбирают путь в никуда. И плывут, не понимая того, в Тень истинной Жизни. Но и этот образ Тени – лишь человеческое понятие. В истинной Жизни нет Тени.
– Получается, что когда люди не живут с Богом, они умирают? Становятся как бы тенями?
– Да, дорогая Эрика. Они умирают. Но свободная воля все еще остается. И дремлющий внутри потенциал Жизни в Духе, которой они жаждут, тоже остается. Вот мы, если мы христиане, и должны помогать всем пробудиться. А потом расти. Все больше возрастать в Духе. Освещаться Им… Но только если мы сами – проснулись и растем.
– Поняла я теперь что такое тот – второй – мир. Который так прекрасен, так красив. Он на самом деле – в нас. Когда Мы смотрим на мир глазами Духа, то видим его потенциальную возможность возродиться. И начинаем от всей души содействовать этому. Мы видим повсюду зерна Духа. А где-то даже ростки. А где-то – и прекрасные деревья, полные плодов.
– Ты только помни, что Бог возлюбил нас любовью вечной. Он нас любит так, как человеческий язык выразить не может. Доверяй ему, пускай в свою жизнь. Это не суровый отец-инквизитор, а просто Друг.
Тепло взглянув на почему-то сцепившего зубы Анатолия, у которого желваки заходили на скулах, Эрика простодушно сказала ему:
– Знаете, я где-то читала, что гнев представляет собой нерастраченную энергию для изменения, направленную на себя: свой образ мыслей, характер или зависящих от нас обстоятельств. Есть хорошая новость – наступило время перемен!
Но Анатолий сухо бросил, не удостоив ее взглядом:
– Да, надо пристальней вглядеться в свои грехи. Разобраться с ними по полной.
– Да не можете вы, дорогой брат, ни с чем разобраться, пока вас не коснется Св. Дух! – воскликнул Николоз. – Покаяние – это тоже плод Духа. Как и другие Его плоды: «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». И соотносимые с ними дела.
Анатолий упрямо возразил:
– Ну как же, закон и дан для того, чтобы смотреть в него как в зеркало и сверять, так сказать, с ним свой фейс. Пятна – удалять. – Внешние-то пятна можно удалить. Но если не живет в тебе Дух Божий, то внутри все останется по-прежнему. Десятислов – это действительно зеркало. Оно дано для того, чтобы мы увидели, насколько мы далеки от совершенства. И убедились бы на собственном опыте, что не можем ничего делать формально, не изменившись сначала внутри. – Но мы и не можем быть идеальными!
– Можем! И не только идеальными, но даже – святыми! «Будьте святы, как и я свят!». Это не так уж и сложно. Просто надо смириться со своей ограниченностью и дать Богу действовать в твоей жизни. И он преобразит твой характер. Положит этому начало, чтобы идти потом с тобой рука об руку все выше и выше. И вглубь идти, и вширь. Чтобы ты встал вместе с Ним лицом к лицу перед подлинным Бытием. Чтобы ты – был. И еще, брат, запомни, пожалуйста, – возрождение в Св. Духе не одномоментный процесс. Апостол Павел говорил, что он рождается в Духе каждый день. Каждый день, каждую минуту он выбирал Дух Жизни, а не дух смерти. Прими, брат, Духа Жизни и отсекай каждый день не нужные мысли. Выбирай благие. Действуй в соответствии с благом. Не задерживайся в пути. Молись. Потому что молитва и устанавливает связь с Богом. Для этого надо расчистить небо души от набегающих облаков – всех-всех посторонних мыслей, быть может, даже благих. Это называется вниманием. Да ты, наверное, и сам знаешь… Мысли – облака и тучи. Они мешают связи. Молитва расчищает их. А установленная связь с Богом позволяет Ему взять тебя под крыло. На крыльях молитвы – ты, наконец, начинаешь парить над судьбой. А что такое судьба? Накопленные дурные привычки. Круговращение в них. Слепота. Спячка. Так не живет, а тлеет – большинство.
– Погоди, Николоз… – задумчиво протянула Эрика. – Если большинство – спит, то кто же создает искусство? Как не возрожденные спящие люди воcпринимают и создают прекрасное? Ведь слушая музыку, читая стихи, глядя на картины художников, а главное, глядя на некоторых людей, всматриваясь в иконы, мы тоже парим. Но больше всего меня удивляет восприятие природы. В ней столько хищничества, там тоже есть умирание, но мы все равно любуемся ею, видим прекрасное. Что это за иллюзия? – Ну, во-первых, искусство искусству рознь. Есть плоское ремесленничество, подменяющая красоту красивостью. Есть даже дьявольская подделка под искусство, находящая удовольствие в смаковании темных страстей. Сегодняшнее телевидение поставляет такую продукцию в избытке. Но в настоящем искусстве – всегда можно расслышать голос Св. Духа, хотя автор, быть может, и искажает, упрощает этот голос, сообразуясь с духом своего времени, его понятиями. И потом – среди творцов искусства немало возрожденных людей. Просто не все из них воцерковлены. Вот мы и полагаем, будто они не религиозны в нашем понимании. Другое дело, что многие часто оступаются. Озарившись Святым Духом во время сосредоточенного вдохновения и создав, быть может, даже шедевр, они не понимают, что озаряться Духом и следовать добру надо каждый день, каждую минуту. Что надо проникнуть Духом всю свою жизнь. И – вновь впадают в спячку. То есть живут так же ничтожно, как и все. Поэтому я лично, восхищаясь произведениями литературы и искусства, не делаю кумиров из творцов. Но есть такие творцы, слово и дело у которых – едины. Это святые творцы. Люди, взрастившие в себе древо жизни из семени Духа и давшие плоды. Им подражать можно.
– А природа? Как мы можем видеть в ней прекрасное, если и там царит смерть?
– Природа!.. Бедная, нами же попираемая. Падающая вместе с нами… Она тоже полна внутренней Красоты. В ней Бог поддерживает эту Красоту так же, как в нас. В виде своего незримого присутствия. Как зерно Духа. Которое так хочет раскрыться и вырасти, что все творение тоже тоскует вместе с нами по этой жизни Ввысь. Поэтому подлинное созерцание природы вызывает не столько умиротворение, сколько порыв возвыситься над ее ограниченностью. Хотя на ее лоне и можно иногда отдохнуть, отрешиться от бешеного ритма.
13
Повеяло легким ветерком. Разговор угас. Николоз лег на спину и прикрыл глаза. А Эрика, поднявшись, хотела было прогуляться к месту, где встречались, «обнявшись, будто две сестры, река Арагва и Кура», но поймала себя на ощущении, что не хочется и этого. Для всего есть – свое время. Скрестив руки на груди, она стала вслушиваться в обступившее их Молчание. И постепенно догадалась, что Молчание – это на самом деле присутствие, в котором нет ничего, кроме чистой Любви. Это такое пространство. Все звуки и слова рождаются из него. И если они неточны, тяжелы, плоски, злы, то сцепляются по закону родства в комья грязи, превращаются в камни. И, будучи инородными пространству Любви, оказываются за его гранью, где-то снаружи. Вытолкнутые в эту наружную пустоту, они начинают ожесточенно биться друг с другом. Бьются они и о саму Любовь, ощущая ее как стену. Наверное, это там зарождаются землетрясения и наводнения. Зарождаются войны – катастрофы массовых ссор.
Какими же чуткими должны быть поэты, писатели, композиторы, художники, когда они извлекают слова, звуки и краски из пространства Жизни. Когда придают ему форму. Как в той песне – от чистого истока в прекрасное далеко – прокладывают они путь. И не должны угодить в воронку смерти.
Особенно близко к этому истоку, наверное, подходят те, кто работают со словом. Ведь Молчание и предвечное Слово неразделимы. От чистого евангельского Истока и смолкает все наружное. Все обращается к Нему. И – все возвращается из желающего вернуться.
Способность Эрики замечать плевелы, зацикливаться на них, ее попытки преждевременно отделять их от зерен, не раз приводили ее к внутренним кризисам. В мыслях и чувствах возникала путаница, границы их то разделялись, то – смешивались.
Одно время она пыталась найти критерий для отделения зерен от плевел в философии. Обращалась она и к истории религий. Все это с одной стороны продвигало и возвышало ее, но и немало запутывало. Наконец она нашла такой критерий в Новом Завете. Но плевелы, которыми был обильно, на ее взгляд, сдобрен Ветхий Завет и многочисленные их интерпретации разными христианскими конфессиями, мешали и тут. Удивительный мыслитель Николоз избавил ее от этого противоречия в уме, сказав что не только Ветхий Завет, но и вся культура человечества является лишь детоводителем ко Христу. Настоящий критерий – эталон и камертон – только Он сам.
И действительно, только в Его словах, делах и поступках совсем не было плевел.
Удивительно, но здесь, в древней Мцхете, глядя на свежую траву, Эрика забывала про отдельные увядающие травинки. Слыша шум величественных деревьев и, вглядываясь в их кроны, она не обращала внимания на то, что отдельные листики уже опали. Мцхетская природа была настолько здоровой, светозарной, божественно-молчаливой и одновременно неумолчной, лето ее было настолько продолжительным и благоприятным, что Эрика впервые всем сердцем прочувствовала, что смерти на самом деле – нет. То, что ей виделось как увядание, на самом деле – только замирание, концентрация сил перед тем как сбросить оболочку. Все живое время от времени меняет образ жизни, а вместе с ним и форму, а после на новом витке развития возрождается вновь.
Как хорошо, когда все меняется!
Ничто не стоит на месте.
И даже наводнения – они частенько случались в Мцхете весной, когда бурлящие сестры Арагва и Кура начинали при встрече бурно ссориться – даже эти эпизоды несовместимости Молчания и грязи, которую неумеренно выкидывало наружу – казались всего лишь болезнями роста и не могли всерьез нарушить фимиама Любви, в котором все на свете двигалось и в то же время находилось в равновесии. Где все было равновелико, улыбчиво и лучезарно.
Узкие старинные улочки, двух- и одноэтажные каменные дома – каждый на свой лад и со своей особинкой – роскошные ухоженные сады и парки, неспешный быт – все это как бы струилось и веяло в ладонях величавых гор. Горы были как часовые. Вдали на вершине одной из них был виден безыскусный с виду храм Джвари. Дорога туда была непростой, если не пользоваться современным транспортом. А транспорт, приспособленный под нужды турбизнеса, был дороговат. Поэтому Джвари все еще оставался ближе к небу, чем к простым смертным.
Внизу же, среди большинства, выше всех был изысканный собор Светицховели. Вокруг него, щелкая фотоаппаратами, постоянно крутились туристы.
Шагнув немного в леса, раскинул свои владения женский монастырь Самтавро. Это здесь хранились мощи самого известного современного грузинского святого – блаженного старца Габриэла Угребадзе. Поскольку он жил и скончался именно тут, являясь для сестер негласным наставником. После Светицховели туристы перемещались сюда. Паломники же почитали это место святым и их поток тоже никогда не прекращался.
Со стороны Самтавро на поляну вдруг выбежал Руслан. Лицо его было изумленным. Подскочив к лежавшему Анатолию, он что есть мочи закричал:
– Папа, папа, я держал в ладони сердце отца Габриэла! Ты не поверишь, но оно билось!
Анатолий рывком сел, а потом, вскочив на ноги, ощетинился, словно зверь и грубо толкнул сына в грудь:
– Кто тебе разрешил ходить к раке с мощами?! Я же просил тебя никуда не отлучаться без взрослых!
– Но со мной был дядя Георгий. И Алексей. И – ребята.
Руслан беспомощно оглянулся на всю эту где-то нашедшую друг друга и воссоединившуюся компанию, которая, перебрасываясь шутками, подтягивалась к поляне. Никто еще не понимал в чем дело. Георгий даже, поравнявшись с Русланом, взъерошил тому волосы. Между тем как у того выступили на глазах слезы.
Анатолий упрямо продолжил:
– Разве ты не знаешь, что Слово Божье запрещает делать из людей кумиров? Тем более из мертвых людей?
– Да, но… Когда я прочитал старцу Габриэлу молитву и положил руку на его раку, то в моей ладони вдруг шевельнулся воздух. А потом стал биться в ней сильными, равномерными толчками. Это было сердце, папа! Я даже и сейчас его слышу.
– Это твое собственное сердце, дурень. Ты все опять перепутал. Впечатлительный ты у меня мальчик.
– Нет-нет, папа! Нет!.. Это было сердце батюшки Габриэла!
По лицу Руслана текли слезы. Все обступили его и принялись утешать. Николоз увел Анатолия в сторону и что-то шепотом втолковывал ему. Но тот уперто возражал:
«Да поймите вы, культ святых в православии – это самый настоящий спиритизм. Все эти лжечудеса не более как сатанинские козни».
Эрика, не сдержавшись, произнесла с убийственным сарказомом:
– Господи, какой же вы скучный!
– Эрика!.. – мягко одернул ее Николоз.
Анатолий же, сощурившись, небрежно выдавил в сторону – на Эрику он по-прежнему старался не смотреть:
– Ну, если вы называете скучным Слово Божье, то мне остается только молчать. Пускай с вами разговаривают мертвые. Бывшие при жизни завсегдатаями психиатрических больниц. Блажь которых прикрывали выспренним словечком «юродство».
– Неправда, старец Габриэл не был сумасшедшим! – возразила Эрика. – Думаю, что он-то как раз умел молчать как никто другой. А тому, кто вкусил подлинное Молчание, ничего не остается, как юродствовать. Потому что все слова, и даже музыка, и даже словесная молитва, даже земная любовь, даже, наверное, эти величественные горы и храмы – только какофония, только хаос, который бьется в пустоте за порогом подлинного Мира. Все ждет своего часа – мига преображения.
– Да кто вы такая?! – вскричал Анатолий и прямо-таки вцепился в Эрику взглядом, горящим совершенно по-волчьи. Он прямо-таки задыхался от ненависти и надменности. – Откуда у вас этот опыт?!. Эти ваши фантазии несносны!
– Есть у меня опыт! – упрямо возразила Эрика. – Я получила его, когда стояла вместе с Николозом на вершине Мтацминды. Я считаю, что встретилась тогда с Богом как бы лицом к лицу.
В это время Руслан принялся скакать, опять превратившись в парнокопытное. Лука тот час запрыгнул на него, как бы желая прокатиться. Но оба они не справились с управлением и рухнули в траву. Руслан, как водится, разбил колено. Вскочив, он отпрыгнул в сторону и виновато уставился на отца.
– Размазня! – немедленно огрел его словом Анатолий. – Видимо, никогда тебе не стать настоящим …
Тут Анатолий запнулся, взглянул искоса на Эрику и отвернулся.
– …мужиком, – спокойно докончил за него Николоз. – Пожалуйста, не стесняйтесь говорить то, что думаете. Так мы поймем друг друга лучше.
– А кто такой настоящий мужик? – подозрительно спросила Эрика.
– Это противоположность настоящего христианина, – вежливо пояснил Николоз.
А Георгий ввернул:
– Тогда настоящая баба, видимо, противоположность Богородицы.
– А по мне, так настоящий мужик – это и есть баба, – сказала Эрика.
Но Анатолий, вместо того чтобы вконец рассердиться, вдруг успокоился.
– И все-таки вы фантазеры, – выдохнул он облегченно. Потому что нашел для их компании ярлык, и она стала для него безопасной. Злость его схлынула, и компания как-то потеряла для него интерес. Он лишь равнодушно обронил: – Лучше бы вы ходили в церковь.
– Да ходила я в нее, – проговорила Эрика с горечью, уже устало. И вполне миролюбиво, – но потом мне наскучили бесконечные разговоры о Боге и о грехах. Я даже почувствовала отвращение к этим двум темам. Было такое чувство, будто у воцерковленных верующих все чаяния концентрируются на фигуре какого-то виртуального Бога, которому они поклоняются в силу привычки. А человек – всего лишь винтик в этой системе поклонения. Он там никому совершенно не интересен.
– А сие есть нарушение не только заповеди любви к ближнему, но и заповеди любви к Богу. Поскольку в Евангелии говорится, что если человек не любит человека, которого он видит, то как он может любить Бога, которого никогда не видел? – заметил Николоз. – И что же тогда остается от той Силы в нас и вне нас, которую верующие называют Св. Духом? Хотя то же Евангелие говорит нам и прямо противоположное: что Бога мы все-таки видели – в Христе. Но эта евангельская истина двуедина. Кроме того, каждая из христианских церквей обросла какой-то своей мифологией, в которую предлагается поверить, когда в нее вступаешь. Большинство готово поверить всему или, не веря ничему, сделать вид, что поверило. И как быть таким как мы? Для нас в этой системе места не предусмотрели.
– А я, когда у меня были проблемы, ушел из общества Анонимных Алкоголиков – а это сообщество, построенное на церковных принципах, хотя и прямо не декларирует этого – из-за постоянного напоминания о грехе. Очень вежливого, деликатного, но все же – напоминания, – подал голос Георгий, не отрываясь от священнодействия с бутербродами. Так как хачапури и некая другая еда, которая время от времени появлялась из его рюкзака, постепенно улетучились. – Нас все время призывали каяться в своей зависимости. Призывали помнить о ней каждую минуту. Ну, мы и помнили. И срывались с той или иной регулярностью. Я вот могу понять, что не спасешься, пока не покаешься. Пока алкоголик не признает, что он алкоголик и что бессилен справиться со своей зависимостью, пока не смирится таким образом, не обратиться к Силе, которая выше него, та не сможет действовать в его жизни.
Но как понять то, что большинство из нас кается, чтобы снова грешить?!. Недаром народная мудрость подметила, что – не согрешив не покаешься, а, не покаявшись, не спасешься. Цинично, но – факт. Вот как выбраться из замкнутого круга?
– Очень просто! – с жаром произнес Николоз. – Надо просто верно понять характер Бога. А в христианских церквях все время пытаются подражать не Христу, а гиперболам и аллегориям, к которым тот прибегал. Сев раз на осла, снова и снова пытаются въехать на нем в Иерусалим. Но смирения и простоты чего-то не прибавляется. А иные зачем-то буквально моют друг другу ноги перед святым Причастием. Хотя в отличие от евангельских времен, на них нет грязи, потому что никто не ходит босым. Человечество растет. Его понятия, например, о строении атома углубляются. А понятия о характере Бога и о своем характере как Его образе и подобии – нет. Словно церковь законсервировала эти понятия. Все это было бы смешно, если бы не приводило к смешению Света и тьмы. Особенно меня удивляет, когда говорят: «Не осуждай!». А между тем постоянно осуждают самих себя, а потом, чтобы не было обидно – и всех других. И это при том, что Иисус Христос вел человека через покаяние к росту в Св.Духе. При духовном же росте у созревшей и обретшей внутренний мир личности неосуждение трансформируется в умение понимать, сочувствовать, сострадать. Когда же приходит понимание, в том числе – глубокое понимание себя, осуждению попросту не остается места. Остается трезвость ума, всецелое доверие Богу, прощение, милосердие и – движение вперед. Что может быть проще? У нас же, подражая еще и святым, своеобразно не понимая их, призывают друг друга к сверхъестественным подвигам. Как будто спасение, которое уже даровано, нужно еще заслужить. Например, желают научиться помочь вору перевалить через забор украденный у них мешок с фасолью, как делал то один из святых. И, если вдруг случиться такой казус, – обретают вместо святого сострадания преступной душе лишь ложное смирение. Подавляя и удаляя в подсознание естественное негодование, которое еще не прошло путь преобразования в понимание, поскольку путь этот без помощи Св. Духа не пройти. А как внешне, утрированно понимают почти везде великодушие Христа! Понимают смирение – как уважение к властям, причем, даже скверным. Вместо уважения к власти как к Богом задуманной системе, способствующей справедливому Порядку. А уважение к родителям, к семье трактуют как послушание альфа-самцу и обслуживающей его самке. «А ты кто такой?!. – cказали бы они и Христу. Но не видят Его за фигурой отца-властелина на троне. Ведь вчерашние рабы еще долго нуждаются именно в такой фигуре.
Тут Эрика, немного спохватившись, сказала:
– Ребята, мы говорим о Лаодокийской церкви последних времен чуть ли не как о вавилонской блуднице. Причем, пользуясь ярлыком осуждения. Может, не будем передергивать?
– А разве это не так?.. Когда это так, то это уже не осуждение, а – обличение. Дай Бог только, чтобы оно исходило из чистого сердца и трезвого ума.
– Но кто же тогда апокалиптическая Дева в белых одеждах, которую преследует дракон? Та, что противоположна блуднице?
– А это и есть наше церковь. Братство пламенных, умеющих думать своей головой граждан небесного Отечества! Друзей Бога из всех земных церквей, да и просто – из мира. Ведь говорил же Иисус в Евангелии от Иоанна: « Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». А в этих словах из «Послания к евреям» как нельзя лучше отражена суть новозаветной церкви: «Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа; потому что все, от малого до большого, будут знать Меня, потому что Я буду милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более».
Все замолчали, так это было неожиданно. И в тоже время – близко, понятно тем, кто умел понимать.
Потом, смущенно кашлянув, сказал свое слово Алексей:
– Ну вот что… Мы это… Да дело надо делать, а не о грехах своих думать. Или даже много думать о грехах церкви. Апостол Павел, тоже помнившись о своих грехах – помнивший, но не думавший о них, потому что оставил их позади – как-то сказал: «Забывая дальнее, простираюсь вперед».
Слегка покраснев и вслед за тем напружинившись, Алексей вскинул взгляд в сторону Николоза, видимо, ожидая от того поддержки.
– Да, Алеша! – с жаром поддержал его Николоз. – Я всегда полагал, что Апостол Павел, рассказывал слушателям о собственных злодеяниях того периода, когда он был еще Савлом, не для того, чтобы еще раз напомнить о человеческой греховности. А чтобы показать своим примером как далеко он ушел от себя прежнего. И еще заметь – Бог в большинстве случаев действует руками людей. Теперь, когда Он уже не в плоти, это мы становимся Его плотью. Это мы, доколе мы в плоти, имеем привилегию нести его Слово и делать Его Дела. Даже если это очень трудно. Просто ради Него. А петь при этом можно хоть «Интернационал», раз эта музыка способна вдохновлять. Только бы, в отличие от революционеров плоти, не пролить во время революции духа ничьей крови – ради Христа этого нам нельзя!
– Верно-верно. А мы все каемся да грешим, грешим да каемся. Мозг свой программируем на негатив. И боремся потом сдуру с мозгом. А нет бы взять и угостить друзей сулугуни и чурчхелами! А ну налетай!
Тут Георгий извлек из рюкзака еще один пакет с разными вкусностями. И послал при этом Эрике воздушный поцелуй.
Этого не надо было произносить дважды. Все, кроме Анатолия, расселись по кругу вокруг завтрака на траве.
Анатолий же, сказав, что он не голоден, куда-то удалился.
– Ну хватит терзать неокрепшего в вере человека, – серьезно сказал Николоз. – Давайте уже угомонимся.
Однако слова своего ему невольно сдержать не пришлось. Когда после того, как они окончательно умяли всю еду, Анатолий вернулся, Алексей попросил: – Николоз, а помнишь ты как-то рассказывал мне про свою встречу с Ильей Чавчавадзе?
Может, расскажешь теперь всем?
– Погодите, а разве Илья Чавчавадзе?..
– Не торопись, сейчас ты все поймешь.
– Ну, ребята… Вы меня озадачили. Не такая уж это была и встреча. – А все-таки!.. Николоз, расскажи! Это же настоящее свидетельство. – Ну… Если это кому-нибудь нужно, то – ладно.
14
И вот что Николоз рассказал:
«Однажды мне захотелось перечитать стихи и прозу знаменитого грузинского поэта и прозаика Ильи Чавчавадзе. Я помнил, что он жил и творил во второй половине 19 – начале 20 веков. Говорю это для тех, кто, может, этого не знает. Потому что за пределами Грузии он известен мало. Конечно, я был наслышан о нем. Кто его у нас, в Грузии, не знает… И даже что-то читал в школьные годы. Но не более того. А тут вот – вдруг захотелось взять и перечитать основные произведения именно этого автора. Причем, основательно. Потому что меня всегда интересовало, кто из писателей был предельно честен и действительно мыслил о Боге, действительно руководствовался Его Духом. Или хотя бы честно искал Его. Даже, быть может быть, ошибочно, через ересь атеизма. На тот момент я почему-то особенно задавался этим вопросом.
И вот я вспомнил, что есть такой автор как Илья Чавчавадзе. Смутно мне помнилось, что, кажется, грузинская православная церковь в последние годы даже канонизировала его в качестве святого праведного Ильи. (За богоугодные дела и писания).
Я отправился в центр Тбилиси и стал искать книги Чавчавадзе у букинистов, которые раскинули свои стеллажи у станции метро "Площадь Свободы". Как раз рядом с Первой школой, у здания которой на постаменте стоит каменный Илья вместе с другим своим замечательным современником – поэтом Акакием Церетели. А напротив, через дорогу, прячется за современными зданиями недалеко от Республиканской библиотеки – небольшой храм Св. Троицы, где Илья обвенчался с верной супругой Ольгой Гурамишвили.
Там были разные издания… Но я присмотрел себе то самое, где в одном томе были объединены и поэзия, и проза. Книга называлась "Сочинения" и вмещала в себя все или почти все художественное творчество данного автора.
В отличие от обширной публицистики, не изданной на русском языке, художественное творчество Ильи Чавчавадзе лаконично. Некогда ему было заниматься чистым творчеством – общественных дел хватало на целое министерство, а он был один. Но зато каждая написанная строка емкая, а каждое произведение – подлинный шедевр.
Но я почему-то в тот день так и не купил этот сборник.
Почему-то я уехал домой. Руководствуясь теми соображениями, что, быть может, удастся найти более современное издание. (В том, что я присмотрела, листы пожелтели от времени, читать их было сложно).
Но на следующий день – 1 августа – я решил все-таки купить это издание. И вновь отправился на Площадь Свободы.
Купив на этот раз тот же сборник, который присмотрел, я вернулся домой, прочитал несколько страниц и полез в интернет посмотреть какие-то более современные сведения об Илье Чавчавадзе.
Каково же было мое удивление, когда я узнал, что это был день накануне празднования православной церковью Грузии дня святого Ильи пророка, а заодно и дня памяти святого праведного Ильи (Чавчавадзе).
То есть я купил книгу, принялся ее читать, узнал из нее в чем-то удивительные для меня вещи и буквально напиталась возвышенными мыслями и чувствами – непосредственно перед днем Св. Ильи Чавчавадзе. Юнг называл такие совпадения, природу которых он изучал, но так и не понял – термином «синхрония». И они у меня иногда случались. Поэтому удивление быстро прошло.
Я узнал, что этого писателя считают "отцом отечества". Его кипучая деятельность на протяжении полувека грандиозна. Илья Чавчавадзе был не только писатель, но и общественный и государственный деятель. Он не только создал "Общество распространения грамотности среди грузин", но и реформировал грузинский язык.
Илья Чавчавадзе был также основателем и на протяжении многих лет руководителем первого грузинского банка, созданного им для предотвращения разорения местного дворянства и для культурных проектов. По-видимому, став, таким образом, не только святым поэтом, но и святым банкиром.
Святой праведный Илья (как называют его христиане) поставил перед каждым человеком задачу – стать личностью с глубоким духовно-нравственным измерением. Причем, немало преуспел в ее практическом воплощении. И прежде всего – на собственном примере.
Он вел народ именно христианским путем. И декларировал это прямо.
Причем, он в итоге, уже будучи пожилым, но по-прежнему активным общественным деятелем, был убит – то ли по заказу царской охранки, то ли – по заказу набирающих силу большевиков. Последние опасались, что передовые идеи этого гражданина могут оказаться влиятельней идей временщиков.
Короче, я понял – какими могут быть святые писатели. Святые бизнесмены. Святые работники с засученными рукавами. Святые князья. Оказалось, что их не обязательно искать где-то за океаном. Причем, я увидел творчество выдающегося сына грузинского народа совершенно под другим углом. Совсем не под тем, под каким его иногда видят узкие националисты.
Эти строки прямо-таки пламенели у меня в груди несколько дней – кстати, они были написаны молодым поэтом, когда он был студентом Санкт-Петербургского университета – 1 августа 1858 года:
Мы живем – и, тем самым, владеем божественным даром; Но порой свою жизнь мы впустую расходуем, даром. Нам, рожденным из праха, обреченным в грядущем на тленье, Не пора ли понять невозвратность любого мгновенья? О, глупцы! Мы Спасителя слово о жизни забыли: Драгоценность она – не пылинка средь облака пыли! Неужели живем мы, Христова завета не зная, Что для жизни грядущей дана человеку – земная? И не он ли велел нам, – хоть век всех живущих мгновенен,– «Как небесный отец, будь и ты, человек, совершенен!
А еще меня сильно затронули такие строки:
Пустую жизнь без вдохновения
Небесным даром не зови:
Она – земное порождение
И достояние земли.
Но если искрою нетленною
Твой подвиг западет в сердца,
Ты светом озаришь вселенную
И не изведаешь конца.
Хвала любви! Хвала бесстрашию!
Служителю добра – хвала!
Он пьет бессмертье полной чашею
В награду за свои дела.
Теперь я считаю, что на Илью Чавчавадзе вывел меня Св. Дух. Для меня Св. Дух – это живая реальность.
…И можно бы было на этом закончить.
Но у истории есть продолжение.
Следующим утром, в день памяти пророка Ильи, а также святого праведного Ильи Чавчавадзе я отправился на Тбилисское море. Решив окунуться в чистые воды и символически смыть в этот день с себя все суетное. (Хоть чистыми при нашей экологии воды этого водохранилища можно было назвать лишь символически).
Эта идея – омыться чистыми водами – была так сильна, что я не особо обращал внимание на сгущающиеся тучи и поблескивающие в них молнии. Я не обратил внимания и на то, что на обычно многолюдном пляже в тот день почти не было народу.
Более того – никто и не купался, кроме каких-то двух-трех пловцов – их головы мерно качались вдали, подобно мячам. Причем, мячи находились за буйками.
А ближе к берегу стоял по грудь в воде православный священник с черной курчавой бородой. Он был в рясе и с крестом. Глаза его были зажмурены. Видимо, он молился. Стоя во всем облечении прямо в воде. Меня это удивило. Но не очень. Идея поскорее окунуться в воду была сильна.
И я таки, проворно раздевшись, окунулся.
Затем немного походил по ней, по воде, взад-вперед. И вышел на берег.
И тут я почувствовал недомогание.
Я почувствовал, будто все мои руки, ноги, грудь, спина, все туловище – покрылись мертвой водой. И эта смертная вода пронизывает меня до костей. Напала грусть.
И еще сильнее заблистали молнии.
Стало греметь.
Одевшись, я поскорей отправился домой. Удивляясь своим так и не оправдавшимся ожиданиям. Ведь я вроде как собирался омыться живой водой. А вместо этого – получается, пропитался как губка – мертвой.
Позже, когда я уже подходил к дому, молнии засверкали сильней и грянул грозовой дождь. Он тоже впитался в ту губку, которая уже пропиталась до того чем-то заплесневелым, и эти благотворные капли, вероятно, начали там какую-то целительную работу.
Поэтому, наверное, я не простудился всерьез. Меня только немного знобило с неделю. При этом мне было грустно. Потому что я по-прежнему чувствовал в своем теле и душе какую-то смертность.
Но я читал и читал книгу И. Чавчавадзе, невзирая на недомогание. И божественные воды его вдохновения ту печаль осушали.
Наконец, меня осенило – надо узнать про то, что нужно и чего нельзя делать в день Пророка Ильи.
Благо, что есть под рукой интернет, к которому можно всегда обратиться с вопросом. Из него я узнала, что в день пророка Ильи категорически запрещается купаться. Особенно в водоемах.
Процитирую отрывок из некой статьи про это:
"Что нельзя делать на Ильин день?
Купаться. Это, пожалуй, самый главный и наиболее известный запрет, связанный с днем святого Ильи. На Руси верили, что в Ильин день оживляется всякая нечисть, в том числе подводная. Поэтому ходить в Ильин день на реку или озеро считалось дурной приметой. Запрет на купание, кстати, распространялся и на все дни после этого праздника. В северных регионах он был связан с тем, что в это время менялась погода, вода остывала и при купании можно было заболеть. В южных регионах после 2-го августа вода в водоемах зацветала."
Нарушители этого запрета могли стать и нередко становились – утопленниками.
Правда, если человек попадал под дождь – это действовало на него целительно.
Причем, на весь год.
Так что – слава святому пророку Илье и святому праведному Илье (Чавчавадзе)! – меня, несведущего, без дождя не оставили.
Но зато и урок я получил хороший.
Настоящий, практический.
Ведь без него я, привыкший над приметами посмеиваться, проверять все умом – в запрет бы, конечно же, не поверил.
Чуть позже я узнал, что 1 августа накануне дня пророка Ильи в нашем водохранилище утонул мужчина. Видимо, это его отмаливал в тот день священник, войдя в глубину.
Знаете, в стихах «Ответ на ответ» праведный Илья отлично показал, что люди молятся – двум разным богам, а полагают – будто одному. Отчего порой у тех, кто является сынами истинного Бога, опускаются руки, потому что они – в явном меньшинстве:
Мы о народе
Твердим постоянно,
Вы ж удивляетесь нам невпопад.
Разве вы слепы?
Ведь океаны
Тоже из капель простых состоят.
Что ж вы дивитесь,
Раз мы желаем
Всех обездоленных соединить?
Вам, пустозвонам,
Злобным лентяям,
Только бы яму для общества рыть!
Да, мы устали,
Путь потеряли,
Вы же болтаетесь навеселе.
Мы несчастливы,
Вы же спесивы, –
Как нам ужиться на этой земле?
Вы клеветать
Продолжаете дальше,
Всюду безбожьем корите вы нас.
В бога неправды,
В господа фальши
Мы, безусловно, не верим сейчас.
В бога-разбойника
И лицемера,
В бога, живущего нашим горбом,
Вам, тунеядцам,
Свойственна вера,
Мы вам охотно ее отдаем.
Но в утешителя
Обремененных
И обличителя праздных людей,
В господа страждущих
И угнетенных
Не утеряли мы веры своей, –
Братство и равенство
Нам возвестившего,
Бога распятого, бога в крови,
Слабых призревшего,
Сильных язвившего,
Вами гонимого бога любви;
Всех двуязычных,
К фальши привычных
Ниспровергающего без труда,
Всех фарисеев
И саддукеев
Изобличившего раз навсегда!
Он уподобил
Смердящему гробу
Всех, кто, как вы, лицемерил в веках…
Дети обмана,
Насытив утробу,
В бога вы верите лишь на словах».
15
Вечный спор гор и долин. Странный спор людей, не вникших в диалектику Христа. Или хотя бы просто в диалектику повседневной жизни. Так спорили на Руси –интеллигенция и власть, славянофилы и западники, либералы и консерваторы, жители города и деревни… В советское время спорили даже физики и лирики. А лирики спорили – еще и между собой. Отголоски таких споров доходили и до Грузии, подхватывались тут и рождали своеобразные идеи.
Вели такой спор и поэты-соперники: «горный орел» Важа Пшавела из высокогорного Чаргали, спускавшийся в Тифлис только когда нужно было отнести в хурджине рукопись в редакцию, и проживавший в столице Акакий Церетели. Стреляли друг в друга стихотворениями. Акакий брал изяществом, Важа – меткостью.
И только Илья, обнимавший думами и горы, и долины, сочувствовал им обоим. Но не подавал виду.
Как ему было объяснить им, полным внутреннего достоинства, сильным и щедрым, что надо бы им немного уйти в себя, как уходит в себя после шторма море. Чтоб и другой мог пройти по узкой тропе к поэтическому олимпу. А проходя мимо, быть может, слегка задержаться в эфире личного пространства своего поэтического визави. И вдруг увидеть того – другими глазами.
Как было объяснить, что горы и долины все-таки сходятся. На новой высоте. Там, где совсем нет гордости. И поэтому все становится – очень простым. Интеллигент не презирает, а развивает народ. А подлинные аристократы – становятся лучшими, чтобы вести свою нацию к Свету. Из лучших же – уже можно избирать правителей. Правитель не досаждает гражданскому обществу и не делает ставку на тех, кто молчит или льстит. Города у него зелены как села, а села – похожи на города. И тут, и там промышленность вынесена за черту. Туда легко добраться на скоростном транспорте. Армия там – состоит только из защитников отечества. Потому что захватнические войны – запрещены законом. А этот международный закон защищают коллективные миротворческие силы всех без исключения государств мира. Итак, горы и долины сходятся в душе человека, когда он обретает собственную высоту. И только эта, быть может, у кого-то совсем невидимая постороннему глазу высотка может поднять над жизненными трудностями.
Такая мысленная картинка выстроилась в воображении Эрики, когда она в очередной раз обходила секторы Дома Юстиции.
Выйдя из здания, она присела на одну из лавочек в парке, через который можно было пройти к проспекту Агмашенебели, и добросовестно занесла в тетрадь сделанные сегодня шаги. Поставила тройной знак вопроса над проблемами. И невольно улыбнулась.
Да разве же это проблемы?!
Подумаешь, человек не может юридически подтвердить свою личность в документах на квартиру. В то время как целая страна может стать никем в отношении своей территории. А часть ее де-юре уже обрела такой статус после серии молниеносных референдумов в зоне проведения СВО, хотя де-факто – еще не покорена. В любой момент в нее могут войти вежливые люди в погонах и попросить освободить чужую землю. Вспомнилось, как тридцать лет назад жители Советского Союза в одночасье лишились государства. Хотя вроде бы большинство высказалось до того на референдуме за его сохранение. Причем, государство было расформировано не иноземным войском, а собственным правительством. Умный был советский народ, но – не мыслящий. Охотно верил всему. Ведь власти, для того, чтобы держаться на плаву, все время приправляли свои действиями идеологией, но не позволяли вдуматься в нее всерьез. И любая – даже потенциальная – попытка мыслить критически пресекалась на корню. Вот и пришла страна мерным шагом к концу. Фактически, самоликвидировавшись.
Была уже осень. Холод понемногу просачивался внутрь отрезвляющей микстурой. И хотелось держаться за исчезающее тепло. Эрика вспомнила, как она объясняла во время летней поездки в Мцхету, как понять, кто виноват, а кто прав, если обе стороны врут и ябедничают друг на друга.
