Золото и кровь Рима
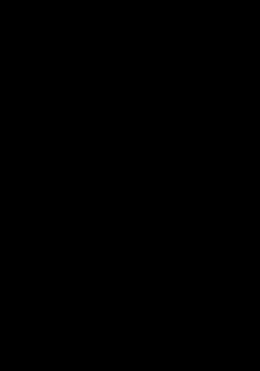
Глава 1. Песня в тумане
Густой германский туман цеплялся за древние дубы словно дыхание спящих богов, окутывая лес призрачной пеленой, сквозь которую едва проникали первые лучи рассветного солнца. Центурион Гай Кассий Лонгин вел свою центурию все глубже во вражескую территорию, его обветренное лицо несло на себе карту трех северных кампаний – шрамы, рассказывавшие истории сожженных деревень и плачущих детей. Лес наблюдал со злобным терпением, каждая тень была потенциальной могилой, каждая шелестящая ветвь – шепотом угрозы.
Серые глаза Гая методично осматривали границу леса, пока его разум ворочал воспоминания, от которых он не мог избавиться. Тяжесть центурионского виноградного жезла ощущалась все более обременительной с каждым прошедшим сезоном, нагруженная не только властью, но и накопленной виной завоеваний. Воспоминания наползали на него подобно болотному миазму: девочка с косичками, что выбежала из горящего дома и замерла от ужаса при виде римских орлов; старик, умоливший пощадить внука и получивший удар копьем в грудь; женщина, которая бросилась в реку, предпочтя смерть рабству.
Его люди следовали в дисциплинированном молчании, их подбитые гвоздями сапоги приглушенно стучали по влажной земле, но Гай чувствовал их напряжение – то, как молодой Марк слишком крепко сжимал свой пилум, как ветераны держали руки у рукояток гладиев. Это был не просто патруль, а путешествие в самое сердце варварской тьмы, где римская цивилизация встречалась с неукротимой дикостью, которая отказывалась покориться.
Густые кроны деревьев переплетались над их головами, образуя живой свод, сквозь который лишь изредка пробивались золотистые столбы света. Воздух был влажным и тяжелым, насыщенным ароматами перегнивших листьев, мха и чего-то более зловещего – запахом крови, который всегда сопровождал римские легионы в их походах. Центурион ощущал, как пот стекает по спине под кожаным панцирем, как напрягаются мышцы ног при каждом шаге по неровной лесной почве.
– Центурион, – тихо обратился к нему ветеран Луций Максим, приблизившись слева. Его лицо, изрезанное шрамами старых битв, выражало беспокойство. – Лес слишком тих. Даже птицы не поют.
Гай кивнул, не отрывая взгляда от теней между деревьями. Максим был прав – зловещая тишина окутывала их, словно сам лес затаил дыхание в ожидании чего-то страшного. Только приглушенные звуки их собственного движения нарушали эту мертвенную тишину: скрип кожи, тихое позвякивание металла, осторожные шаги по усыпанной листьями земле.
– Германцы знают, что мы идем, – прошептал Гай, крепче сжимая рукоять гладия. – Они нас ждут.
Молодой Марк, едва достигший восемнадцати лет, шел в первых рядах, его лицо было бледным под шлемом, а глаза широко распахнуты от страха и волнения. Это был его первый поход в германские земли, и Гай видел в нем самого себя много лет назад – полного решимости служить Риму, верящего в величие империи, еще не знающего, какую цену придется заплатить за эту веру.
Внезапно лес взорвался хаосом. Германский боевой клич прорвался сквозь туман подобно грому с ясного неба, и тишина мгновенно сменилась какофонией смерти. Расписанные синей краской воины выскочили из-за массивных стволов деревьев, их копья зловеще поблескивали в тусклом свете, когда они ринулись на римскую колонну. Тактический разум Гая обработал засаду за считанные мгновения – они были в меньшинстве, пойманы в ловушку, без места для маневра.
Его гладий запел, выскользнув из ножен, когда он проревел приказы, прорезавшие шум битвы:
– Строй! Щиты к щитам! Берегитесь флангов!
Молодой Марк споткнулся, подавленный первым вкусом настоящего боя, и германское копье устремилось к его сердцу. Без сознательного размышления Гай метнулся вперед, его щит принял удар, предназначенный мальчишке, в то время как его клинок нашел горло воина. Почва леса стала скользкой от крови и грязи, когда римская дисциплина столкнулась с варварской яростью, древние деревья стали свидетелями очередной главы в бесконечном цикле завоевания и сопротивления.
Германец с косматой бородой и яростными голубыми глазами занес над Гаем боевой топор, но центурион успел увернуться, и лезвие лишь скользнуло по его щиту, высекая искры. Ответный удар гладия вспорол варвару живот, и тот рухнул с предсмертным хрипом. Рядом Максим сражался с двумя противниками одновременно, его меч описывал смертельные дуги в воздухе, а с губ срывались ругательства, выученные в десятке походов.
– За Рим! За орлов! – кричал Марк, обретя наконец храбрость, его пилум пронзил грудь набрасывающегося германца.
Битва длилась вечность и мгновение одновременно. Когда последний вражеский крик затих в туманном лесу, Гай огляделся и увидел цену победы. Половина его центурии лежала мертвая или раненая среди узловатых корней. Стоны умирающих смешивались с карканьем ворон, уже слетевшихся на запах крови. Молодой Марк сидел, прислонившись к дубу, держась за рану на плече, но живой. Максим хромал, опираясь на меч, но его глаза по-прежнему горели боевым азартом.
Выжившие собрали пленников – в основном женщин и детей, которые бежали глубже в лес. Среди них выделялась Эльвина, ее золотые волосы заплетены с маленькими костями и перьями, синие глаза горели непокоренной гордостью, несмотря на связанные руки. Она не съеживалась, как другие, но встретила взгляд Гая с достоинством королевы в изгнании.
Когда она заговорила на ломаном латинском языке, благодаря его за защиту пленных женщин от грубой жестокости, которую могли проявить его люди, что-то изменилось в пространстве между ними. Ее слова не несли раболепия, только признание чести, встретившей честь через огромную пропасть их народов.
– Ты… хороший человек, – сказала она медленно, подбирая слова. – Не как другие римляне. В твоих глазах… нет жестокости.
Гай обнаружил, что смотрит в эти глаза и видит не варварскую дикарку, а человеческое существо, чья храбрость соперничает с любой римской матроной, которую он знал. Что-то в ее взгляде заставило его вспомнить собственную мать, ее нежные руки и тихие колыбельные в детстве.
– Почему ты благодаришь врага? – спросил он тихо, присев рядом с ней.
– Потому что враг тоже может быть человеком, – ответила Эльвина, не отводя взгляда. – Мой отец учил меня: есть разница между воином и убийцей. Ты – воин.
Временный римский лагерь поднялся с лесной почвы как геометрический вызов дикости – аккуратные ряды кожаных палаток, точно выкопанные сточные канавы и оборонительный периметр, говорящий о военной точности. По мере того как наступала тьма, факелы отбрасывали танцующие тени, в то время как стоны раненых создавали симфонию страдания.
Гай обходил лагерь с методичной заботой кадрового солдата, проверяя часовых и осматривая пленников. Римские медики склонялись над ранеными, их руки были в крови, лица сосредоточенны. Запах горящего дерева смешивался с металлическим привкусом крови и более тонкими ароматами лесных трав, которые использовали для лечения ран.
Германские пленники сгрудились возле небольшого костра, их лица были выжжены горем и страхом за неопределенное будущее. Дети цеплялись за матерей, их глаза широко распахнуты от ужаса. Старшие женщины шептали молитвы забытым богам, их голоса были тихими, как шелест листьев.
Именно тогда он услышал это – мелодию такой пронзительной красоты, что она остановила его как вкопанного. Эльвина сидела рядом с умирающим германским мальчиком, возможно, десяти лет, напевая колыбельную на родном языке. Ноты поднимались и опускались как молитва забытым богам, неся в себе всю печаль и любовь народа, который отказывался сдать свою человечность даже в поражении.
Мальчик был ранен в живот – рана смертельная, и они оба это знали. Его маленькая рука слабо сжимала ее пальцы, пока она пела, ее голос дрожал от сдерживаемых слез. Слова были чужими для Гая, но мелодия…
Колыбельная пронзила броню римской уверенности Гая подобно стреле, нашедшей цель. Мелодия была болезненно знакомой – та же самая песня, которую его собственная мать пела ему в их маленькой вилле под Равенной, когда лихорадка мучила его детское тело и смерть казалась близкой. Но как варварская песня может совпадать с римской материнской любовью?
Мальчик в руках Эльвины испустил последний вздох, когда она завершила финальный куплет, и она закрыла ему глаза с бесконечной нежностью, прежде чем посмотреть вверх и обнаружить наблюдающего Гая. В этот момент, окруженная обломками войны и стонами раненых, он увидел истину, которую римская пропаганда скрывала от него. Эта женщина обладала теми самыми добродетелями, которые римляне считали своим правом – состраданием, достоинством, любовью к семье, храбростью перед лицом подавляющих препятствий.
– Он был сыном моей сестры, – тихо сказала Эльвина, не сводя глаз с лица мертвого ребенка. – Его звали Бертольд. Он хотел стать воином, как его отец. Теперь он никогда не вырастет.
Гай почувствовал, как что-то сжимается в его груди. Он видел много смертей, но смерть этого ребенка, в объятиях женщины, которая пела ему ту же колыбельную, что и его мать, потрясла его до основания.
– Прости, – прошептал он на латыни, не зная, поймет ли она.
– Ты не убивал его, – ответила Эльвина, поднимая на него глаза, полные слез. – Но твои люди убили его отца. Его деда. Его дядю. Всех мужчин нашего племени.
Неспособный заснуть, Гай обнаружил, что его снова тянет туда, где Эльвина сидела в безмолвном бдении над мертвым мальчиком. Она подняла взгляд, когда он приблизился, и долгое мгновение они просто смотрели друг на друга через пропасть их разных миров.
– Расскажи мне о своем народе, – попросил он, садясь напротив нее у костра. – Не то, что говорят в Риме. Правду.
Эльвина долго молчала, изучая его лицо в свете пламени. Наконец она заговорила, ее голос был тихий, но твердый:
– Мы верим, что лес живой. Каждое дерево, каждый камень, каждый ручеек имеет душу. Мы берем только то, что нам нужно, и благодарим за это. Наши герои – не те, кто убивает больше всех, а те, кто защищает слабых, кто выбирает честь вместо выживания.
Она рассказала ему о своем брате, воине-поэте, который погиб, защищая их деревню, и о своей дочери, едва начинавшей ходить, спрятанной теперь в глубоком лесу с другими детьми. Ее голос никогда не дрожал, но слезы прокладывали серебристые дорожки по ее щекам в свете факелов.
– А что римляне говорят о нас? – спросила она.
– Что вы дикари. Что у вас нет законов, нет богов, нет чести. Что вы живете как звери в лесу, – честно ответил Гай.
Эльвина горько рассмеялась.
– И все же кто из нас держит детей в цепях? Кто продает матерей как скот? Кто сжигает дома стариков ради золота?
Гай почувствовал, как его мир начинает рушиться. Всю жизнь ему говорили, что Рим несет цивилизацию диким народам, что их завоевания – это священная миссия. Но сидя здесь, слушая эту женщину, он видел другую картину.
– У нас есть законы, – продолжала Эльвина. – Закон гостеприимства – даже врага нужно накормить, если он пришел с миром. Закон защиты – сильный должен защищать слабого. Закон справедливости – за зло нужно отвечать, но невинных нельзя наказывать за чужие грехи.
– Тогда почему вы воюете с нами? – спросил Гай.
– Потому что вы пришли с мечами, а не с хлебом. Потому что вы берете наших детей в рабство. Потому что ваши боги требуют нашей земли, а наши боги говорят защищать ее, – ее голос стал тверже. – Мы не хотели войны. Но когда волк приходит в овчарню, пастух должен защищать стадо.
Гай нашел себя говорящим о своих собственных сомнениях, своем растущем отвращении к бесконечному циклу завоевания и резни, которых Рим требовал от своих солдат. Он рассказал о деревнях, которые видел горящими, о детях, плачущих над телами родителей, о стариках, умолявших о милосердии и не получавших его.
– Иногда я смотрю в зеркало и не узнаю человека, который смотрит в ответ, – признался он. – Когда я был мальчиком, я мечтал стать героем, как мой отец. Но герои защищают невинных, не убивают их.
– Твой отец был хорошим человеком? – спросила Эльвина мягко.
– Лучшим из тех, кого я знал. Он погиб, защищая караван от разбойников. Мирные торговцы, женщины, дети – он отдал жизнь за незнакомцев, – глаза Гая затуманились от воспоминаний.
– Тогда ты знаешь разницу между воином и убийцей. Воин защищает. Убийца просто берет, – сказала Эльвина. – Вопрос в том, кем ты хочешь быть?
Когда рассвет пробился серым и холодным сквозь полог леса, Гай стоял на краю лагеря, наблюдая, как дым поднимается от далеких германских поселений – еще больше деревень, которые падут под римской экспансией, еще больше семей, разорванных во имя цивилизации. Колыбельная все еще звучала в его голове, мучительное напоминание о том, что люди, которых его учили видеть как диких зверей, в действительности не отличались от римлян в своей способности любить, горевать и надеяться.
Тихое достоинство Эльвины разрушило что-то фундаментальное в его мировоззрении, заставив его столкнуться с неудобным вопросом: в своем неустанном стремлении принести порядок в мир, не стали ли римляне теми самыми варварами, против которых они, как утверждали, сражались? Убеждения, которые когда-то направляли его шаги, теперь ощущались как кандалы, и впервые в своей карьере центурион Гай Кассий Лонгин задался вопросом, всегда ли долг и честь – одно и то же.
Лес, казалось, затаил дыхание вокруг него, ожидая увидеть, какой выбор он сделает, когда наступит момент решения. Где-то в глубине чащи плакал ребенок – возможно, дочь Эльвины, спрятанная среди корней древних дубов. Этот плач звучал как обвинение, как напоминание о цене римского величия, оплаченной кровью и слезами тех, кто просто хотел жить в мире со своими богами и своей землей.
Центурион сжал рукоять гладия, чувствуя, как холодный металл обжигает ладонь. Впереди лежала дорога в Рим, где его ждали награды за успешный поход. Позади остались пепел и скорбь, свидетельства римской мощи. А в его сердце звучала варварская колыбельная, которая была такой же, как та, что пела ему мать – напоминание о том, что под броней и знаменами, под гордыней империй и яростью племен, бьются одинаковые человеческие сердца.
Глава 2. Пепел на ветру
Серое утро медленно пробиралось сквозь густые ветви древних германских лесов, окрашивая римский лагерь в тусклые оттенки свинца и олова. Гай Кассий Лонгин завершал свой обычный обход, проверяя загоны с пленными варварами, но сегодня каждый его шаг отдавался тяжелой поступью в груди. Колыбельная Эльвины все еще звучала в его ушах, словно призрачная мелодия, которая никак не желала покидать его разум. Во сне он снова и снова видел умирающего мальчика, чьи глаза потухали под нежными звуками материнской песни.
Пленники сидели, тесно прижавшись друг к другу в своем импровизированном загоне, окруженном острыми кольями и конской проволокой. Их лица, измученные усталостью и горем, несли на себе отпечатки недавней трагедии. Женщины качали на руках маленьких детей, мужчины молча разглядывали свои связанные руки, старики шептали что-то на своем гортанном языке. Гай заметил, как Эльвина сидела несколько в стороне от остальных, ее светлые волосы развевались на утреннем ветру, а голубые глаза смотрели куда-то далеко за пределы римского лагеря.
"Центурион!" – окликнул его грубый голос. Гай обернулся и увидел приближающегося Марка Руфа, чье широкое лицо было оживлено предвкушением грядущих событий. Шрам, пересекающий его левую щеку от виска до подбородка, придавал ему особенно свирепый вид в утреннем свете. "Прекрасное утро для войны, не правда ли? Воздух пахнет победой и славой!"
Марк размашисто шагал по лагерю, его тяжелые калиги оставляли глубокие отпечатки в размягченной дождем земле. За плечами у него висел двойной топор – трофей с одной из предыдущих кампаний, который он демонстративно носил как символ своей свирепости. "Слышал, что сегодня должны прийти новые приказы из Рима. Наконец-то император вспомнил о нас, забытых богами легионерах!" Он расхохотался, обнажив зубы, один из которых был сколот в какой-то давней драке.
Гай кивнул, стараясь придать своему лицу выражение, подобающее римскому офицеру, но внутри его что-то болезненно сжималось. "Да, приказы всегда приходят вовремя," – пробормотал он, наблюдая за игрой легионеров в кости неподалеку. Их смех и проклятия разносились по лагерю, смешиваясь с ржанием лошадей и лязгом оружия.
"Надеюсь, нам наконец-то позволят закончить то, что мы начали," – продолжал Марк, потирая рукоять своего меча. "Эти варвары слишком долго дышат нашим воздухом. Пора показать им истинную мощь Рима!" Его глаза загорелись знакомым огнем жестокости, который Гай знал с детских лет. Они росли вместе, тренировались вместе, вместе принимали присягу, но с каждым годом пропасть между ними становилась все шире.
Солдаты методично проверяли свое оружие и снаряжение с профессиональной тщательностью, которая приходит только с многолетним опытом. Звон металла о металл создавал особую утреннюю симфонию военного лагеря. Один легионер натачивал свой гладиус на точильном камне, другой проверял пряжки на лорике, третий чистил наконечник пилума от ржавчины.
Когда Гай снова посмотрел в сторону пленников, его взгляд встретился с глазами Эльвины. В этом кратком мгновении он почувствовал что-то неописуемое – словно два человека, стоящие на противоположных берегах бурной реки, протянули друг другу руки через непреодолимую пропасть. Ее взгляд не содержал ни ненависти, ни страха, а только глубокую, почти философскую печаль, которая проникала прямо в сердце.
"Гай, ты меня слушаешь?" – резко спросил Марк, заметив рассеянность друга. "О чем ты думаешь? Надеюсь, не о этих диких зверях?" Он презрительно кивнул в сторону загона с пленниками. "Помни, они всего лишь препятствие на пути к нашей славе. Чем быстрее мы их уберем, тем скорее получим заслуженные награды."
Гай почувствовал, как его желудок сжимается от отвращения к словам лучшего друга, но внешне сохранил невозмутимость. "Конечно, Марк. Я думаю о тактике предстоящей операции. Важно все продумать до мелочей."
"Вот это правильно!" – одобрительно хлопнул его по плечу Марк. "Именно такой подход и делает из нас непобедимых. Варвары могут быть храбрыми, но у них нет нашей дисциплины и стратегического мышления. Они как дикие звери – опасные в одиночку, но беспомощные против организованной силы."
В этот момент через весь лагерь пронесся звук буцины, призывающей всех офицеров к командирскому шатру. Гай почувствовал, как учащается его пульс – этот сигнал означал прибытие важных приказов. Марк радостно потер руки и устремился к центру лагеря широкими, уверенными шагами.
Кожаный командирский шатер источал смешанный аромат масляных ламп, немытых тел и кислого вина. Внутри собрались все центурионы и старшие офицеры легиона, их суровые лица были обращены к легату Квинту, который стоял у походного стола с развернутым свитком в руках. Восковые печати императора, красные как запекшаяся кровь, свисали с пергамента тяжелыми каплями.
"Товарищи по оружию," – начал легат своим хриплым голосом, поврежденным годами командования в пыльных походах. "Сегодня до нас дошла воля божественного императора Домициана Третьего, да будет славен его род вовеки!" Офицеры синхронно выпрямились, готовые выслушать слова своего повелителя.
Квинт развернул свиток полностью, и треск пергамента прозвучал в тишине шатра как сухой хруст ломающихся костей. "Его величество повелевает: племя, к которому принадлежат наши пленники, должно быть полностью искоренено. Не должно остаться ни одного мужчины, способного держать оружие, ни одной женщины, способной родить врага, ни одного ребенка, который мог бы вырасти и отомстить за своих предков."
Слова императора, облеченные в клинически точные формулировки военного приказа, повисли в воздухе шатра как ядовитые испарения. "Тотальное замирение," "ликвидация племенного ядра," "очищение территориальных угроз" – каждый термин был тщательно подобран, чтобы скрыть чудовищную суть приказа за фасадом военной необходимости.
Гай почувствовал, как кровь отливает от его лица, а руки непроизвольно начинают дрожать. Перед его внутренним взором снова возник образ умирающего мальчика в объятиях Эльвины, звуки той нежной колыбельной, полной материнской любви и безграничной печали. Как можно убивать детей, которые даже не понимают, что такое война?
Напротив, Марк Руф весь преобразился. Его рубцеватое лицо расплылось в хищной улыбке, глаза загорелись предвкушением кровавой работы. Он уже подсчитывал в уме количество голов, которые сможет снести, и представлял себе награды, которые принесет такая эффективность. "Наконец-то достойное задание!" – прошептал он своему соседу, потирая руки в предвкушении грядущей резни.
"Центурион Гай Кассий Лонгин," – произнес легат, и все взгляды обратились к нему. "Учитывая ваш богатый опыт проведения сложных операций в северных территориях, на вас возлагается основная ответственность за выполнение императорского приказа. Ваша центурия поведет атаку на главное поселение племени."
Гай почувствовал, как земля уходит у него из-под ног. Двадцать лет безупречной службы, двадцать лет следования приказам без вопросов – и вот к чему это привело. Он должен стать палачом детей, убийцей невинных, воплотить в жизнь чудовищную волю императора. "Да, легат," – услышал он собственный голос как будто со стороны. "Я выполню приказ."
"Превосходно," – кивнул Квинт. "Операция должна быть проведена максимально быстро и эффективно. Никого не оставлять в живых, никому не позволять скрыться в лесах. Это будет уроком для всех варварских племен, которые осмеливаются противостоять римской мощи."
Когда совещание закончилось и офицеры начали расходиться, Гай остался стоять как вкопанный, пытаясь осмыслить только что услышанное. Его разум лихорадочно искал выходы из этой невозможной ситуации, но каждый сценарий приводил либо к предательству Рима, либо к участию в массовом убийстве.
"Легат," – внезапно произнес он, удивив себя собственной решимостью. "Прошу разрешения провести дополнительную разведку местности перед основной операцией. Мне необходимо выявить возможные пути отступления противника и скрытые укрепления."
Квинт поднял бровь, слегка удивленный такой предосторожностью от опытного офицера. "Разведка? Для операции против безоружных женщин и детей?"
"Именно поэтому мне и нужно время," – быстро ответил Гай, стараясь сохранить уверенность в голосе. "Если хотя бы один ребенок скроется в лесной чаще, это будет означать неполное выполнение императорского приказа. Я прошу два дня на подготовку, чтобы гарантировать стопроцентный успех операции."
Марк Руф бросил на друга любопытный взгляд. С каких это пор Гай требует дополнительное время для подготовки к тому, что должно быть простой резней? Обычно он действовал быстро и решительно, не размышляя над деталями. Но легат уже кивал в знак согласия.
"Хорошо, центурион. У вас есть два дня. Используйте их максимально эффективно. Третьего дня на рассвете мы начинаем операцию." Квинт свернул императорский свиток и спрятал его в кожаный футляр. "Помните – глаза императора следят за нами даже в этих диких лесах."
Когда офицеры расходились по своим обязанностям, Гай заметил, как Эльвина смотрит на него сквозь брезентовую стенку шатра. Каким-то образом она сумела подобраться достаточно близко, чтобы слышать хотя бы часть происходившего внутри. Их взгляды встретились на мгновение, и в ее глубоких синих глазах он увидел не обвинение или страх, а странное понимание – словно она уже знала, какой выбор он сделает, и скорбела о цене, которую им обоим придется за это заплатить.
Весь оставшийся день Гай провел в состоянии мучительного внутреннего конфликта. Он выдавал приказы своим людям, проверял снаряжение, обсуждал с другими центурионами детали предстоящей операции, но его мысли постоянно возвращались к императорскому приказу и к лицу Эльвины. Каждое произнесенное им слово о тактике и стратегии казалось ему предательством по отношению к самому себе.
Солдаты его центурии с привычным профессионализмом готовились к предстоящему заданию. Они точили мечи до бритвенной остроты, проверяли крепления на щитах, приводили в порядок свои лорики. Для них это была обычная работа – еще одна операция в череде бесконечных кампаний, которые создавали и поддерживали римскую мощь.
"Центурион," – обратился к нему седой ветеран по имени Тиберий, служивший под его командованием уже много лет. "Мужчины спрашивают о характере предстоящей операции. Стоит ли ожидать серьезного сопротивления?"
Гай посмотрел в честные глаза старого солдата, который доверял ему как отцу. Тиберий прошел с ним через множество сражений, никогда не подвергая сомнению его приказы, всегда готовый следовать за своим командиром в самый ад. "Сопротивления не будет," – тихо ответил Гай. "Это будет… зачистка."
Ветеран кивнул, не задавая лишних вопросов. В его понимании военная служба не предполагала моральных дилемм – есть приказ, есть исполнение. Все остальное было лишними размышлениями, которые только мешают делу.
Когда солнце наконец скрылось за верхушками древних дубов и елей, Гай почувствовал, что больше не может сдерживать внутреннее напряжение. Он нуждался в разговоре – не с солдатом или офицером, а с человеком, который мог бы понять всю глубину его мучений. И единственным таким человеком в этом проклятом лагере была его пленница.
Ночь спустилась на лес как погребальный саван, окутывая римский лагерь плотной темнотой, которую лишь слегка разгоняли факелы и костры. Гай обнаружил Эльвину сидящей у небольшого огонька, который стражи позволили разжечь пленникам для тепла. Ее профиль, освещенный танцующими языками пламени, напоминал древнюю скульптуру, высеченную из камня мастером, влюбленным в красоту.
Остальные пленники расположились поодаль, некоторые спали, свернувшись клубочками на холодной земле, другие тихо шептались между собой на своем мелодичном языке. Охранники дремали у своих постов, убаюканные монотонным потрескиванием поленьев и далекими звуками ночного леса.
Когда Гай приблизился, Эльвина не вздрогнула и не попыталась отступить. Она просто подняла голову и посмотрела на него теми невероятно ясными глазами, которые, казалось, видели гораздо больше, чем положено обычному человеку. В свете костра ее волосы переливались золотистыми и медными оттенками, напоминая осенние листья под последними лучами заходящего солнца.
"Я знала, что ты придешь," – тихо сказала она, и ее голос прозвучал в ночной тишине как струна хорошо настроенной арфы. "Твои глаза сегодня говорили громче, чем слова."
Гай присел рядом с ней, соблюдая осторожную дистанцию, но достаточно близко, чтобы видеть игру света и тени на ее лице. "Откуда ты знаешь латынь?" – спросил он, внезапно осознав, что они общаются на языке завоевателей.
"Мой отец торговал с римскими купцами, приходившими в наши земли за мехами и янтарем," – ответила она, глядя в огонь. "Он говорил, что знание языка врага – это оружие, которое может быть острее любого меча. Теперь я понимаю, что он имел в виду."
Ее слова несли в себе особый смысл, который заставил Гая внимательнее вглядеться в ее черты. Это была не просто варварская девушка, захваченная в плен во время набега. В ее манере держаться, в ее речи, в том, как она смотрела на мир, чувствовались образование и мудрость, которые редко встречались даже среди римской знати.
"Расскажи мне о своем народе," – попросил он, сам не понимая, что заставляет его искать эти знания. "Кто вы? Откуда пришли? Почему сопротивляетесь Риму?"
Эльвина долго молчала, наблюдая за тем, как языки пламени лижут сухие поленья. Затем она заговорила, и ее голос зазвучал как древняя песнь, полная печали и красоты.
"Мы – дети леса, Гай из Рима. Наши предки жили в этих землях тысячу зим, когда твой великий город был еще кучкой хижин на семи холмах. Мы знаем каждое дерево, каждый ручей, каждую тропинку. Лес кормит нас, укрывает нас, дарит нам материал для домов и лодок. Мы берем только то, что нам необходимо, и всегда благодарим духов за их дары."
Она протянула руку к огню, позволяя теплу коснуться ее ладони. "Наши мудрецы учат, что все живое связано невидимыми нитями. Убей волка – и олени съедят все молодые побеги. Вырежи слишком много деревьев – и реки обмелеют. Уничтожь одно племя – и страдать будут все остальные. Мы не понимаем, как можно жить, не зная этих простых истин."
Гай слушал, завороженный ее словами. В описании жизни ее народа было что-то, чего он никогда не встречал в римской цивилизации – гармония, равновесие, понимание того, что человек является частью более великого целого. Римляне брали, завоевывали, подчиняли, но редко задумывались о последствиях своих действий для мира в целом.
"А ваши воины?" – спросил он. "Почему они сражаются с нами, если знают, что мы сильнее?"
"Они сражаются не потому, что ненавидят Рим," – ответила Эльвина, и в ее голосе прозвучала глубокая грусть. "Они сражаются, потому что любят свои семьи. Мой брат Альрик погиб, защищая нашу деревню не от ненависти к твоим солдатам, а от любви к своей маленькой дочери, которая только начала делать первые шаги. Он знал, что умрет, но надеялся, что его смерть даст ей хотя бы еще один день жизни."
Ее слова ударили Гая как удар молнии. Он всегда видел в варварах диких зверей, которые нападают на римские поселения из жестокости и жадности. Но оказывается, они защищали то же самое, что защищал бы любой римлянин – свой дом, свою семью, свое право на существование.
"Сегодня пришел приказ из Рима," – сказал он внезапно, сам удивившись собственной откровенности. Слова вырвались из него помимо воли, как будто долго сдерживаемая плотина наконец прорвалась.
Эльвина повернулась к нему всем телом, и в свете костра он увидел, как ее лицо побледнело. "Какой приказ?"
"Полное уничтожение твоего племени. Мужчин, женщин, детей. Никого не оставлять в живых." Каждое слово причиняло ему физическую боль, но он не мог остановиться. "Император хочет сделать пример для других варварских народов."
Он ожидал увидеть страх, отчаяние, может быть, слезы. Но Эльвина просто закрыла глаза и глубоко вздохнула, словно получила подтверждение тому, что уже знала в глубине души. Когда она снова посмотрела на него, в ее взгляде не было ни упрека, ни мольбы – только бесконечная печаль, которая проникала прямо в сердце.
"Я понимала, что этот день придет," – тихо сказала она. "С тех пор как ваши легионы перешли реку, я знала, что наш народ обречен. Рим не знает пощады к тем, кто осмеливается сопротивляться его воле."
"Эльвина…" – начал Гай, но она подняла руку, останавливая его.
"Нет, дай мне сказать. Я хочу, чтобы ты знал, что мы не просим пощады для себя. Мы знаем законы войны, знаем, что побежденные не имеют права на милосердие. Но дети… дети не выбирали эту войну. Моя племянница Ингрид только недавно научилась говорить. Она называет всех птичек 'песенками' и смеется, когда ветер качает ветви деревьев. Какую угрозу она может представлять для твоей великой империи?"
Голос ее дрожал, но не ломался. Эльвина сохраняла достоинство даже перед лицом неизбежной катастрофы. "А маленький Торальд, сын нашего кузнеца? Ему всего четыре года, но он уже пытается помогать отцу в кузнице. Он хочет стать великим мастером, как дед и прадед. Скажи мне, римлянин, чем эти дети заслужили смерть?"
Гай почувствовал, как внутри него что-то окончательно ломается. Образы детей, которых описывала Эльвина, смешивались в его воображении с лицами римских детей, которых он видел на улицах Рима – смеющихся, играющих, полных надежд и мечтаний. Как можно убивать одних и защищать других только потому, что они родились по разную сторону границы?
