Истории, полные ужаса и тайн
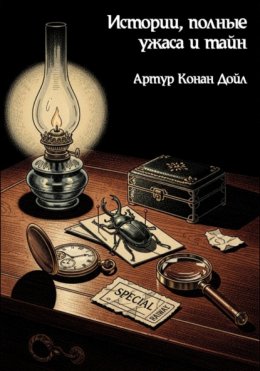
Ужас небесных высот
Мысль о том, что необычайное повествование, известное как «Фрагмент Джойса-Армстронга», – это всего лишь искусная мистификация, созданная кем-то, обладающим извращённым и зловещим чувством юмора, теперь оставлена всеми, кто занимался этим вопросом. Даже самый мрачный и изобретательный мистификатор не решился бы связать свои болезненные фантазии с бесспорными и трагическими фактами, подтверждающими это повествование. И хотя содержащиеся в нём утверждения поразительны и даже чудовищны, всё более очевидной становится их правдивость, и нам приходится приспосабливать свои представления к новой реальности. Наш мир, по-видимому, отделён от самой необычной и неожиданной опасности лишь тонкой и шаткой гранью. В этом рассказе, воспроизводящем оригинальный документ в его неизбежно фрагментарной форме, я постараюсь изложить читателю все известные на сегодняшний день факты, предваряя своё изложение заявлением о том, что, если и найдутся сомневающиеся в повествовании Джойса-Армстронга, то факты, касающиеся лейтенанта Миртла из Королевского флота и мистера Хэя Коннора, которые, несомненно, встретили свой конец описанным образом, сомнению не подлежат.
«Фрагмент Джойса-Армстронга» был найден в поле под названием Лоуэр-Хэйкок, в миле к западу от деревушки Уитиэм, на границе графств Кент и Сассекс. Пятнадцатого сентября прошлого года сельскохозяйственный рабочий Джеймс Флинн, состоявший на службе у Мэтью Додда, фермера с фермы Чонтри в Уитиэме, заметил вересковую трубку, лежавшую у тропинки, что вьётся вдоль живой изгороди в Лоуэр-Хэйкоке. Пройдя ещё несколько шагов, он подобрал сломанный бинокль. Наконец, в зарослях крапивы в канаве он увидел плоскую записную книжку в парусиновой обложке. Листы в ней были съёмными, и некоторые из них вырвались и трепетали на ветру у основания изгороди. Он собрал их, но несколько страниц, включая первую, так и не были найдены, что оставляет прискорбную лакуну в этом важнейшем документе. Рабочий отнёс записную книжку своему хозяину, который, в свою очередь, показал её доктору Дж. Х. Атертону из Хартфилда. Этот джентльмен сразу понял необходимость экспертного заключения, и рукопись была отправлена в Аэроклуб в Лондоне, где и хранится поныне.
Первые две страницы рукописи отсутствуют. Ещё одна вырвана в конце повествования, хотя это и не нарушает общей связности истории. Предполагается, что на недостающих начальных страницах говорилось о квалификации мистера Джойса-Армстронга как аэронавта, которую можно установить и из других источников и которая, по общему признанию, является непревзойдённой среди авиаторов Англии. В течение многих лет его считали одним из самых отважных и интеллектуальных пилотов – сочетание, позволившее ему как изобрести, так и испытать несколько новых устройств, включая распространённый гироскопический стабилизатор, носящий его имя. Основная часть рукописи аккуратно написана чернилами, но последние несколько строк набросаны карандашом и настолько неразборчивы, что их едва можно прочесть, – именно так они и должны были бы выглядеть, будь они наспех написаны в кабине движущегося аэроплана. Следует добавить, что как на последней странице, так и на обложке имеются несколько пятен, которые эксперты Министерства внутренних дел признали кровью – вероятно, человеческой и, несомненно, принадлежащей млекопитающему. Тот факт, что в этой крови было обнаружено нечто, очень напоминающее возбудителя малярии, а также то, что Джойс-Армстронг, как известно, страдал от перемежающейся лихорадки, является поразительным примером того, какое новое оружие современная наука вручила нашим сыщикам.
А теперь несколько слов о личности автора этого эпохального документа. Джойс-Армстронг, по словам тех немногих друзей, кто действительно его знал, был поэтом и мечтателем, равно как и механиком и изобретателем. Он был человеком весьма состоятельным и значительную часть своего богатства потратил на своё увлечение – аэронавтику. В его ангарах близ Девайзеса стояли четыре личных аэроплана, и говорят, что за прошлый год он совершил не менее ста семидесяти подъёмов в воздух. Он был человеком замкнутым, склонным к мрачным настроениям, во время которых избегал общества. Капитан Дэнджерфилд, знавший его лучше всех, говорит, что временами его эксцентричность грозила перерасти во что-то более серьёзное. Одной из её манифестаций была привычка брать с собой в аэроплан дробовик.
Другой – то болезненное впечатление, которое произвела на него гибель лейтенанта Миртла. Миртл, пытавшийся установить рекорд высоты, упал с высоты более тридцати тысяч футов. Ужасно сказать, но его голова была полностью уничтожена, хотя тело и конечности сохранили свою форму. По словам Дэнджерфилда, на каждой встрече авиаторов Джойс-Армстронг с загадочной улыбкой спрашивал: «А скажите, пожалуйста, где голова Миртла?»
В другой раз, после ужина в офицерском собрании Лётной школы на равнине Солсбери, он затеял спор о том, какая опасность станет для авиаторов самой серьёзной в будущем. Выслушав мнения о воздушных ямах, дефектах конструкции и чрезмерном крене, он в конце концов пожал плечами и отказался высказать собственную точку зрения, хотя и создал впечатление, что она отличается от всех предложенных его товарищами.
Стоит отметить, что после его собственного исчезновения выяснилось, что все его личные дела были приведены в такой безупречный порядок, который мог свидетельствовать о сильном предчувствии катастрофы. С этими необходимыми пояснениями я теперь приведу повествование в том виде, в каком оно есть, начиная с третьей страницы пропитанной кровью записной книжки:
«Тем не менее, когда я ужинал в Реймсе с Козелли и Густавом Раймоном, я обнаружил, что ни один из них не подозревал о какой-либо особой опасности в верхних слоях атмосферы. Я не сказал прямо, что у меня на уме, но подошёл к этому так близко, что, будь у них схожие мысли, они бы не преминули их высказать. Но они – всего лишь два пустых, тщеславных хвастуна, чьи помыслы не простираются дальше лицезрения своих глупых имён в газетах. Интересно отметить, что ни один из них никогда не поднимался намного выше отметки в двадцать тысяч футов. Разумеется, люди бывали и выше – как на воздушных шарах, так и при восхождении на горы. Зона опасности для аэроплана должна начинаться значительно выше этой точки – если, конечно, мои предчувствия верны.
Аэропланы существуют уже более двадцати лет, и можно было бы спросить: почему эта опасность проявляется только в наши дни? Ответ очевиден. В былые времена слабых двигателей, когда стосильный «Гном» или «Грин» считался достаточным для любых нужд, полёты были весьма ограниченны. Теперь, когда триста лошадиных сил – скорее правило, чем исключение, полёты в верхние слои атмосферы стали проще и чаще. Некоторые из нас помнят, как в юности Гаррос снискал мировую славу, достигнув девятнадцати тысяч футов, а перелёт через Альпы считался выдающимся достижением. Наши стандарты теперь неизмеримо выросли, и на один высотный полёт тех лет приходится двадцать нынешних. Многие из них совершались безнаказанно. Отметку в тридцать тысяч футов достигали снова и снова, не испытывая иного дискомфорта, кроме холода и одышки. Что это доказывает? Пришелец мог бы тысячу раз спускаться на эту планету и ни разу не увидеть тигра. И всё же тигры существуют, и, окажись он случайно в джунглях, его могли бы сожрать. Существуют джунгли верхних слоёв атмосферы, и в них обитают твари похуже тигров. Я верю, что со временем эти джунгли нанесут на карты с большой точностью. Даже сейчас я мог бы назвать два из них. Одни простираются над районом По – Биарриц во Франции. Другие – прямо у меня над головой, пока я пишу эти строки в своём доме в Уилтшире. И я склонен думать, что есть и третьи, в районе Гомбург – Висбаден.
Именно исчезновения авиаторов заставили меня задуматься. Конечно, все говорили, что они упали в море, но меня это совершенно не удовлетворяло. Сначала был Веррье во Франции; его машину нашли возле Байонны, но тела так и не обнаружили. Был случай с Бакстером, который тоже исчез, хотя его двигатель и некоторые металлические крепления были найдены в лесу в Лестершире. В том случае доктор Миддлтон из Эймсбери, наблюдавший за полётом в телескоп, утверждал, что прямо перед тем, как облака скрыли аэроплан из виду, он видел, как машина, находясь на огромной высоте, внезапно устремилась вертикально вверх серией рывков, что ему показалось невозможным. Больше Бакстера никто не видел. В газетах была переписка, но она ни к чему не привела. Было ещё несколько подобных случаев, а потом – смерть Хэя Коннора. Сколько было шума о неразгаданной тайне воздуха, сколько колонок в бульварных газетах, и как же мало было сделано, чтобы докопаться до сути! Он спустился в стремительном планировании с неизвестной высоты. Он так и не покинул свою машину и умер в кресле пилота. Умер от чего? «Сердечный приступ», – сказали врачи. Вздор! Сердце Хэя Коннора было таким же здоровым, как моё. Что сказал Венейблс? Венейблс был единственным, кто находился рядом с ним, когда он умирал. Он сказал, что того била дрожь, и выглядел он как человек, которого сильно напугали. «Умер от страха», – сказал Венейблс, но не мог себе представить, что его напугало. Умирающий сказал Венейблсу лишь одно слово, которое прозвучало как «чудовищно». На дознании из этого ничего не смогли извлечь. Но я смог. Чудовища! Вот что было последним словом бедняги Гарри Хэя Коннора. И он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО умер от страха, как и думал Венейблс.
А ещё голова Миртла. Вы действительно верите – кто-нибудь действительно верит, – что голову человека могло силой удара вогнать в его же тело? Что ж, возможно, это и так, но я, например, никогда не верил, что с Миртлом произошло именно это. А жир на его одежде – «весь в какой-то склизкой смазке», – сказал кто-то на дознании. Странно, что после этого никто не задумался! А я задумался – но я к тому времени думал уже давно. Я совершил три подъёма – как же Дэнджерфилд потешался над моим дробовиком! – но ни разу не забирался достаточно высоко. Теперь, с этой новой, лёгкой машиной Поля Вероне и её ста семидесяти пяти сильным «Робуром», я завтра с лёгкостью доберусь до тридцати тысяч. Попытаюсь побить рекорд. А может, поохочусь и на кое-что другое. Конечно, это опасно. Если кто-то хочет избежать опасности, ему лучше вообще держаться подальше от полётов и в итоге закончить свои дни во фланелевых тапочках и халате. Но завтра я посещу воздушные джунгли – и если там что-то есть, я об этом узнаю. Если вернусь, стану знаменитостью. Если нет – эта записная книжка, возможно, объяснит, что я пытался сделать и как погиб, совершая это. Но, пожалуйста, никаких бредней о несчастных случаях или тайнах.
Для этого дела я выбрал свой моноплан «Поль Вероне». Нет ничего лучше моноплана, когда предстоит настоящая работа. Бомон понял это ещё на заре авиации. Во-первых, он не боится сырости, а погода, похоже, будет облачной всё время. Это славная маленькая модель, и она слушается моей руки, как чуткая лошадь. Двигатель – десятицилиндровый ротативный «Робур», выдающий до ста семидесяти пяти лошадиных сил. В нём есть все современные усовершенствования – закрытый фюзеляж, высоко изогнутые посадочные полозья, тормоза, гироскопические стабилизаторы и три скорости, переключаемые изменением угла плоскостей по принципу жалюзи. Я взял с собой дробовик и дюжину патронов, заряженных картечью. Видели бы вы лицо Перкинса, моего старого механика, когда я велел ему положить их в кабину. Я оделся как полярный исследователь: два свитера под комбинезоном, толстые носки в утеплённых ботинках, штормовая шапка с ушами и мои слюдяные очки. Снаружи ангаров было душно, но я собирался на вершину Гималаев и должен был одеться соответственно. Перкинс знал, что что-то затевается, и умолял меня взять его с собой. Возможно, я бы и взял, будь у меня биплан, но моноплан – это машина для одного, если хочешь выжать из неё всё до последней капли. Конечно, я взял кислородный мешок; тот, кто отправляется за рекордом высоты без него, будет либо заморожен, либо задохнётся – или и то и другое.
Перед тем как сесть в кабину, я хорошенько осмотрел плоскости, руль направления и рычаг руля высоты. Насколько я мог судить, всё было в порядке. Затем я включил двигатель и убедился, что он работает ровно. Когда машину отпустили, она почти сразу поднялась на самой низкой скорости. Я сделал пару кругов над своим аэродромом, чтобы прогреть её, а затем, помахав Перкинсу и остальным, выровнял плоскости и включил высшую скорость. Она неслась по ветру, как ласточка, миль восемь или десять, пока я не задрал ей нос, и она не начала подниматься по огромной спирали к облачной гряде надо мной. Крайне важно набирать высоту медленно и постепенно привыкать к давлению.
Для английского сентября день был душный и тёплый, в воздухе стояла тишина и тяжесть надвигающегося дождя. Время от времени налетали внезапные порывы ветра с юго-запада – один из них был таким резким и неожиданным, что застал меня врасплох и на мгновение развернул наполовину. Помню времена, когда порывы, вихри и воздушные ямы были опасны – до того, как мы научились ставить на наши машины двигатели с избыточной мощностью. Едва я достиг облаков, а высотомер показывал три тысячи футов, как хлынул дождь. Боже мой, какой это был ливень! Он барабанил по моим крыльям и хлестал по лицу, заливая очки так, что я едва мог что-то видеть. Я перешёл на низкую скорость, потому что лететь против него было мучительно. Выше он превратился в град, и мне пришлось развернуться к нему хвостом. Один из моих цилиндров перестал работать – думаю, засорилась свеча, – но я всё равно уверенно набирал высоту, мощности хватало. Через некоторое время неисправность, какой бы она ни была, прошла, и я услышал полное, глубокое урчание – все десять цилиндров пели в унисон. Вот в чём прелесть наших современных глушителей. Мы наконец-то можем контролировать двигатели на слух. Как они визжат, пищат и всхлипывают, когда у них проблемы! Все эти крики о помощи в былые времена пропадали втуне, заглушаемые чудовищным рёвом машины. Если бы только пионеры авиации могли вернуться и увидеть ту красоту и совершенство механизмов, которые были куплены ценой их жизней!
Около девяти тридцати я приблизился к облакам. Подо мной, размытая и затенённая дождём, простиралась необъятная равнина Солсбери. С полдюжины летательных аппаратов выполняли рутинную работу на высоте в тысячу футов, похожие на маленьких чёрных ласточек на зелёном фоне. Наверное, они гадали, что я делаю здесь, в стране облаков. Внезапно серая завеса затянула всё внизу, и влажные клубы пара заструились вокруг моего лица. Было промозгло, холодно и неуютно. Но я был выше града, и это уже было кое-что. Облако было тёмным и плотным, как лондонский туман. В своём стремлении выбраться из него, я задрал нос так высоко, что зазвенел автоматический аварийный звонок, и я даже начал соскальзывать назад. Мои промокшие и отяжелевшие крылья сделали меня тяжелее, чем я думал, но вскоре я оказался в более разреженном облаке и миновал первый слой. Выше меня был второй – опаловый и перистый, – белый, сплошной потолок вверху и тёмный, сплошной пол внизу, а между ними по огромной спирали упорно карабкался вверх мой моноплан. В этих облачных пространствах смертельно одиноко. Однажды мимо меня пронеслась большая стая каких-то мелких водоплавающих птиц, летевших очень быстро на запад. Быстрый свист их крыльев и мелодичные крики были приятны моему слуху. Мне кажется, это были чирки, но я никудышный зоолог. Теперь, когда мы, люди, стали птицами, нам действительно нужно научиться узнавать наших собратьев в лицо.
Ветер внизу кружил и колыхал широкую облачную равнину. Однажды в ней образовался огромный водоворот, вихрь пара, и сквозь него, как в воронку, я увидел далёкий мир. На огромной глубине подо мной пролетал большой белый биплан. Полагаю, это был утренний почтовый рейс между Бристолем и Лондоном. Затем облака снова сомкнулись, и великое одиночество осталось ненарушенным.
Сразу после десяти я коснулся нижнего края верхнего облачного слоя. Он состоял из тонких, прозрачных испарений, быстро движущихся с запада. Ветер всё это время неуклонно усиливался и теперь дул резкий бриз – двадцать восемь миль в час по моему анемометру. Уже было очень холодно, хотя высотомер показывал всего девять тысяч футов. Двигатели работали прекрасно, и мы ровно гудели, поднимаясь всё выше. Облачный слой оказался толще, чем я ожидал, но наконец он истончился до золотистого тумана, и в одно мгновение я вырвался из него, и надо мной раскинулось безоблачное небо и сияющее солнце – всё голубое и золотое вверху, всё сверкающее серебром внизу, одна огромная, мерцающая равнина, насколько хватало глаз. Была четверть одиннадцатого, и стрелка барографа указывала на двенадцать тысяч восемьсот футов. Я поднимался всё выше и выше, мой слух был сосредоточен на глубоком урчании мотора, а глаза постоянно следили за часами, тахометром, рычагом подачи топлива и масляным насосом. Неудивительно, что авиаторов считают бесстрашными людьми. Когда нужно думать о стольких вещах, нет времени беспокоиться о себе. Примерно в это время я заметил, насколько ненадёжен компас на определённой высоте над землёй. На пятнадцати тысячах футов мой указывал на восток с отклонением к югу. Истинное направление мне подсказывали солнце и ветер.
Я надеялся достичь вечного безмолвия на этих высотах, но с каждой тысячей футов подъёма шторм становился всё сильнее. Моя машина стонала и дрожала в каждом соединении и заклёпке, когда шла против ветра, и уносилась прочь, как лист бумаги, когда я закладывал вираж, скользя по ветру со скоростью, на которой, возможно, не двигался ещё ни один смертный. И всё же мне приходилось снова и снова разворачиваться и лавировать против ветра, ведь я гнался не только за рекордом высоты. По всем моим расчётам, мои воздушные джунгли находились именно над маленьким Уилтширом, и все мои труды могли пропасть даром, если бы я достиг верхних слоёв атмосферы в каком-то другом месте.
Когда я достиг отметки в девятнадцать тысяч футов, что было около полудня, ветер был настолько сильным, что я с тревогой поглядывал на расчалки крыльев, ежеминутно ожидая, что они лопнут или ослабнут. Я даже отстегнул парашют за спиной и зацепил его крюк за кольцо на моём кожаном ремне, чтобы быть готовым к худшему. Вот когда за халтурную работу механика расплачиваются жизнью аэронавта. Но машина держалась храбро. Каждая растяжка и стойка гудела и вибрировала, словно струны арфы, но было великолепно видеть, как, несмотря на все удары и трепку, она оставалась победительницей Природы и хозяйкой неба. Поистине, есть что-то божественное в самом человеке, раз он способен подняться над ограничениями, которые, казалось, наложило на него Творение, – и подняться благодаря такой самоотверженной, героической преданности, какую продемонстрировало это покорение воздуха. Говорите о вырождении человечества! Когда ещё в анналах нашего рода была написана подобная история?
Такие мысли были у меня в голове, пока я карабкался по этой чудовищной наклонной плоскости, когда ветер то бил мне в лицо, то свистел за ушами, а облачная страна внизу отдалилась на такое расстояние, что складки и холмы серебра сгладились в одну плоскую, сияющую равнину. Но внезапно я пережил нечто ужасное и беспрецедентное. Мне и раньше доводилось попадать в то, что наши соседи называют «турбийон», но никогда в таких масштабах. В той огромной, несущейся реке ветра, о которой я говорил, как оказалось, были свои водовороты, столь же чудовищные, как и она сама. Без малейшего предупреждения меня внезапно затянуло в самое сердце одного из них. Минуту или две я вращался с такой скоростью, что почти потерял сознание, а затем внезапно рухнул, левым крылом вперёд, в вакуумную воронку в центре. Я падал камнем и потерял почти тысячу футов. Только ремень удержал меня в кресле, и от удара и удушья я повис, полубессознательный, за бортом фюзеляжа. Но я всегда способен на предельное усилие – это моё единственное великое достоинство как авиатора. Я осознал, что спуск замедлился. Водоворот был скорее конусом, чем воронкой, и я достиг его вершины. Ужасным рывком, перенеся весь свой вес на одну сторону, я выровнял плоскости и отвёл нос машины от ветра. В одно мгновение я выскочил из вихрей и понёсся по небу. Затем, потрясённый, но победивший, я задрал нос и снова начал свой упорный подъём по спирали. Я сделал большой крюк, чтобы избежать опасной зоны водоворота, и вскоре благополучно оказался над ней. Сразу после часа дня я был на высоте двадцати одной тысячи футов над уровнем моря. К моей великой радости, я поднялся выше шторма, и с каждой сотней футов подъёма воздух становился всё тише. С другой стороны, было очень холодно, и я ощущал ту особую тошноту, которая сопровождает разрежение воздуха. Я впервые отвинтил мундштук моего кислородного мешка и время от времени делал глоток этого чудесного газа. Я чувствовал, как он растекается по моим венам, словно эликсир, и был возбуждён почти до опьянения. Я кричал и пел, взмывая вверх, в холодный, безмолвный внешний мир.
Мне совершенно ясно, что потеря сознания, постигшая Глейшера и, в меньшей степени, Коксвелла, когда в 1862 году они поднялись на воздушном шаре на высоту тридцати тысяч футов, была вызвана чрезвычайной скоростью вертикального подъёма. Если делать это по пологой траектории и постепенно привыкать к пониженному барометрическому давлению, таких ужасных симптомов не возникает. На той же огромной высоте я обнаружил, что даже без кислородного ингалятора могу дышать без особого труда. Однако было ужасно холодно, и мой термометр показывал ноль по Фаренгейту. В час тридцать я находился почти в семи милях над поверхностью земли и всё ещё уверенно поднимался. Однако я обнаружил, что разреженный воздух даёт заметно меньшую опору моим плоскостям, и из-за этого мне пришлось значительно уменьшить угол подъёма. Уже было ясно, что даже с моим лёгким весом и мощным двигателем впереди меня ждёт предел. Что ещё хуже, одна из моих свечей зажигания снова барахлила, и в двигателе случались перебои. Моё сердце сжалось от страха неудачи.
Примерно в это время со мной произошёл самый необыкновенный случай. Что-то пронеслось мимо меня с дымным следом и взорвалось с громким шипением, выпустив облако пара. На мгновение я не мог понять, что произошло. Затем я вспомнил, что Земля постоянно подвергается бомбардировке метеоритами и была бы едва обитаема, если бы они почти во всех случаях не превращались в пар в верхних слоях атмосферы. Вот новая опасность для высотного пилота, потому что ещё два пролетели мимо меня, когда я приближался к отметке в сорок тысяч футов. Не сомневаюсь, что на границе земной оболочки этот риск был бы весьма реальным.
Стрелка моего барографа показывала сорок одну тысячу триста футов, когда я осознал, что дальше подняться не смогу. Физически я ещё мог выдержать напряжение, но моя машина достигла своего предела. Разреженный воздух не давал крыльям надёжной опоры, малейший крен переходил в боковое скольжение, и она, казалось, вяло реагировала на управление. Возможно, будь двигатель в лучшем состоянии, ещё тысяча футов была бы нам по силам, но он всё ещё давал перебои, и два из десяти цилиндров, похоже, не работали. Если я ещё не достиг зоны, которую искал, то в этом полёте мне её уже не увидеть. Но не могло ли быть так, что я уже достиг её? Паря кругами, словно гигантский ястреб, на уровне сорока тысяч футов, я позволил моноплану лететь самому, а сам с помощью своего маннгеймского бинокля внимательно осмотрел окрестности. Небеса были совершенно чисты; не было и намёка на те опасности, которые я себе вообразил.
Я сказал, что парил кругами. Внезапно мне пришло в голову, что стоит сделать круг пошире и открыть новый воздушный путь. Если бы охотник вошёл в земные джунгли, он бы пробирался сквозь них, чтобы найти свою дичь. Мои рассуждения привели меня к мысли, что воздушные джунгли, которые я себе вообразил, лежат где-то над Уилтширом. Это должно быть к югу и западу от меня. Я определил направление по солнцу, так как компас был бесполезен, а земли не было видно – ничего, кроме далёкой, серебряной облачной равнины. Тем не менее, я как мог определил направление и держал курс. Я подсчитал, что запаса бензина хватит не более чем на час, но я мог позволить себе израсходовать его до последней капли, поскольку один великолепный планирующий спуск в любой момент мог доставить меня на землю.
Внезапно я заметил нечто новое. Воздух впереди потерял свою кристальную чистоту. Он был полон длинных, рваных клочьев чего-то, что я могу сравнить лишь с очень тонким сигаретным дымом. Он висел венками и спиралями, медленно поворачиваясь и извиваясь в солнечном свете. Когда моноплан пронёсся сквозь него, я ощутил слабый привкус масла на губах, а на деревянных частях машины появился жирный налёт. Казалось, в атмосфере взвешена какая-то бесконечно тонкая органическая материя. Жизни там не было. Это было нечто бесформенное и рассеянное, простирающееся на много квадратных акров и затем растворяющееся в пустоте. Нет, это не было жизнью. Но не могло ли это быть остатками жизни? А главное, не могло ли это быть пищей для жизни, для чудовищной жизни, подобно тому, как скромная океанская планктонная взвесь служит пищей для могучего кита? Эта мысль была у меня в голове, когда я поднял глаза и увидел самое чудесное зрелище, которое когда-либо видел человек. Смогу ли я передать его вам таким, каким я сам видел его в прошлый четверг?
Представьте себе медузу, какие плавают в наших летних морях, колоколообразную и огромного размера – гораздо больше, я бы сказал, чем купол собора Святого Павла. Она была светло-розового цвета с нежными зелёными прожилками, но вся эта огромная ткань была настолько тонкой, что казалась лишь сказочным очертанием на фоне тёмно-синего неба. Она пульсировала с тонким и регулярным ритмом. Из неё свисали два длинных, поникающих зелёных щупальца, которые медленно качались взад и вперёд. Это великолепное видение с беззвучным достоинством проплыло у меня над головой, лёгкое и хрупкое, как мыльный пузырь, и продолжило свой величавый путь.
Я наполовину развернул свой моноплан, чтобы проследить за этим прекрасным созданием, как вдруг оказался среди целого флота таких же, всех размеров, но ни одного столь же большого, как первое. Некоторые были совсем маленькими, но большинство – размером со средний воздушный шар и с такой же кривизной наверху. В них была такая тонкость текстуры и расцветки, которая напоминала мне о лучшем венецианском стекле. Бледные оттенки розового и зелёного были преобладающими, но все они обладали прекрасным радужным отливом там, где солнце мерцало сквозь их изящные формы. Несколько сотен их проплыло мимо меня – чудесная сказочная эскадра странных, неизвестных аргосов неба, созданий, чьи формы и субстанция были настолько созвучны этим чистым высотам, что невозможно было представить себе что-либо столь же нежное в пределах видимости или слышимости Земли.
Но вскоре моё внимание привлекло новое явление – змеи внешнего воздуха. Это были длинные, тонкие, причудливые клубки парообразной материи, которые с огромной скоростью поворачивались и извивались, кружась с такой быстротой, что глаза едва могли за ними уследить. Некоторые из этих призрачных созданий были длиной в двадцать или тридцать футов, но определить их толщину было трудно, так как их очертания были настолько туманны, что, казалось, растворялись в окружающем воздухе. Эти воздушные змеи были очень светло-серого или дымчатого цвета, с какими-то более тёмными линиями внутри, что создавало впечатление определённого организма. Один из них промелькнул прямо у моего лица, и я ощутил холодное, липкое прикосновение, но их состав был настолько невещественным, что я не мог связать их с мыслью о физической опасности, как и прекрасных колоколообразных созданий, что предшествовали им. В их телах было не больше плотности, чем в летучей пене от разбитой волны.
Но меня ждало более ужасное испытание. С большой высоты спускалось пурпурное пятно пара, сначала маленькое, но быстро увеличивающееся по мере приближения, пока не стало казаться размером в сотни квадратных футов. Хотя оно было создано из какой-то прозрачной, желеобразной субстанции, оно, тем не менее, имело гораздо более чёткие очертания и плотную консистенцию, чем всё, что я видел до этого. В нём также было больше следов физической организации, особенно два огромных, тёмных, круглых диска по обеим сторонам, которые могли быть глазами, и совершенно плотный белый выступ между ними, изогнутый и жестокий, как клюв грифа.
Весь облик этого чудовища был грозным и устрашающим, и оно постоянно меняло свой цвет от очень светлого лилового до тёмного, гневного пурпурного, настолько густого, что отбрасывало тень, проплывая между моим монопланом и солнцем. На верхней кривой его огромного тела было три больших выступа, которые я могу описать лишь как огромные пузыри, и, глядя на них, я был убеждён, что они наполнены каким-то чрезвычайно лёгким газом, который служил для поддержания этой бесформенной и полутвёрдой массы в разреженном воздухе. Существо двигалось быстро, легко поспевая за монопланом, и на протяжении двадцати миль или более оно составляло мой ужасный эскорт, паря надо мной, как хищная птица, ожидающая момента для нападения. Его способ передвижения – настолько быстрый, что за ним было трудно уследить – заключался в том, чтобы выбрасывать перед собой длинный, клейкий отросток, который, в свою очередь, казалось, тянул за собой остальное извивающееся тело. Оно было настолько эластичным и желеобразным, что ни на две минуты подряд не сохраняло одну и ту же форму, и всё же каждое изменение делало его более угрожающим и отвратительным, чем предыдущее.
Я знал, что оно замышляет недоброе. Каждый пурпурный отблеск его отвратительного тела говорил мне об этом. Расплывчатые, выпученные глаза, которые были постоянно устремлены на меня, были холодны и беспощадны в своей вязкой ненависти. Я опустил нос своего моноплана, чтобы уйти от него. Как только я это сделал, молниеносно из этой массы плавучей студенистой плоти выстрелило длинное щупальце, и оно опустилось, лёгкое и извилистое, как хлыст, на переднюю часть моей машины. Раздалось громкое шипение, когда оно на мгновение легло на горячий двигатель, и оно снова взметнулось в воздух, а огромное, плоское тело сжалось, словно от внезапной боли. Я перешёл в крутое пике, но снова щупальце опустилось на моноплан и было срезано пропеллером так же легко, как он мог бы разрезать клуб дыма. Длинный, скользящий, липкий, змееподобный отросток появился сзади и обвил меня вокруг талии, вытаскивая из фюзеляжа. Я вцепился в него, мои пальцы утонули в гладкой, клейкой поверхности, и на мгновение я освободился, но лишь для того, чтобы быть схваченным за ботинок другим отростком, который дёрнул меня так, что я чуть не опрокинулся на спину.
Падая, я выстрелил из обоих стволов своего ружья, хотя, по правде говоря, пытаться покалечить эту могучую тушу любым человеческим оружием было всё равно, что атаковать слона из горохострела. И всё же я прицелился лучше, чем думал, потому что с громким хлопком один из больших пузырей на спине существа взорвался от пробоины картечью. Стало совершенно ясно, что моё предположение было верным, и что эти огромные, прозрачные пузыри были наполнены каким-то подъёмным газом, потому что в одно мгновение огромное, подобное облаку тело завалилось набок, отчаянно извиваясь в попытке восстановить равновесие, в то время как белый клюв щёлкал и разевался в ужасной ярости. Но я уже уносился прочь в самом крутом планировании, на которое осмелился, мой двигатель всё ещё работал на полную, вращающийся пропеллер и сила тяжести несли меня вниз, как аэролит. Далеко позади я видел тусклое, пурпурное пятно, быстро уменьшающееся и сливающееся с синим небом. Я был в безопасности, вырвавшись из смертоносных джунглей внешнего воздуха.
Выбравшись из опасности, я сбросил обороты двигателя, потому что ничто так не разрушает машину, как работа на полной мощности при спуске с высоты. Это был великолепный, спиральный планирующий спуск с высоты почти в восемь миль – сначала до уровня серебряного облачного слоя, затем до уровня грозового облака под ним, и, наконец, под проливным дождём, к поверхности земли. Вырвавшись из облаков, я увидел под собой Бристольский залив, но, поскольку в баке ещё оставался бензин, я пролетел двадцать миль вглубь суши, прежде чем оказался в поле в полумиле от деревни Ашкомб. Там я раздобыл три канистры бензина у проезжавшего автомобиля, и в десять минут седьмого вечера я мягко приземлился на своём родном лугу в Девайзесе, после такого путешествия, какого ещё не совершал и не выживал, чтобы рассказать, ни один смертный на земле. Я видел красоту и я видел ужас высот – и большей красоты или большего ужаса не дано познать человеку.
И теперь я планирую подняться ещё раз, прежде чем представить свои результаты миру. Причина этого в том, что я должен предъявить какие-то доказательства, прежде чем излагать такую историю своим собратьям. Правда, скоро другие последуют за мной и подтвердят мои слова, и всё же я бы хотел убедить всех с самого начала. Эти прекрасные радужные пузыри воздуха не должно быть трудно поймать. Они медленно плывут своим путём, и быстрый моноплан мог бы перехватить их неспешный курс. Вполне вероятно, что они растворятся в более плотных слоях атмосферы, и всё, что я принесу на землю, будет лишь небольшой кучкой аморфного желе. И всё же что-то наверняка останется, чем я мог бы подкрепить свой рассказ. Да, я полечу, даже если рискую. Эти пурпурные ужасы, кажется, не так многочисленны. Вероятно, я не встречу ни одного. Если же встречу, я немедленно спикирую. В худшем случае, всегда есть дробовик и моё знание…»
Здесь, к сожалению, отсутствует одна страница рукописи. На следующей странице написано крупным, неровным почерком:
«Сорок три тысячи футов. Я больше никогда не увижу землю. Они подо мной, их трое. Помоги мне, Боже; это ужасная смерть!»
Таков полностью «Документ Джойса-Армстронга». О самом человеке с тех пор ничего не было слышно. Обломки его разбитого моноплана были найдены в охотничьих угодьях мистера Бадда-Лашингтона на границе Кента и Сассекса, в нескольких милях от того места, где была обнаружена записная книжка. Если теория несчастного авиатора о том, что эти воздушные джунгли, как он их называл, существовали только над юго-западом Англии, верна, то, по-видимому, он бежал оттуда на полной скорости своего моноплана, но был настигнут и пожран этими ужасными существами где-то во внешней атмосфере над тем местом, где были найдены мрачные останки. Картина того, как моноплан несётся по небу, а безымянные ужасы летят так же быстро под ним, постоянно отрезая ему путь к земле и постепенно смыкая кольцо вокруг своей жертвы, – это картина, о которой человек, дорожащий своим рассудком, предпочёл бы не задумываться. Я знаю, что многие до сих пор смеются над фактами, которые я здесь изложил, но даже они должны признать, что Джойс-Армстронг исчез, и я бы посоветовал им вспомнить его собственные слова: «Эта записная книжка, возможно, объяснит, что я пытался сделать и как погиб, совершая это. Но, пожалуйста, никаких бредней о несчастных случаях или тайнах».
Воронка из кожи
Мой друг, Лайонел Дакр, жил в Париже, на авеню де Ваграм. Его дом – тот самый небольшой особняк с железной оградой и газоном, по левую руку, если идти от Триумфальной арки. Полагаю, он стоял там задолго до того, как проложили авеню, ибо серая черепица его крыши была покрыта пятнами лишайника, а стены, потемневшие от времени, тронула плесень. С улицы дом казался маленьким – пять окон на фасаде, если не ошибаюсь, – но в глубине он вытягивался в одну длинную комнату. Именно здесь Дакр разместил свою уникальную библиотеку оккультной литературы и собрание причудливых редкостей, служивших развлечением как для него самого, так и для его друзей. Будучи состоятельным человеком с изысканными и эксцентричными вкусами, он потратил немалую часть жизни и состояния, собирая то, что считалось единственной в своем роде частной коллекцией талмудических, каббалистических и магических трудов, многие из которых были чрезвычайно редки и ценны. Его влекло всё чудесное и чудовищное, и я слышал, что его эксперименты на ниве неведомого переходили все границы цивилизованности и приличий. Со своими английскими друзьями он никогда не заговаривал о подобных вещах, предпочитая держаться тона учёного и ценителя искусств; однако один француз, чьи вкусы были схожи с его собственными, уверял меня, что в этом большом и высоком зале, заставленном книжными полками и музейными витринами, творились самые дикие бесчинства чёрной мессы.
Внешность Дакра ясно говорила о том, что его глубокий интерес к этим мистическим материям был скорее интеллектуальным, нежели духовным. На его массивном лице не было и следа аскетизма, зато в огромном куполообразном черепе, возвышавшемся над редеющими прядями, словно снежный пик над каймой елового леса, чувствовалась недюжинная умственная сила. Его познания были обширнее его мудрости, а его способности намного превосходили его нравственные качества. Маленькие, живые глазки, глубоко посаженные в мясистом лице, искрились умом и неутолимым любопытством к жизни, но это были глаза чувственника и эгоиста. Впрочем, довольно о нём, ибо он мёртв, бедняга, – мёртв именно в тот момент, когда уверился, что наконец-то открыл эликсир жизни. Мне предстоит рассказать не о его сложном характере, а об очень странном и необъяснимом происшествии, которое случилось во время моего визита к нему ранней весной 82-го года.
Я познакомился с Дакром в Англии: я проводил изыскания в ассирийском зале Британского музея как раз в то время, когда он пытался отыскать мистический и эзотерический смысл в вавилонских табличках, и эта общность интересов свела нас. Случайные реплики переросли в ежедневные беседы, а те – в нечто, граничащее с дружбой. Я пообещал, что в следующий свой приезд в Париж непременно его навещу. Когда я смог выполнить своё обещание, я жил в коттедже в Фонтенбло, и, поскольку вечерние поезда ходили неудобно, он предложил мне переночевать у него.
– У меня есть лишь эта свободная кушетка, – сказал он, указывая на широкий диван в своём большом салоне. – Надеюсь, вы сможете на ней устроиться.
Странная это была спальня, с её высокими стенами из коричневых книжных томов, но для такого книжного червя, как я, не могло быть меблировки приятнее, и нет для моих ноздрей аромата милее, чем тот слабый, едва уловимый запах, что исходит от старинной книги. Я заверил его, что не мог бы и желать более очаровательной комнаты и более congenialной обстановки.
– Если обстановка и не слишком удобна и не вполне обычна, то, по крайней мере, она дорогостояща, – сказал он, оглядывая свои полки. – Я потратил почти четверть миллиона на эти предметы, что вас окружают. Книги, оружие, драгоценные камни, резные изделия, гобелены, статуэтки – здесь вряд ли найдётся вещь, у которой не было бы своей истории, и, как правило, истории, достойной рассказа.
Говоря это, он сидел по одну сторону от камина, а я – по другую. Справа от него стоял стол для чтения, и мощная лампа над ним очерчивала яркий круг золотистого света. В центре лежал полусвёрнутый палимпсест, а вокруг него – множество причудливых безделушек. Одной из них была большая воронка, какие используют для наполнения винных бочек. Казалось, она была сделана из чёрного дерева и окаймлена потускневшей латунью.
– Какая любопытная вещь, – заметил я. – Какова её история?
– А! – сказал он. – Это тот самый вопрос, который мне не раз приходилось задавать самому себе. Я бы многое отдал, чтобы узнать. Возьмите её в руки и осмотрите.
Я так и сделал и обнаружил, что то, что я принял за дерево, на самом деле было кожей, хотя время высушило её до чрезвычайной твёрдости. Это была большая воронка, вмещавшая, когда полная, около кварты. Латунный обод окаймлял широкий конец, но и узкий был окован металлом.
– Что вы о ней думаете? – спросил Дакр.
– Я бы предположил, что она принадлежала какому-нибудь виноторговцу или солодовнику в Средние века, – сказал я. – Я видел в Англии кожаные питейные фляги семнадцатого века – так называемые «чёрные джеки», – которые были того же цвета и твёрдости, что и эта воронка.
– Полагаю, датировка примерно та же, – сказал Дакр, – и, без сомнения, её использовали для наполнения сосуда жидкостью. Однако, если мои подозрения верны, виноторговец, что ею пользовался, был весьма странным, да и бочка, которую наполняли, – весьма необычной. Вы не замечаете ничего странного на узком конце воронки?
Поднеся её к свету, я увидел, что в пяти дюймах от латунного наконечника узкое горлышко кожаной воронки было всё искромсано и исцарапано, словно кто-то пытался надрезать его по кругу тупым ножом. Только в этом месте мёртвая чернота поверхности была нарушена.
– Кто-то пытался отрезать горлышко.
– Вы бы назвали это разрезом?
– Оно разорвано и иссечено. Потребовалась, должно быть, немалая сила, чтобы оставить такие следы на столь прочном материале, каким бы ни был инструмент. Но что вы об этом думаете? Я чувствую, вы знаете больше, чем говорите.
Дакр улыбнулся, и его маленькие глазки сверкнули знанием.
– Включили ли вы в круг своих учёных занятий психологию сновидений? – спросил он.
– Я даже не знал, что такая психология существует.
– Дорогой сэр, та полка над витриной с драгоценностями заставлена томами, от Альберта Великого и далее, которые не касаются никакой другой темы. Это целая наука.
– Наука шарлатанов!
– Шарлатан – это всегда первопроходец. Из астролога вырос астроном, из алхимика – химик, из месмериста – экспериментальный психолог. Вчерашний знахарь – завтрашний профессор. Даже такие тонкие и неуловимые вещи, как сны, со временем будут сведены в систему и приведены в порядок. Когда это время придёт, изыскания наших друзей с книжной полки перестанут быть забавой для мистиков и станут основанием науки.
– Допустим, это так, но какое отношение наука о снах имеет к большой, чёрной воронке с латунным ободом?
– Сейчас расскажу. Вы знаете, у меня есть агент, который всегда ищет для моей коллекции редкости и диковинки. Несколько дней назад он услышал о торговце на одной из набережных, который приобрёл какой-то старый хлам, найденный в чулане старинного дома за улицей Матюрен в Латинском квартале. Столовая этого старого дома украшена гербом – шевроны и красные полосы на серебряном поле, – который, как выяснилось, является гербом Николя де ла Рейни, высокопоставленного чиновника короля Людовика XIV. Не может быть сомнений, что и другие предметы из чулана датируются началом правления этого короля. Отсюда следует, что все они были собственностью этого Николя де ла Рейни, который, как я понимаю, был джентльменом, специально занимавшимся поддержанием и исполнением драконовских законов той эпохи.
– И что же?
– Я бы попросил вас снова взять воронку в руки и осмотреть верхний латунный обод. Можете ли вы разобрать на нём какие-нибудь буквы?
На нём действительно были какие-то царапины, почти стёртые временем. Общее впечатление было такое, будто там несколько букв, последняя из которых имела некоторое сходство с «B».
– Вы считаете, это «B»?
– Да, считаю.
– И я тоже. На самом деле, у меня нет ни малейших сомнений, что это «B».
– Но у упомянутого вами дворянина инициал был бы «R».
– Точно! В этом-то вся прелесть. Он владел этой любопытной вещью, и всё же на ней были чужие инициалы. Зачем он это сделал?
– Не могу себе представить; а вы?
– Что ж, возможно, я мог бы догадаться. Вы замечаете что-то, нарисованное чуть дальше по ободу?
– Я бы сказал, это корона.
– Это, несомненно, корона; но если вы рассмотрите её при хорошем свете, то убедитесь, что это не обычная корона. Это геральдическая корона – знак ранга, и она состоит из чередующихся четырёх жемчужин и земляничных листьев – гербовый знак маркиза. Следовательно, мы можем заключить, что особа, чьи инициалы заканчиваются на «B», имела право носить такой венец.
– Значит, эта простая кожаная воронка принадлежала маркизу?
Дакр странно улыбнулся.
– Или кому-то из семьи маркиза, – сказал он. – Столько мы ясно поняли из этой гравировки на ободе.
– Но какое отношение всё это имеет к снам? – Не знаю, было ли это из-за выражения лица Дакра или из-за какого-то тонкого намёка в его манерах, но чувство отвращения, безотчётного ужаса охватило меня, когда я посмотрел на этот старый, узловатый кусок кожи.
– Я не раз получал важную информацию через сны, – сказал мой спутник тем нравоучительным тоном, который он любил принимать. – Теперь я взял за правило, когда сомневаюсь в каком-либо материальном вопросе, класть предмет, о котором идёт речь, рядом с собой во время сна и надеяться на некоторое просветление. Процесс этот не кажется мне слишком таинственным, хотя он ещё и не получил благословения ортодоксальной науки. Согласно моей теории, любой предмет, который был тесно связан с каким-либо высшим пароксизмом человеческих эмоций, будь то радость или боль, сохраняет определённую атмосферу или ассоциацию, которую он способен передать чувствительному уму. Под чувствительным умом я подразумеваю не аномальный, а такой натренированный и образованный ум, каким обладаете вы или я.
– Вы хотите сказать, например, что если бы я спал рядом с той старой шпагой на стене, мне мог бы присниться какой-нибудь кровавый инцидент, в котором эта самая шпага принимала участие?
– Превосходный пример, ибо, по правде говоря, именно так я и поступил с этой шпагой, и во сне я увидел смерть её владельца, который погиб в ожесточённой стычке, которую я не смог идентифицировать, но которая произошла во времена войн Фронды. Если подумать, некоторые из наших народных обычаев показывают, что этот факт уже был признан нашими предками, хотя мы, в своей мудрости, отнесли его к суевериям.
– Например?
– Ну, например, класть кусочек свадебного торта под подушку, чтобы спящему снились приятные сны. Это один из нескольких примеров, которые вы найдёте в небольшой брошюре, которую я сам пишу на эту тему. Но вернёмся к делу. Я проспал одну ночь с этой воронкой рядом, и мне приснился сон, который, безусловно, проливает любопытный свет на её использование и происхождение.
– Что же вам приснилось?
– Мне приснилось… – он замолчал, и на его массивном лице появилось выражение пристального интереса. – Чёрт возьми, какая хорошая мысль, – сказал он. – Это действительно будет чрезвычайно интересный эксперимент. Вы сами – психический субъект, с нервами, которые легко откликаются на любое впечатление.
– Я никогда не проверял себя в этом направлении.
– Тогда мы проверим вас сегодня ночью. Могу ли я попросить вас в качестве величайшего одолжения, когда вы будете сегодня спать на этой кушетке, положить эту старую воронку рядом с вашей подушкой?
Просьба показалась мне нелепой; но и в моей сложной натуре есть тяга ко всему причудливому и фантастическому. Я ни на йоту не верил в теорию Дакра и не питал никаких надежд на успех такого эксперимента; тем не менее, меня забавляла сама идея его проведения. Дакр с величайшей серьёзностью придвинул маленький столик к изголовью моего дивана и поставил на него воронку. Затем, после короткого разговора, он пожелал мне спокойной ночи и ушёл.
Я ещё некоторое время сидел, куря у тлеющего камина и размышляя о любопытном происшествии, которое только что произошло, и о странном опыте, который мог меня ожидать. Как бы я ни был скептичен, в уверенности Дакра было что-то впечатляющее, а моя необычная обстановка – огромная комната со странными и часто зловещими предметами, развешанными по стенам, – вселяла в мою душу торжественность. Наконец, я разделся, погасил лампу и лёг. После долгого ворочания я заснул. Позвольте мне попытаться описать как можно точнее сцену, которая явилась мне во сне. Сейчас она стоит в моей памяти яснее всего, что я видел наяву.
Это была комната, похожая на сводчатое подземелье. Из углов к сводчатому, остроконечному потолку поднимались четыре арки. Архитектура была грубой, но очень прочной. Очевидно, это была часть какого-то большого здания.
Трое мужчин в чёрном, в причудливых, громоздких шляпах из чёрного бархата, сидели в ряд на помосте, покрытом красным ковром. Их лица были очень торжественными и печальными. Слева стояли двое мужчин в длинных мантиях с портфелями в руках, которые, казалось, были набиты бумагами. Справа, лицом ко мне, стояла невысокая женщина со светлыми волосами и необыкновенными светло-голубыми глазами – глазами ребёнка. Она уже миновала первую молодость, но её ещё нельзя было назвать женщиной средних лет. Фигура её склонялась к полноте, а осанка была гордой и уверенной. Лицо её было бледным, но безмятежным. Это было любопытное лицо, миловидное и в то же время кошачье, с едва уловимым оттенком жестокости в прямом, твёрдом ротике и пухлом подбородке. Она была одета в какое-то свободное белое платье. Рядом с ней стоял худой, нетерпеливый священник, который что-то шептал ей на ухо и постоянно поднимал распятие к её глазам. Она поворачивала голову и смотрела мимо распятия на троих мужчин в чёрном, которые, как я чувствовал, были её судьями.
Пока я смотрел, трое мужчин встали и что-то сказали, но я не разобрал ни слова, хотя и понял, что говорил тот, что был в центре. Затем они вышли из комнаты, а за ними – двое мужчин с бумагами. В тот же миг в комнату ворвалось несколько грубоватых парней в крепких куртках; они убрали сначала красный ковёр, а затем доски, составлявшие помост, полностью очистив помещение. Когда эта преграда была убрана, я увидел за ней несколько необычных предметов. Один был похож на кровать с деревянными валиками на каждом конце и рукояткой для регулировки длины. Другой был деревянным конём. Было ещё несколько любопытных приспособлений и множество свисающих верёвок, перекинутых через блоки. Всё это чем-то напоминало современный гимнастический зал.
Когда комната была очищена, на сцене появилась новая фигура. Это был высокий, худой человек в чёрном, с измождённым и суровым лицом. Вид этого человека заставил меня содрогнуться. Его одежда вся лоснилась от жира и была испещрена пятнами. Он держался с медленным и внушительным достоинством, словно с момента своего появления брал всё под свою власть. Несмотря на его грубый вид и грязную одежду, теперь это было его дело, его комната, его право повелевать. На левом предплечье у него висел моток тонких верёвок. Дама оглядела его с ног до головы испытующим взглядом, но выражение её лица не изменилось. Оно было уверенным – даже вызывающим. Но совсем иначе вёл себя священник. Его лицо было мертвенно-бледным, и я видел, как влага блестела и стекала по его высокому, покатому лбу. Он воздевал руки в молитве и постоянно наклонялся, чтобы прошептать неистовые слова на ухо даме.
Человек в чёрном подошёл и, взяв одну из верёвок с левой руки, связал женщине кисти. Она покорно протянула их ему. Затем он грубо схватил её за руку и повёл к деревянному коню, который был ей чуть выше пояса. Её подняли и уложили на него, спиной на доски, лицом к потолку, в то время как священник, дрожа от ужаса, выбежал из комнаты. Губы женщины быстро шевелились, и, хотя я ничего не слышал, я знал, что она молится. Её ноги свисали по обе стороны от коня, и я видел, как грубые слуги привязали верёвки к её лодыжкам и закрепили другие концы за железные кольца в каменном полу.
Моё сердце сжалось, когда я увидел эти зловещие приготовления, и всё же я был скован очарованием ужаса и не мог отвести глаз от странного зрелища. В комнату вошёл мужчина с вёдрами воды в обеих руках. За ним последовал другой с третьим ведром. Их поставили рядом с деревянным конём. У второго мужчины в другой руке был деревянный черпак – ковш с прямой ручкой. Он отдал его человеку в чёрном. В тот же момент один из слуг подошёл с тёмным предметом в руке, который даже во сне вызвал у меня смутное чувство чего-то знакомого. Это была кожаная воронка. С чудовищной силой он вставил её… но больше я вынести не мог. Мои волосы встали дыбом от ужаса. Я извивался, я боролся, я разорвал узы сна и с криком ворвался в явь, обнаружив себя лежащим и дрожащим от страха в огромной библиотеке, где лунный свет заливал окна и бросал странные серебряные и чёрные узоры на противоположную стену. О, какое блаженное облегчение почувствовать, что я вернулся в девятнадцатый век – вернулся из этого средневекового подземелья в мир, где у людей в груди были человеческие сердца. Я сел на кушетке, дрожа всем телом, мой разум разрывался между благодарностью и ужасом. Подумать только, что такие вещи когда-то творились – что их можно было творить, и Бог не поражал злодеев на месте. Было ли это всё фантазией, или за этим действительно стояло что-то, случившееся в тёмные, жестокие дни мировой истории? Я опустил пульсирующую голову на дрожащие руки. И тут, внезапно, моё сердце, казалось, замерло в груди, и я не мог даже закричать, так велик был мой ужас. Что-то приближалось ко мне сквозь мрак комнаты.
Ужас, накладывающийся на ужас, – вот что ломает дух человека. Я не мог рассуждать, я не мог молиться; я мог только сидеть, как застывшее изваяние, и смотреть на тёмную фигуру, идущую через огромную комнату. А потом она вышла на белую полосу лунного света, и я снова смог дышать. Это был Дакр, и по его лицу было видно, что он напуган не меньше моего.
– Это вы? Ради всего святого, что случилось? – спросил он хриплым голосом.
– О, Дакр, я так рад вас видеть! Я побывал в аду. Это было ужасно.
– Значит, это вы кричали?
– Полагаю, что я.
– Крик разнёсся по всему дому. Слуги все в ужасе. – Он чиркнул спичкой и зажёг лампу. – Думаю, мы сможем снова разжечь огонь, – добавил он, бросая несколько поленьев на угли. – Боже мой, дорогой мой, как вы бледны! Вы выглядите так, словно увидели призрака.
– Так и есть – нескольких призраков.
– Значит, кожаная воронка сработала?
– Я бы ни за какие деньги снова не стал спать рядом с этой адской штукой.
Дакр усмехнулся.
– Я ожидал, что у вас будет весёлая ночка, – сказал он. – Вы, в свою очередь, отплатили мне, потому что ваш крик в два часа ночи был не самым приятным звуком. Полагаю, судя по вашим словам, вы видели всё это ужасное действо.
– Какое ужасное действо?
– Пытка водой – или «чрезвычайный допрос», как её называли в славные времена «Короля-Солнца». Вы выдержали до конца?
– Нет, слава богу, я проснулся до того, как всё началось по-настоящему.
– А! Это и к лучшему. Я продержался до третьего ведра. Что ж, это старая история, и все они теперь в могилах, так что какая разница, как они туда попали? Полагаю, вы не имеете понятия, что именно вы видели?
– Пытку какой-то преступницы. Должно быть, она была ужасной злодейкой, если её преступления соразмерны её наказанию.
– Ну, у нас есть это маленькое утешение, – сказал Дакр, кутаясь в халат и придвигаясь ближе к огню. – Они БЫЛИ соразмерны её наказанию. То есть, если я не ошибаюсь в личности этой дамы.
– Как вы могли узнать её личность?
Вместо ответа Дакр снял с полки старый том в пергаментном переплёте.
– Только послушайте, – сказал он, – это на французском семнадцатого века, но я буду давать приблизительный перевод по ходу. Вы сами рассудите, разгадал я загадку или нет.
«„Обвиняемая предстала перед Большой Палатой и Турнелью Парламента, заседавшими в качестве суда, по обвинению в убийстве магистра Дрё д’Обре, своего отца, и двух своих братьев, господ д’Обре, один из которых был гражданским лейтенантом, а другой – советником Парламента. Внешне трудно было поверить, что она действительно совершила столь злодейские деяния, ибо была она кроткого вида, невысокого роста, со светлой кожей и голубыми глазами. Тем не менее, Суд, признав её виновной, приговорил её к ординарному и чрезвычайному допросу, дабы принудить её назвать сообщников, после чего её следовало отвезти в телеге на Гревскую площадь, там отрубить ей голову, тело её сжечь, а пепел развеять по ветру“».
– Эта запись датируется 16 июля 1676 года.
– Интересно, – сказал я, – но не убедительно. Как вы докажете, что это одна и та же женщина?
– Я к этому подхожу. Далее в повествовании рассказывается о поведении женщины во время допроса. «„Когда к ней приблизился палач, она узнала его по верёвкам, которые он держал в руках, и тотчас протянула ему свои, оглядев его с головы до ног, не произнеся ни слова“. Ну как?»
– Да, так и было.
«„Она без содрогания смотрела на деревянного коня и кольца, которые искалечили столько конечностей и вызвали столько криков агонии. Когда её взгляд упал на три ведра с водой, уже готовые для неё, она сказала с улыбкой: ‚Вся эта вода, должно быть, принесена сюда с целью утопить меня, месье. Вы ведь не собираетесь, надеюсь, заставить особу моего небольшого роста всё это выпить‘“». Мне читать подробности пытки?
– Нет, ради всего святого, не надо.
– Вот фраза, которая, несомненно, покажет вам, что здесь записана та самая сцена, которую вы видели сегодня ночью: «„Добрый аббат Пиро, не в силах созерцать муки, которые претерпевала его кающаяся, поспешно покинул комнату“». Это вас убеждает?
– Вполне. Не может быть сомнений, что это действительно то же самое событие. Но кто же тогда эта дама, чья внешность была так привлекательна, а конец так ужасен?
Вместо ответа Дакр подошёл ко мне и поставил маленькую лампу на столик у моей кровати. Подняв зловещую воронку, он повернул латунный обод так, чтобы свет падал прямо на него. При таком освещении гравировка казалась чётче, чем накануне вечером.
– Мы уже сошлись на том, что это знак маркиза или маркизы, – сказал он. – Мы также установили, что последняя буква – «B».
– Это несомненно так.
– Теперь я предполагаю, что остальные буквы слева направо – это M, M, маленькая d, A, маленькая d, и затем конечная B.
– Да, я уверен, что вы правы. Я совершенно отчётливо различаю две маленькие «d».
– То, что я вам сегодня прочитал, – сказал Дакр, – это официальный отчёт о суде над Мари Мадлен д’Обре, маркизой де Бренвилье, одной из самых знаменитых отравительниц и убийц всех времён.
Я сидел в молчании, ошеломлённый необычайностью происшествия и той полнотой доказательств, с которой Дакр раскрыл его истинный смысл. Я смутно припомнил некоторые детали её жизни: её безудержный разврат, хладнокровные и protractedные пытки больного отца, убийство братьев из-за мелочной выгоды. Я также вспомнил, что храбрость, с которой она встретила свой конец, в какой-то мере искупила ужас её жизни, и что весь Париж сочувствовал её последним минутам и благословлял её как мученицу спустя всего несколько дней после того, как проклинал её как убийцу. Одно, и только одно, возражение пришло мне в голову.
– Как её инициалы и знак ранга оказались на воронке? Неужели их средневековое почтение к знати доходило до того, чтобы украшать орудия пыток их титулами?
– Меня озадачил тот же вопрос, – сказал Дакр, – но он допускает простое объяснение. Это дело вызвало в своё время необычайный интерес, и не было ничего естественнее для Ла Рейни, главы полиции, чем сохранить эту воронку в качестве мрачного сувенира. Нечасто французская маркиза подвергалась чрезвычайному допросу. А то, что он выгравировал на ней её инициалы для сведения других, было, безусловно, вполне обычным с его стороны поступком.
– А это? – спросил я, указывая на следы на кожаном горлышке.
– Она была жестокой тигрицей, – сказал Дакр, отворачиваясь. – Думаю, очевидно, что, как и у всякой тигрицы, зубы у неё были и сильные, и острые.
Новая катакомба
– Послушайте, Бургер, – сказал Кеннеди, – мне бы очень хотелось, чтобы вы наконец доверились мне.
Два знаменитых исследователя римских древностей сидели вместе в уютной комнате Кеннеди с видом на Корсо. Ночь была холодной, и оба придвинули кресла к жалкому подобию итальянской печи, которая скорее создавала духоту, чем давала тепло. Снаружи, под яркими зимними звёздами, раскинулся современный Рим: длинная двойная цепь электрических фонарей, сияющие огнями кафе, несущиеся экипажи и плотная толпа на тротуарах. Но внутри, в роскошных апартаментах молодого богатого английского археолога, царил лишь Древний Рим. На стенах висели потрескавшиеся, тронутые временем фризы, из углов выглядывали серые старые бюсты сенаторов и воинов с их волевыми лицами и жёсткими, жестокими чертами. На центральном столе, среди россыпи надписей, обломков и украшений, возвышалась знаменитая реконструкция терм Каракаллы, выполненная Кеннеди, – та самая, что вызвала такой интерес и восхищение на выставке в Берлине. С потолка свисали амфоры, а на богатом красном турецком ковре были разбросаны диковинки. И среди них не было ни одной, чья подлинность не была бы безупречной, а редкость и ценность – исключительными; ибо Кеннеди, которому было немногим более тридцати, уже имел европейскую репутацию в этой узкой области исследований и, более того, обладал тугим кошельком, который либо становится роковым препятствием для усердия учёного, либо, если его ум остаётся верен цели, даёт ему огромное преимущество в гонке за славой. Кеннеди часто отвлекался от своих занятий, поддаваясь прихотям и удовольствиям, но ум у него был острый, способный к долгим и сосредоточенным усилиям, которые сменялись резкими приступами чувственной апатии. Его красивое лицо с высоким белым лбом, хищным носом и несколько расслабленным, чувственным ртом было точным отражением компромисса между силой и слабостью в его натуре.
Совсем иного склада был его собеседник, Юлиус Бургер. Он был плодом необычного союза – отец-немец и мать-итальянка, – и в нём суровые черты Севера причудливо смешивались с мягкими грациями Юга. Голубые тевтонские глаза светились на его загорелом лице, а над ними возвышался квадратный, массивный лоб, обрамлённый каймой коротких светлых кудрей. Его крепкий, волевой подбородок был чисто выбрит, и его собеседник не раз отмечал, как сильно он напоминает те самые древнеримские бюсты, что выглядывали из теней в углах комнаты. За его грубоватой немецкой силой всегда угадывался намёк на итальянскую утончённость, но улыбка была такой искренней, а глаза такими открытыми, что становилось ясно: это лишь свидетельство его происхождения, не имеющее прямого отношения к его характеру. По возрасту и репутации он стоял на одном уровне со своим английским коллегой, но его жизнь и работа были куда более трудными. Двенадцать лет назад он приехал в Рим бедным студентом и с тех пор жил на небольшую исследовательскую стипендию, присуждённую ему Боннским университетом. Мучительно, медленно и упорно, с необычайным упорством и целеустремлённостью, он поднимался со ступеньки на ступеньку по лестнице славы, пока не стал членом Берлинской академии, и были все основания полагать, что в скором времени он получит кафедру в величайшем из немецких университетов. Но та самая целеустремлённость, которая подняла его на один высокий уровень с богатым и блестящим англичанином, во всём, что не касалось их работы, ставила его бесконечно ниже. В своих занятиях он не находил пауз, чтобы развивать светские манеры. Лишь когда он говорил о своём предмете, его лицо наполнялось жизнью и душой. В остальное время он был молчалив и смущён, слишком остро осознавая свою ограниченность в более широких темах и нетерпимый к той пустой болтовне, которая служит общепринятым убежищем для тех, кому нечего сказать.
И всё же вот уже несколько лет между этими двумя столь разными соперниками существовало знакомство, которое, казалось, медленно перерастало в дружбу. Основа и исток её лежали в том, что в их научной области каждый из них был единственным из молодых людей, обладавшим достаточными знаниями и энтузиазмом, чтобы по-настоящему оценить другого. Общие интересы и занятия сблизили их, и каждого привлекали познания другого. А затем постепенно к этому прибавилось нечто большее. Кеннеди забавляли откровенность и простота его соперника, в то время как Бургер, в свою очередь, был очарован блеском и живостью, которые сделали Кеннеди таким любимцем в римском обществе. Я говорю «был», потому что как раз в этот момент над молодым англичанином несколько сгустились тучи. Любовная интрига, подробности которой так и не стали до конца известны, выявила с его стороны бессердечность и чёрствость, шокировавшие многих его друзей. Но в холостяцких кругах студентов и художников, в которых он предпочитал вращаться, кодекс чести в таких вопросах не слишком строг, и хотя кто-то, возможно, и качал головой или пожимал плечами по поводу бегства двоих и возвращения одного, общее настроение было, вероятно, скорее любопытством и, может быть, завистью, чем порицанием.
– Послушайте, Бургер, – сказал Кеннеди, пристально глядя в спокойное лицо своего собеседника, – мне бы очень хотелось, чтобы вы наконец доверились мне.
Говоря это, он указал на ковёр, лежавший на полу. На ковре стояла длинная, неглубокая корзина для фруктов из лёгкой ивовой лозы, какие используют в Кампанье, и она была доверху наполнена всякой всячиной: плитками с надписями, обломками надгробий, треснувшей мозаикой, рваными папирусами, ржавыми металлическими украшениями, – всё это непосвящённому могло бы показаться прямиком из мусорного бака, но специалист быстро бы признал в них уникальные в своём роде предметы. Эта груда всякого хлама в плоской плетёной корзине представляла собой именно то недостающее звено в социальной истории, которое так интересно исследователю. Принёс её немец, и глаза англичанина горели голодным огнём, когда он смотрел на находки.
– Я не собираюсь посягать на ваш клад, но мне бы очень хотелось о нём услышать, – продолжил он, пока Бургер неторопливо раскуривал сигару. – Очевидно, это открытие первостепенной важности. Эти надписи произведут сенсацию по всей Европе.
– На каждую, что здесь, там приходится миллион! – сказал немец. – Их так много, что дюжина учёных могла бы потратить на них целую жизнь и создать себе репутацию, прочную, как замок Святого Ангела.
Кеннеди сидел в задумчивости, наморщив свой прекрасный лоб и теребя пальцами длинные светлые усы.
– Вы себя выдали, Бургер! – сказал он наконец. – Ваши слова могут относиться лишь к одному. Вы открыли новую катакомбу.
– Я не сомневался, что вы уже пришли к такому выводу, изучив эти предметы.
– Ну, они, безусловно, на это указывали, но ваши последние слова делают это несомненным. Нигде, кроме катакомбы, не могло бы храниться такое огромное количество реликвий, как вы описываете.
– Совершенно верно. В этом нет никакой тайны. Я ОТКРЫЛ новую катакомбу.
– Где?
– А, это мой секрет, дорогой Кеннеди. Достаточно сказать, что она расположена так, что нет и одного шанса на миллион, что кто-то другой на неё наткнётся. Её датировка отличается от всех известных катакомб, и она предназначалась для захоронения христиан самого высокого ранга, так что останки и реликвии совершенно не похожи ни на что, виденное прежде. Если бы я не знал о ваших познаниях и вашей энергии, мой друг, я бы, взяв с вас клятву о неразглашении, не колеблясь, рассказал вам всё. Но в нынешних обстоятельствах, я думаю, мне следует сначала подготовить собственный отчёт, прежде чем вступать в столь грозное соперничество.
Кеннеди любил свой предмет любовью, граничившей с манией, – любовью, которая удерживала его, несмотря на все соблазны, выпадающие на долю богатого и склонного к разгулу молодого человека. У него были амбиции, но они были вторичны по сравнению с чистой, отвлечённой радостью и интересом ко всему, что касалось древней жизни и истории города. Он жаждал увидеть этот новый подземный мир, открытый его товарищем.
– Послушайте, Бургер, – сказал он серьёзно, – уверяю вас, вы можете мне полностью доверять в этом вопросе. Ничто не заставит меня взяться за перо и написать о чём-либо увиденном, пока я не получу вашего прямого разрешения. Я прекрасно понимаю ваши чувства и считаю их совершенно естественными, но вам действительно нечего опасаться с моей стороны. С другой стороны, если вы мне не расскажете, я начну систематические поиски и непременно её обнаружу. В этом случае, конечно, я воспользуюсь находкой по своему усмотрению, поскольку не буду связан перед вами никакими обязательствами.
Бургер задумчиво улыбнулся, попыхивая сигарой.
– Я заметил, друг Кеннеди, – сказал он, – что когда мне нужна информация по какому-либо вопросу, вы не всегда так охотно её предоставляете.
– Когда вы спрашивали меня о чём-то, чего бы я вам не рассказал? Вы помните, например, как я дал вам материал для вашей статьи о храме весталок.
– Ах, ну, это был не слишком важный вопрос. Интересно, если бы я спросил вас о чём-то сугубо личном, ответили бы вы мне? Эта новая катакомба – очень личное для меня дело, и я, безусловно, ожидал бы в ответ какого-то знака доверия.
– Не могу себе представить, к чему вы клоните, – сказал англичанин, – но если вы имеете в виду, что ответите на мой вопрос о катакомбе, если я отвечу на любой вопрос, который вы мне зададите, то уверяю вас, я непременно это сделаю.
– Что ж, тогда, – сказал Бургер, роскошно откидываясь на спинку кресла и выпуская в воздух синее деревце сигарного дыма, – расскажите мне всё о ваших отношениях с мисс Мэри Сондерсон.
Кеннеди вскочил со стула и гневно уставился на своего невозмутимого собеседника.
– Что, чёрт возьми, вы имеете в виду? – вскричал он. – Что это за вопрос? Возможно, вы это в шутку, но хуже шутки вы ещё не придумывали.
– Нет, я не шучу, – просто сказал Бургер. – Меня действительно интересуют подробности этого дела. Я мало знаю о мире, женщинах, светской жизни и тому подобных вещах, и такой случай для меня притягателен своей неизвестностью. Я знаю вас, и я знал её в лицо – даже разговаривал с ней пару раз. Мне бы очень хотелось услышать из ваших уст, что именно между вами произошло.
– Я не скажу вам ни слова.
– Что ж, пусть так. Это была лишь моя прихоть – посмотреть, так ли легко вы расстанетесь со своим секретом, как ожидали этого от меня в отношении моей тайны о новой катакомбе. Вы не стали, и я этого не ожидал. Но почему вы ожидали иного от меня? Вот часы Святого Иоанна бьют десять. Мне пора домой.
– Нет, подождите, Бургер, – сказал Кеннеди, – это действительно нелепый каприз с вашей стороны – желать знать о старой любовной интриге, которая угасла много месяцев назад. Вы же знаете, мы считаем мужчину, который сначала целует, а потом треплется об этом, последним трусом и негодяем.
– Разумеется, – сказал немец, собирая свою корзину с диковинками, – если он рассказывает о девушке что-то, что ранее было неизвестно. Но в данном случае, как вы, должно быть, знаете, это было достоянием общественности, о котором говорил весь Рим, так что, обсуждая этот случай со мной, вы не причините мисс Мэри Сондерсон никакого вреда. Но всё же я уважаю ваши принципы; итак, спокойной ночи!
– Подождите, Бургер, – сказал Кеннеди, положив руку на плечо собеседника, – я очень увлечён этой историей с катакомбой и не могу так легко её оставить. Не могли бы вы в обмен спросить меня о чём-нибудь другом – на этот раз не о таком эксцентричном?
– Нет, нет, вы отказались, и на этом всё, – сказал Бургер с корзиной на руке. – Несомненно, вы совершенно правы, что не отвечаете, и, несомненно, я тоже совершенно прав – так что ещё раз, дорогой Кеннеди, спокойной ночи!
Англичанин смотрел, как Бургер пересекает комнату, и тот уже взялся за ручку двери, когда хозяин вскочил с видом человека, который смирился с неизбежным.
– Постой, старина, – сказал он, – я считаю, что ты ведёшь себя самым нелепым образом; но всё же, если таково твоё условие, полагаю, я должен ему подчиниться. Я ненавижу говорить о девушках, но, как ты сказал, об этом знает весь Рим, и вряд ли я смогу рассказать тебе что-то новое. Что ты хотел узнать?
Немец вернулся к печи и, поставив корзину, снова опустился в кресло.
– Можно мне ещё сигару? – сказал он. – Большое спасибо! Я никогда не курю, когда работаю, но беседа доставляет мне гораздо больше удовольствия под влиянием табака. Итак, что касается этой молодой леди, с которой у вас было это маленькое приключение. Что, чёрт возьми, с ней стало?
– Она дома, со своей семьёй.
– О, неужели – в Англии?
– Да.
– В какой части Англии – в Лондоне?
– Нет, в Твикнеме.
– Вы должны извинить моё любопытство, дорогой Кеннеди, и списать его на моё невежество в мирских делах. Несомненно, довольно просто убедить молодую леди уехать с вами на три недели или около того, а затем передать её собственной семье в… как вы назвали это место?
– Твикнем.
– Именно – в Твикнеме. Но это настолько выходит за рамки моего опыта, что я даже не могу представить, как вы это провернули. Например, если бы вы любили эту девушку, ваша любовь вряд ли бы исчезла за три недели, так что, я полагаю, вы её и не любили вовсе. Но если вы её не любили, зачем было устраивать этот большой скандал, который повредил вам и погубил её?
Кеннеди угрюмо смотрел на красный глазок печи.
– Это, безусловно, логичный взгляд на вещи, – сказал он. – Любовь – большое слово, и оно обозначает множество различных оттенков чувств. Она мне нравилась, и – ну, вы говорите, что видели её – вы знаете, какой очаровательной она могла быть. Но всё же я готов признать, оглядываясь назад, что я никогда по-настоящему её не любил.
– Тогда, дорогой Кеннеди, зачем вы это сделали?
– Во многом из-за азарта приключения.
– Что! Вы так любите приключения!
– Где было бы разнообразие жизни без них? Именно ради приключения я и начал оказывать ей знаки внимания. Я в своё время охотился на разную дичь, но нет охоты увлекательнее, чем охота на красивую женщину. Была и пикантная трудность, ведь, поскольку она была компаньонкой леди Эмили Руд, увидеть её наедине было почти невозможно. В довершение ко всем прочим препятствиям, которые меня привлекали, я узнал от неё самой в самом начале, что она была помолвлена.
– Mein Gott! С кем?
– Она не назвала имён.
– Не думаю, что это кто-то знает. Так что это сделало приключение ещё более соблазнительным, не так ли?
– Ну, это, безусловно, добавило остроты. Вы так не думаете?
– Говорю же вам, я очень несведущ в этих делах.
– Дорогой мой, вы же помните, что яблоко, украденное с дерева соседа, всегда слаще того, что упало с вашего собственного. А потом я обнаружил, что она неравнодушна ко мне.
– Что – сразу?
– О нет, потребовалось около трёх месяцев осады и подкопов. Но в конце концов я её завоевал. Она понимала, что моё судебное разлучение с женой не позволяет мне поступить с ней по-честному, но она всё равно пошла на это, и мы провели чудесное время, пока оно длилось.
– А как же другой мужчина?
Кеннеди пожал плечами.
– Полагаю, это выживание сильнейшего, – сказал он. – Будь он лучшим мужчиной, она бы его не бросила. Давайте сменим тему, с меня хватит!
– Только ещё одно. Как вы избавились от неё через три недели?
– Ну, мы оба несколько поостыли, понимаете. Она наотрез отказалась, ни при каких обстоятельствах, возвращаться и смотреть в глаза людям, которых знала в Риме. А мне, конечно, Рим необходим, и я уже тосковал по своей работе – так что была одна очевидная причина для разрыва. Потом в отель в Лондоне явился её старый отец, была сцена, и всё это стало настолько неприятным, что, право, – хотя поначалу я ужасно по ней скучал, – я был очень рад из этого выпутаться. Теперь я рассчитываю, что вы не повторите ничего из того, что я сказал.
– Дорогой Кеннеди, мне и в голову не придёт это повторять. Но всё, что вы говорите, меня очень интересует, потому что это даёт мне представление о вашем взгляде на вещи, который полностью отличается от моего, ведь я так мало видел в жизни. А теперь вы хотите узнать о моей новой катакомбе. Нет смысла пытаться её описывать, вы всё равно её так не найдёте. Есть только один способ – я должен вас туда отвести.
– Это было бы великолепно.
– Когда бы вы хотели пойти?
– Чем скорее, тем лучше. Мне не терпится её увидеть.
– Что ж, ночь прекрасная, хоть и немного холодная. Предположим, мы отправимся через час. Мы должны быть очень осторожны, чтобы сохранить всё в тайне. Если кто-то увидит нас, охотящихся парой, они заподозрят, что что-то затевается.
– Осторожность не повредит, – сказал Кеннеди. – Это далеко?
– Несколько миль.
– Не слишком далеко, чтобы идти пешком?
– О нет, мы легко дойдём.
– Тогда так и сделаем. Подозрения извозчика могут быть вызваны, если он высадит нас обоих в каком-нибудь уединённом месте посреди ночи.
– Совершенно верно. Думаю, нам лучше всего встретиться у ворот Аппиевой дороги в полночь. Мне нужно вернуться в свою квартиру за спичками, свечами и прочим.
– Хорошо, Бургер! Я думаю, это очень любезно с вашей стороны посвятить меня в эту тайну, и я обещаю, что ничего не напишу об этом, пока вы не опубликуете свой отчёт. До скорого! Вы найдёте меня у ворот в двенадцать.
Холодный, ясный воздух был наполнен музыкальным перезвоном колоколов этого города-часов, когда Бургер, закутанный в итальянское пальто, с фонарём в руке, подошёл к месту встречи. Кеннеди вышел из тени ему навстречу.
– Вы пылки и в работе, и в любви! – сказал немец, смеясь.
– Да, я жду здесь уже почти полчаса.
– Надеюсь, вы не оставили никаких следов, куда мы направляемся.
– Не такой я дурак! Чёрт возьми, я промёрз до костей! Пойдёмте, Бургер, согреемся быстрой ходьбой.
Их шаги громко и отчётливо раздавались по грубому каменному покрытию унылой дороги, которая осталась от самой знаменитой магистрали мира. Крестьянин-другой, возвращавшийся домой из винной лавки, да несколько повозок с деревенскими продуктами, ехавших в Рим, – вот и всё, что они встретили. Они шли быстрым шагом, мимо огромных гробниц, вырисовывавшихся во тьме по обеим сторонам, пока не дошли до катакомб святого Каллиста и не увидели на фоне восходящей луны большой круглый бастион Цецилии Метеллы. Тут Бургер остановился, схватившись за бок.
– Ваши ноги длиннее моих, и вы больше привыкли к ходьбе, – сказал он, смеясь. – Думаю, место, где нам нужно свернуть, где-то здесь. Да, вот оно, за углом траттории. Теперь пойдёт очень узкая тропа, так что, пожалуй, я пойду впереди, а вы следуйте за мной.
Он зажёг фонарь, и при его свете они смогли различить узкую и извилистую тропинку, петлявшую по болотам Кампаньи. Великий акведук Древнего Рима лежал, словно чудовищная гусеница, поперёк залитого лунным светом пейзажа, и их путь привёл их под одну из его огромных арок и мимо круга из крошащихся кирпичей, отмечавшего старую арену. Наконец Бургер остановился у одинокого деревянного коровника и достал из кармана ключ.
– Неужели ваша катакомба внутри дома! – воскликнул Кеннеди.
– Вход в неё. Это как раз и есть гарантия от того, что кто-то другой её обнаружит.
– А владелец знает о ней?
– Вовсе нет. Он нашёл пару предметов, которые почти убедили меня, что его дом построен на входе в такое место. Так что я арендовал его у него и сам провёл раскопки. Входите и закройте за собой дверь.
Это было длинное, пустое строение с коровьими яслями вдоль одной стены. Бургер поставил фонарь на землю и, накинув на него пальто, заслонил свет со всех сторон, кроме одной.
– Это может вызвать подозрения, если кто-то увидит свет в этом уединённом месте, – сказал он. – Помогите мне сдвинуть эти доски.
Пол в углу был шатким, и доска за доской два учёных мужа подняли его и прислонили к стене. Внизу открылось квадратное отверстие и лестница из старых каменных ступеней, уходившая в недра земли.
– Осторожнее! – крикнул Бургер, когда Кеннеди в нетерпении бросился вниз. – Внизу настоящий кроличий лабиринт, и если вы там заблудитесь, шансы выбраться будут сто к одному против вас. Подождите, пока я принесу свет.
– Как же вы сами находите дорогу, если всё так запутано?
– Поначалу у меня было несколько опасных моментов, но я постепенно научился ориентироваться. Там есть определённая система, но заблудившийся человек, окажись он в темноте, ни за что бы её не разгадал. Даже сейчас я всегда разматываю за собой клубок верёвки, когда ухожу далеко в катакомбу. Вы сами увидите, как это сложно, но каждый из этих проходов разветвляется и делится ещё дюжину раз, не успеешь пройти и ста ярдов.
Они спустились футов на двадцать от уровня коровника и теперь стояли в квадратном зале, высеченном в мягком туфе. Фонарь бросал мерцающий свет, яркий внизу и тусклый вверху, на потрескавшиеся бурые стены. Во все стороны расходились чёрные отверстия проходов.
– Я хочу, чтобы вы шли вплотную за мной, мой друг, – сказал Бургер. – Не задерживайтесь, чтобы что-то рассматривать по пути, потому что место, куда я вас веду, содержит всё, что вы можете увидеть, и даже больше. Мы сэкономим время, если пойдём туда прямо.
Он повёл по одному из коридоров, и англичанин последовал за ним по пятам. Время от времени проход раздваивался, но Бургер, очевидно, следовал каким-то своим тайным меткам, потому что не останавливался и не колебался. Везде вдоль стен, уложенные, как койки на эмигрантском корабле, покоились христиане Древнего Рима. Жёлтый свет скользил по иссохшим чертам мумий, поблёскивал на округлых черепах и длинных белых костях рук, скрещённых на истлевших грудных клетках. И повсюду, проходя мимо, Кеннеди с жадностью смотрел на надписи, погребальные сосуды, росписи, облачения, утварь – всё лежало так, как благочестивые руки положили это много веков назад. Ему было очевидно, даже при этих беглых, мимолётных взглядах, что это самая ранняя и самая богатая из катакомб, содержащая такое сокровище римских древностей, какое ещё никогда не представало разом взору исследователя.
– Что будет, если свет погаснет? – спросил он, пока они спешили вперёд.
– У меня в кармане запасная свеча и коробка спичек. Кстати, Кеннеди, у вас есть спички?
– Нет, лучше дайте мне.
– О, всё в порядке. Нет шансов, что мы разделимся.
– Как далеко мы идём? Мне кажется, мы прошли не меньше четверти мили.
– Думаю, больше. У этих гробниц, по сути, нет конца – по крайней мере, я так и не смог его найти. Это очень запутанное место, так что, думаю, я воспользуюсь нашим клубком.
Он привязал один конец верёвки к выступающему камню, а катушку положил в нагрудный карман, разматывая её по мере продвижения. Кеннеди видел, что это была не лишняя предосторожность, потому что проходы стали ещё более сложными и извилистыми, представляя собой настоящую сеть пересекающихся коридоров. Но все они заканчивались в одном большом круглом зале с квадратным постаментом из туфа, увенчанным мраморной плитой, в одном его конце.
– Чёрт возьми! – в экстазе воскликнул Кеннеди, когда Бургер навёл фонарь на мрамор. – Это христианский алтарь – возможно, первый из существующих. Вот маленький освящающий крест, вырезанный на углу. Несомненно, это круглое пространство использовалось как церковь.
– Именно, – сказал Бургер. – Будь у меня больше времени, я бы хотел показать вам все тела, захороненные в этих нишах на стенах, ибо это ранние папы и епископы Церкви, с их митрами, посохами и в полном каноническом облачении. Подойдите к тому и посмотрите!
Кеннеди подошёл и уставился на жуткую голову, свободно лежавшую на истлевшей и рассыпающейся митре.
– Это в высшей степени интересно, – сказал он, и его голос, казалось, гулко отозвался под сводчатым потолком. – Насколько я могу судить, это уникально. Поднесите фонарь, Бургер, я хочу их всех рассмотреть.
Но немец отошёл и стоял в центре жёлтого круга света на другой стороне зала.
– Вы знаете, сколько неверных поворотов между этим местом и лестницей? – спросил он. – Их более двух тысяч. Несомненно, это было одно из средств защиты, которые использовали христиане. Шансы, что человек выберется, даже со светом, составляют две тысячи к одному; но если бы он был в темноте, это, конечно, было бы гораздо сложнее.
– Я так и думаю.
– А темнота здесь ужасная. Я однажды попробовал ради эксперимента. Давайте попробуем снова! – Он наклонился к фонарю, и в одно мгновение словно невидимая рука крепко зажала Кеннеди глаза. Никогда он не знал такой темноты. Казалось, она давит на него, душит его. Это было твёрдое препятствие, от которого тело отшатывалось. Он вытянул руки, чтобы оттолкнуть её от себя.
– Хватит, Бургер, – сказал он, – давайте снова зажжём свет.
Но его спутник рассмеялся, и в этом круглом зале звук, казалось, исходил со всех сторон одновременно.
– Вы кажетесь встревоженным, друг Кеннеди, – сказал он.
– Давай, зажигай свечу! – нетерпеливо сказал Кеннеди.
– Очень странно, Кеннеди, но я совершенно не могу по звуку определить, в какой стороне вы стоите. А вы могли бы сказать, где я?
– Нет, вы, кажется, со всех сторон.
– Если бы не эта верёвка, которую я держу в руке, я бы понятия не имел, куда идти.
– Полагаю, что так. Зажигай, и кончай этот вздор.
– Что ж, Кеннеди, я знаю две вещи, которые вы очень любите. Одна – это приключение, а другая – препятствие, которое нужно преодолеть. Приключением будет поиск пути из этой катакомбы. Препятствием – темнота и две тысячи неверных поворотов, которые немного затрудняют путь. Но вам не нужно торопиться, у вас много времени, и когда вы будете останавливаться на отдых, я бы хотел, чтобы вы подумали о мисс Мэри Сондерсон и о том, так ли уж честно вы с ней обошлись.
– Дьявол, что ты несёшь? – взревел Кеннеди. Он бегал кругами и хватал руками плотную черноту.
– Прощайте, – сказал насмешливый голос, уже издалека. – Я действительно не думаю, Кеннеди, даже по вашим собственным словам, что вы поступили правильно с этой девушкой. Была лишь одна мелочь, которой вы, похоже, не знали, и я могу её сообщить. Мисс Сондерсон была невестой бедного, нескладного студента по имени Юлиус Бургер.
Где-то послышался шорох, неясный звук удара ноги о камень, а затем на эту древнюю христианскую церковь опустилась тишина – застойная, тяжёлая тишина, которая сомкнулась вокруг Кеннеди и поглотила его, как вода – тонущего человека.
Около двух месяцев спустя следующий параграф обошёл всю европейскую прессу:
«Одним из самых интересных открытий последних лет стало обнаружение новой катакомбы в Риме, расположенной несколько восточнее известных подземелий святого Каллиста. Обнаружение этого важного захоронения, чрезвычайно богатого интереснейшими раннехристианскими останками, стало возможным благодаря энергии и проницательности доктора Юлиуса Бургера, молодого немецкого специалиста, который быстро завоёвывает первенство в качестве авторитета по Древнему Риму. Хотя он и первым опубликовал своё открытие, похоже, что менее удачливый искатель приключений опередил доктора Бургера. Несколько месяцев назад мистер Кеннеди, известный английский учёный, внезапно исчез из своих апартаментов на Корсо, и предполагалось, что его связь с недавним скандалом заставила его покинуть Рим. Теперь выясняется, что в действительности он пал жертвой той пылкой любви к археологии, которая вознесла его на видное место среди ныне живущих учёных. Его тело было обнаружено в самом сердце новой катакомбы, и по состоянию его ног и ботинок было очевидно, что он много дней бродил по извилистым коридорам, которые делают эти подземные гробницы столь опасными для исследователей. Покойный джентльмен с необъяснимой опрометчивостью проник в этот лабиринт, не взяв с собой, насколько можно судить, ни свечей, ни спичек, так что его печальная участь стала закономерным итогом его собственной безрассудности. Что делает это происшествие ещё более прискорбным, так это то, что доктор Юлиус Бургер был близким другом покойного. Его радость от необычайной находки, которую ему посчастливилось сделать, была сильно омрачена ужасной судьбой его товарища и коллеги».
Случай с леди Сэннокс
Связь между Дугласом Стоуном и печально известной леди Сэннокс была широко известна как в фешенебельных кругах, блистательной представительницей которых она являлась, так и в научных обществах, причислявших его к своим самым прославленным собратьям. Поэтому, когда однажды утром было объявлено, что леди бесповоротно и навсегда приняла постриг и мир её больше не увидит, это вызвало повсеместный интерес. А когда вслед за этим слухом последовало известие, что прославленный хирург, человек со стальными нервами, был найден утром своим камердинером сидящим на краю кровати, приятно улыбающимся миру, засунув обе ноги в одну штанину, и что его великий мозг стоил не больше, чем горшок овсяной каши, – новость оказалась достаточно пикантной, чтобы вызвать трепет живейшего интереса даже у тех, кто и не надеялся, что их измотанные нервы способны на подобные ощущения.
В пору своего расцвета Дуглас Стоун был одним из самых выдающихся людей в Англии. В сущности, вряд ли можно было сказать, что он достиг расцвета сил, ибо в момент этого незначительного происшествия ему было всего тридцать девять. Те, кто знал его лучше всех, понимали, что, сколь бы ни был он знаменит как хирург, он мог бы добиться ещё более стремительного успеха на любом из дюжины других поприщ. Он мог бы проложить себе путь к славе как солдат, завоевать её как исследователь, выбить её в судах или выстроить из камня и железа как инженер. Он был рождён, чтобы стать великим, ибо мог замыслить то, что другой не осмелился бы сделать, и сделать то, что другой не осмелился бы замыслить. В хирургии никто не мог с ним сравниться. Его выдержка, его чутьё, его интуиция были чем-то запредельным. Снова и снова его скальпель отсекал смерть, но при этом задевал самые истоки жизни, так что его ассистенты становились бледнее самого пациента. Его энергия, его дерзость, его полнокровная самоуверенность – разве память о них до сих пор не витает к югу от Мэрилебон-роуд и к северу от Оксфорд-стрит?
Его пороки были столь же грандиозны, как и его добродетели, и бесконечно более живописны. Каким бы большим ни был его доход – а он был третьим по величине среди всех людей свободных профессий в Лондоне, – он и близко не покрывал роскоши его жизни. В глубине его сложной натуры таилась богатая жила чувственности, на алтарь которой он возлагал все дары своей жизни. Зрение, слух, осязание, вкус – все они были его повелителями. Букет старых вин, аромат редких экзотических цветов, изгибы и оттенки изысканнейшей европейской керамики – вот во что превращался стремительный золотой поток. А потом пришла его внезапная, безумная страсть к леди Сэннокс, когда единственная встреча, пара дерзких взглядов и слово, произнесённое шёпотом, воспламенили его. Она была самой прекрасной женщиной в Лондоне и единственной для него. Он был одним из самых красивых мужчин в Лондоне, но не единственным для неё. Она любила новые впечатления и была милостива к большинству мужчин, добивавшихся её расположения. Возможно, это было причиной, а возможно, и следствием того, что лорд Сэннокс выглядел на пятьдесят, хотя ему было всего тридцать шесть.
Этот лорд был человеком тихим, молчаливым, лишённым ярких красок, с тонкими губами и тяжёлыми веками, большим любителем садоводства и приверженцем домашних привычек. Когда-то он увлекался актёрством, даже арендовал театр в Лондоне, и на его подмостках впервые увидел мисс Мэрион Доусон, которой и предложил свою руку, титул и треть графства. После женитьбы его давнее хобби стало ему неприятно. Даже в домашних спектаклях его уже невозможно было уговорить проявить талант, которым он, несомненно, обладал. Он был счастливее с лопаткой и лейкой среди своих орхидей и хризантем.
Было весьма любопытно, был ли он абсолютно лишён разума или же ему прискорбно недоставало духа. Знал ли он о похождениях своей леди и потворствовал им, или же был просто слепым, влюблённым дураком? Этот вопрос обсуждался за чашками чая в уютных гостиных или с сигарой в руках у эркерных окон клубов. Среди мужчин его поведение вызывало резкие и недвусмысленные комментарии. Лишь один человек сказал о нём доброе слово, и был это самый молчаливый член курительной комнаты. Он видел, как тот в университете объезжал лошадь, и, похоже, это произвело на него впечатление.
Но когда Дуглас Стоун стал фаворитом, все сомнения относительно осведомлённости или неведения лорда Сэннокса развеялись навсегда. Стоун не прибегал к уловкам. В своей властной, порывистой манере он пренебрёг всякой осторожностью и благоразумием. Скандал стал достоянием гласности. Одно учёное общество известило его, что его имя вычеркнуто из списка вице-президентов. Двое друзей умоляли его подумать о своей профессиональной репутации. Он проклял всех троих и потратил сорок гиней на браслет, чтобы преподнести его леди. Каждый вечер он бывал у неё дома, а днём она каталась в его экипаже. Ни с той, ни с другой стороны не было и попытки скрыть их отношения; но в конце концов случилось небольшое происшествие, прервавшее их.
Это была унылая зимняя ночь, очень холодная и ветреная; ветер завывал в трубах и яростно бился в оконные стёкла. С каждым новым порывом бури тонкие струйки дождя барабанили по стеклу, на мгновение заглушая глухое бульканье и капель с карнизов. Дуглас Стоун закончил ужинать и сидел у огня в своём кабинете; бокал густого портвейна стоял на малахитовом столике у его локтя. Поднося его к губам, он поднял бокал на свет лампы и взглядом знатока рассматривал крошечные чешуйки винного камня, плавающие в его насыщенной рубиновой глубине. Огонь, вспыхивая, бросал прерывистые отсветы на его гладко выбритое, точёное лицо с широко раскрытыми серыми глазами, пухлыми, но твёрдыми губами и глубоким квадратным подбородком, в котором было что-то римское в его силе и животном магнетизме. Время от времени он улыбался, уютно устроившись в роскошном кресле. И в самом деле, у него были все основания быть довольным собой, ибо, вопреки советам шестерых коллег, он провёл в тот день операцию, о которой в анналах медицины было всего две записи, и результат превзошёл все ожидания. Ни один другой человек в Лондоне не обладал бы достаточной смелостью, чтобы замыслить, или достаточным мастерством, чтобы осуществить столь героическое вмешательство.
Но он обещал леди Сэннокс навестить её этим вечером, а было уже половина девятого. Он протянул руку к звонку, чтобы заказать карету, когда услышал глухой стук молотка в дверь. Мгновение спустя в холле послышалось шарканье ног и резкий хлопок двери.
– К вам пациент, сэр, в приёмной, – доложил дворецкий.
– По поводу себя?
– Нет, сэр; думаю, он хочет, чтобы вы поехали с ним.
– Слишком поздно, – раздражённо воскликнул Дуглас Стоун. – Я не поеду.
– Вот его карточка, сэр.
Дворецкий подал её на золотом подносе, который был подарен его хозяину женой премьер-министра.
– «Гамиль Али, Смирна». Хм! Полагаю, этот человек – турок.
– Да, сэр. Похоже, он иностранец, сэр. И он в ужасном состоянии.
– Ерунда! У меня назначена встреча. Я должен быть в другом месте. Но я приму его. Проводите его сюда, Пим.
Несколько мгновений спустя дворецкий распахнул дверь и ввёл невысокого и дряхлого человека, который шёл ссутулившись, вытянув вперёд лицо и моргая, как это бывает у крайне близоруких людей. Лицо у него было смуглое, а волосы и борода – угольно-чёрные. В одной руке он держал тюрбан из белого муслина в красную полоску, в другой – небольшой замшевый мешочек.
– Добрый вечер, – сказал Дуглас Стоун, когда дворецкий закрыл дверь. – Вы, полагаю, говорите по-английски?
