Лекции по метафизике Иммануила Канта. Том 2.
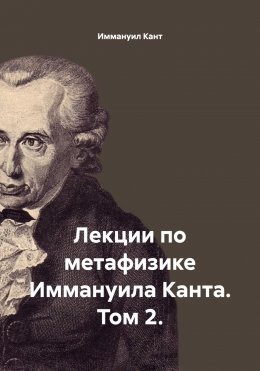
Глава 1
Наши познания пребывают в двоякой связи: во-первых, как агрегат, когда одно прибавляется к другому, дабы составить целое, например, песчаная горка сама по себе не представляет связи вещей, но они произвольно сложены (здесь нет ничего определённого); во-вторых, как ряд оснований и следствий, где части ряда именуются звеньями, поскольку мы можем познать одну часть лишь через другую, например, в человеческом теле одна часть существует через другую. Мы легко понимаем, что связь познаний как агрегата не даёт определённого понятия о целом, и это подобно тому, как я прибавляю один кусочек к другому, пока не возникнет гора и так далее, пока не образуется планета или земное тело – по крайней мере, мы можем мыслить это таким образом. В ряду же присутствует нечто, что осуществляет связь согласно правилу, а именно оснований и следствий.
При отношении оснований и следствий мы должны мыслить априорные границы, то есть основание, которое само не является следствием, и апостериорные границы, то есть следствие, которое не становится основанием, например, в человеческих поколениях: люди суть звенья ряда, и здесь мы должны помыслить человека, который, хотя и порождает, но сам не рождён, – следовательно, terminus a priori; и другого, который рождён, но никого не порождает, – следовательно, terminus a posteriori. Мы рассматриваем здесь (в метафизике) не вещи как таковые в их связи оснований и следствий, но познания, которые также происходят друг от друга, подобно людям или иным вещам. Я могу представить себе познание, которое не есть следствие, то есть высшее основание, и которое не есть основание, то есть конечное следствие.
Конечным следствием является непосредственный опыт, например: Нечто – тело – камень – известняк – мрамор – мраморная колонна.
Таким образом, у нас есть идея о связи познаний как оснований и следствий. Основания, которые обосновывают согласно определённому правилу, называются принципами (principia). Поскольку, следовательно, познания находятся в ряду, то должны быть и принципы. Примечательно, что я могу сделать следствие основанием, из чего, однако, не следует другое, но посредством чего я лишь пришёл к познанию другого. Следовательно, это не принципы бытия (principia essendi), но познания (principia cognoscendi), например, существование Бога я познаю из мира. Мир, однако, не есть основание Бога, но наоборот, но через мир я могу прийти к понятию Бога, и постольку я могу от обоснованного (principiata) идти к основаниям (principia) – следствия, которые используются как основания, чтобы идти обратно к своим основаниям, называются апостериорными принципами (principia a posteriori). Если я начинаю со следствий, то я познаю нечто апостериори; если я начинаю с оснований, то я познаю априори. Если мне нечто дано, я могу проверить, позна́л ли бы я это априори из оснований, например, что солнечный свет растапливает лёд, учит опыт; априори же мы вряд ли бы это позна́ли. Познание, взятое из опыта, является по преимуществу (κατ’ ἐξοχήν) апостериорным, и если мы впредь будем называть познания апостериорными, мы всегда понимаем таковые, которые из опыта, поскольку опыт содержит конечное следствие нашего познания, к которому мы ищем основания из разума. Если мы принимаем опыт за принцип, то этот принцип эмпирический: например, «все тела тяжелы» (насколько мы их знаем), – учит опыт; мы можем принять это за принцип и сказать: поскольку все тела тяжелы, то из этого следует… Априорные принципы – это такие, которые не заимствованы ни из какого опыта. Есть ли таковые, должно быть вскоре исследовано.
Поскольку это, таким образом, неосуществимо, мы можем B) отнять у этого материал. Я хочу иметь лишь часть системы всего человеческого познания, а именно науку о высших принципах человеческого познания, и такой проект скромен. Такую науку давно уже предполагалось разработать и назвали её метафизикой. Метафизика, следовательно, есть наука о первых принципах всего человеческого познания, которая, таким образом, содержит первые звенья ряда.Из взаимосвязи нашего познания может возникнуть единство, то есть наука, или может быть обнаружена связь, которая является систематической. A) Мы можем помыслить связь наших познаний как науку, от первых оснований до конечных следствий, и она охватила бы в себе целое всех выведенных познаний; однако это превосходит наши силы. Первое основание просто – а именно нечто (Etwas) – но чтобы иметь конечные следствия, мы должны пройти всё поле опыта, что невозможно. Однако это понятие C) не является достаточно определённым в отношении того, сколько или как мало к нему принадлежит. Ибо если я даю понятие о науке, то должно быть определено, что к ней принадлежит или нет, и также люди не могут (через данное понятие) знать, как далеко эти принципы простираются вплоть до опыта или нет, и где мы должны остановиться. – Всякий ряд можно разделить на 2 части: та, что предшествует другой, есть сравнительно первая, например, история церкви первых веков. Здесь нет ничего определённого, это может быть 3, 7, 8 век нашего летоисчисления. Априорная граница метафизики определена, а именно, что нет принципов, из которых она могла бы быть выведена. Говорят о возможном, невозможном, нечто и ничто, выше человек подняться не может. О мире, случае, судьбе, естественном, сверхъестественном – причине мира, существовании, Боге – так долго рассуждают посредством одних лишь понятий. Лишь о душе человека полагали, что можно нечто сказать, если он не обращал внимания на себя [т.е. на внутренний опыт].
Следовательно, сюда может относиться и тело, и теперь я не знаю, не относится ли сюда вся наука о природе (Naturlehre). Отсюда явствует, что я не могу установить метафизике границы в ряду следствий и оснований по степени, если я рассматриваю её как однородную и родственную с другими науками, но я должен мыслить её как разнородную и совершенно отличную от других.
D) Теперь мы говорим: метафизика есть наука априорных принципов человеческого познания (scientia principiorum cognitionis humanae a priori). Принадлежит ли математика к метафизике, хотя она также есть чистое познание (cognitio pura)? Нет, но, конечно, принципы возможности математики – ибо она содержит принципы возможности всякого априорного познания. Теперь понятие определено и установлено. Все познания, которые нуждаются в опыте, чтобы достигнуть этого [знания], находятся вне поля метафизики; чтобы определить понятие, я должен E) добавить особый вид (species) принципов. Познание, которое не отягощено никаким опытом, есть чистое, или метафизика есть наука принципов чистого познания (scientia principiorum cognitionis purae), или же только чистая философия (philosophia pura), это есть верный пробный камень, например: душа также не принадлежит к метафизике; психология лишь прибавлена [к ней]. Употребление разума должно быть чистым (pura) – следовательно, изолированным, то есть свободным от всякого опыта и независимым от него. – Естествознание (Natur Wissenschaft) также есть философия, но прикладная философия (philosophia applicata), она есть применение разума к предметам опыта, где мы полагаем в основание эмпирические принципы. Мы имеем 2 поля употребления разума. Она может продвигаться, имея априорные принципы, или апостериорные принципы, привлекая опыт к содействию. Первую часть этого употребления называют метафизикой. Здесь должно быть 2 главных部分:Априорные принципы всегда имеют при себе необходимость, апостериорные же – нет, например: «всё, что происходит, должно иметь основание» – есть положение априори, ибо опыт учит лишь, что так есть, – но не может отрицать, что нечто однажды не произошло бы и без основания. Существуют виды познаний априори и апостериори, которые совершенно отличны друг от друга. Например, Бог может быть познан лишь априори. Я не говорю: это – субстанция, это – акциденция; ибо здесь я исследую не сам разум, но я бы трактовал о предметах. Трансцендентальная философия, таким образом, весьма отлична от собственно метафизики, то есть системы познания через разум. Мы, естественно, спрашиваем: как мы приходим к таким априорным познаниям, где принципы, конечно,完全априорны, например, имел ли мир начало или нет, – этому не может научить никакой опыт, однако разум вопрошает об этом. Для него весьма важно это выяснить. Следовательно, это есть вопрос к чистому разуму, а не к тому, который поддерживается эмпирическими принципами, ибо он не может дать нам на это ответа. – Здесь, естественно, возникает вопрос: как разум хочет познать это независимо от опыта? Ответ на этот вопрос принадлежит к трансцендентальной философии, там мы видим, что существуют априорные принципы. Теперь я снова не знаю, как далеко они меня приведут? Я должен, следовательно, стремиться узнать всю его способность, чтобы не впасть в ослепление и заблуждения. Эту первую часть можно было бы назвать трансцендентальной философией или критикой чистого разума. Чистый разум – это тот, который судит независимо от всякого опыта. Эту часть можно было бы также назвать чистой метафизикой (metaphysicam puram); а 2) применение априорных принципов к предметам опыта было бы прикладной метафизикой (metaphysica applicata). Что она такое, мы покажем впоследствии.1. Мы должны рассмотреть сам разум – или первая часть есть наука, которая имеет разум своим предметом. Она трактовала бы об источниках, объёме и границах нашего чистого разума – или о природе, то есть о возможности судить априори. a) Сначала мы исследуем: может ли наше разумное познание познавать нечто априори – возможность априорного познания должна быть сначала показана. b) Далее: распространение, как далеко оно может простираться, к каким предметам оно может приходить без опыта. c) Наконец, границы, за которые оно не должно переступать, если хочет судить без опыта. E) Априорные познания двояки: a) математические, b) философские, с различием: логика – мы берём здесь лишь последние —, следовательно, математика не принадлежит к метафизике, хотя она также есть чистое познание (cognitio pura), но, конечно, принципы возможности математики, ибо она содержит принципы возможности всякого априорного познания – Однако мы можем философствовать о математике.
F) Нечто есть априори a) просто (simpliciter) и априори, b) относительным образом (secundum quid) – априори относительным образом, если я познаю нечто через разум, но из эмпирических принципов, например, если я брошу камень горизонтально – он падает не по прямой – можно определить дугу априори, но согласно законам тяжести, которые мы познаём апостериори.
Чистые философские познания суть метафизические. Что такое философия? Система разумных познаний через понятия. Метафизика, следовательно, есть система чистых разумных познаний через понятия.
В основе системы должна лежать идея, через которую определены части, связь частей и полнота частей.
То, что чистые разумные познания возможны, учит математика, ибо она есть такое чистое разумное познание: поскольку её положения всегда имеют при себе свою собственную очевидность и, сверх того, каждое из них может быть подтверждено опытом, не было бы необходимости столь далеко простирать возможность таковых; теперь же наш чистый разум имеет особый разряд познаний, у которых дело обстоит не так, как в математике: они не столь счастливы, чтобы иметь очевидность и также не подтверждаются опытом – они, сверх того, таковы, что, хотя человек скоро believes себя убеждённым в том или ином, всё же нет ни одного, который не был бы оспорен, поскольку всеобщий человеческий разум, то есть совокупность разума всех людей, в философии чистого разума, то есть в метафизике, находится в споре с самим собой, поэтому необходимо исследовать возможность чистого разумного познания, и так мы будем исследовать также возможность чистой метафизики, не для её блага, но чтобы не узнать через это вместе с тем и возможность чистой философии.
Прикладная метафизика (Metaphysica applicata), которая содержит априорное познание предметов, составляет систему чистого разума, и система чистого разумного познания называется метафизикой в строгом смысле (Metaphysic im strieten Verstande). Трансцендентальная философия есть пропедевтика собственно метафизики. Разум здесь ничего не определяет, но лишь постоянно рассуждает о своей собственной способности, а в собственно метафизике он делает употребление из этой способности, и в этом смысле метафизика всегда принимается. Истинной трансцендентальной философии не имели. Употребляли это слово и понимали под ним онтологию; но мы принимаем её не так (как легко усмотреть). В онтологии рассуждают о вещах вообще, следовательно, собственно ни о какой вещи – занимаются природой рассудка мыслить вещи – мы имеем здесь понятия, через которые мы мыслим вещи, а именно чистые разумные понятия – стало быть, она есть наука о принципах чистого рассудка и чистого разума. Но это была также и трансцендентальная философия, следовательно, она принадлежит к ней – её никогда хорошо не разрабатывали – трактовали сразу о вещах вообще – без исследования, возможны ли вообще такие чистые рассудочные или чистые разумные или чистые научные познания. В ней [онтологии] я уже рассуждаю о вещах, субстанциях и акциденциях, это суть свойства вещей, которые я познаю априори. Но в критике я не могу так рассуждать. Я буду здесь говорить: среди понятий, которые суть априори, встречаются также понятия субстанции и акциденции. Как я прихожу к ним? Что я могу с ними осуществить? Что возможно познать априори о объектах, поскольку они суть субстанции? Я исследую, следовательно, происхождение понятия, как далеко оно могло бы простираться, и их происхождение, чтобы узнать, как далеко они простираются, и их границы. Это есть задача критики чистого разума. Предположим, мы не обращали бы внимания на установление принципов и составили бы как бы систему, принимая априорные принципы, значимость которых возникла через употребление, тогда мы имели бы собственно метафизику, но с какой надёжностью мы могли бы ею пользоваться? Мы пришли бы в конце концов к таким трудностям, что вовсе не могли бы больше найти выход, и разум разрушал бы свои собственные произведения – критика, таким образом, в высшей степени необходима. Если разум заблуждается, никакой опыт не может его поправить. Если мы рассматриваем критику чистого разума независимо от всякого опыта, то это есть подлинная чистая философия, или рассмотрение самой способности разума есть чистая философия. Во всех познаниях, где встречаются разумные принципы и притом из понятий, наука имеет место лишь в их чистом, то есть свободном от опыта, употреблении. На неё можно смотреть более как на критику, нежели как на доктрину, где мы догматичны. Познание догматично, которое излагается в своей связи с основаниями. В критике мы не излагаем связь познания, но мы исследуем сначала источники возможности такого познания без опыта.
Вторая часть метафизики есть отныне система чистого разума. Философия означает систему разумного познания из понятий. – Здесь чистая философия должна быть изложена в системе. Наш разум должен иметь объекты, они двояки: либо они принадлежат к природе, либо к свободе. Оба подчинены правилам и законам. Наш разум познаёт их, подводя их под правила. Разум предписывает необходимые законы, и всё, что может быть познано через разум, необходимо. Мы должны познавать объекты через разум, следовательно, согласно тому, что им необходимо и присуще; наши разумные познания должны, таким образом, иметь характер необходимости. Мы можем познавать либо 1) то, что есть, либо 2) то, что должно быть. Первое принадлежит к природе, второе – к свободе. Природа есть совокупность того, что есть, а совокупность того, что должно быть, есть нравы (Sitten). Мы имеем, таким образом, 2 части философии. Философия природы рассматривает вещи, которые есть. Философия нравов направлена на свободные actions, которые должны происходить. Поскольку мы выше сказали, что в каждой науке имеется метафизика, мы можем также помыслить метафизику природы, которая содержит принципы вещей, поскольку они есть, – и метафизику нравов, которая содержит принципы возможности вещей, поскольку они должны быть, однако долженствование относится лишь к свободным actions. Метафизика природы имеет различные части, она есть философия a) телесной, b) мыслящей, c) всей природы, d) высшего основания всей природы.
Предметы метафизики суть a) природа или мир, b) виновник мира, следовательно, всеобщая космология (Cosmologia generalis) и рациональная теология (Theologia rationalis). Мы познаём объекты либо через внешнее чувство, то есть всеобщая физика (Physica generalis), либо через внутреннее чувство, то есть рациональная психология (Psychologia rationalis) согласно делению Вольфа: хотя оно неверно, к космологии относят лишь одну всеобщую физику, а рациональную психологию – отдельно.
Все наши познания суть теоретические, которые рассматривают вещи так, как они есть; или практические, которые говорят, как нечто должно быть и имеют в себе необходимость и т.д. Мы трактуем здесь метафизику природы и будем заимствовать нечто из естественной теологии (theologia naturalis) (где мы мыслим Бога как законодателя) лишь для метафизики нравов (которая отбрасывает правила жизни, которые мы абстрагируем из опыта о природе души).
Метафизика нравов – это чистая мораль, ее мы полностью оставляем в стороне. Метафизика природы содержит принципы спекулятивного применения разума, а Метафизика нравов – принципы практического применения разума; все сущее можно разделить на: А – то, что дано чувствам, и В – то, что, хотя и превосходит применение чувств, но связано с объектами чувств.
– К А: Объекты чувств суть либо объекты внешнего чувства (пяти чувств тела), либо внутреннего чувства, то есть души. Таким образом, мы имеем учение о теле (физику) и учение о душе (психологию).
– К В: Мы рассматриваем совокупность всех объектов чувств, то есть всю природу в целом. Мы также можем мыслить весь ряд вещей, и тогда мы должны предположить высшего творца природы, то есть Бога; это последняя часть метафизики.
Метафизика телесной природы есть рациональная физика, мыслящей природы – рациональная психология, всей природы или мира – рациональная космология, высшего творца природы и всех существ – естественная теология. Понятие о существе, поскольку оно содержит основание возможности всей природы, есть понятие о Боге. Таким образом, последняя часть метафизики есть рациональная теология.
Теперь мы ясно видим, что все эмпирическое должно быть устранено. Иначе это не была бы philosophia pura (чистая философия). Однако понятие тела – все же эмпирическое понятие, и наука о нем также [эмпирична]. Philosophia pura означает то, что есть продукт разума и отделено от всякого опыта.
Во всех науках мы должны, насколько это возможно, отделять друг от друга части, которые гетерогенны, поскольку они происходят из различных источников познания; [следует отделять], сколько основывается на одной лишь философии и на одном лишь опыте. Например, в учении о природе многое есть a priori, например: «ничто не происходит без достаточного основания», «субстанция не исчезает, а лишь форма» и т.д. Если я беру это (отдельно и изолированно от того, чему учит опыт) со всеми следствиями, которые могут быть из этого выведены, то это и есть метафизика учения о природе. Таким образом, существует метафизика политики, законодательства и т.д., однако она может иметь место лишь там, где есть разумные принципы; метафизики истории не существует.
Такая метафизика очень полезна, ибо если я ошибаюсь в какой-либо науке, то могу сразу увидеть, лежит ли ошибка в разуме или в опыте и обмане чувств.
В системе метафизики должен заключаться объект философии; это объем всего того, что чистый разум только может мыслить – она содержит в себе совокупно все то, что, как сказано выше, распределено по различным наукам. Метафизика есть величайшая культура человеческого разума. Мы познаем все заблуждения, постигаем их причину и учимся их избегать; она излагает элементарные понятия, например, субстанция, необходимость, и основоположения, которыми разум повсюду пользуется. Следовательно, в каждой науке, где господствует разум, должна быть возможна метафизика, например, метафизика учения о природе, а именно то, что разум имеет в качестве принципов без опыта.
Даже математика создает свою метафизику: она относится только к объектам, поскольку они имеют величину, – и всеобщее применение разумом принципов ко всем объектам лежит в основе математики и является ее метафизикой. – Математику, можно сказать, есть философия всей философии.
Трансцендентальная философия по отношению к метафизике есть то же, что логика по отношению ко всей философии. – Логика содержит всеобщие правила применения рассудка и, таким образом, является введением во всю философию. Трансцендентальная философия есть введение в philosophiam puram (чистую философию), которая является частью всей философии. В трансцендентальной философии мы рассматриваем не объекты, а сам разум, подобно тому как в общей метафизике мы рассматриваем только рассудок и его правила. Таким образом, трансцендентальную философию можно было бы назвать также трансцендентальной логикой. Она занимается источниками, объемом и границами чистого разума, не занимаясь объектами. Поэтому ошибочно называть ее онтологией. В онтологии мы уже рассматриваем вещи согласно их всеобщим свойствам. Трансцендентальная логика абстрагируется от всего этого; она есть род самопознания. Разум пробует, не может ли он на крыльях идей вознестись над опытом. Он говорит, например, о духовном существе. – Какие же у него есть источники, чтобы установить систему подобных вещей? Когда он это объяснит, возникает вопрос: к каким вещам это может быть применено? Таким образом, она направлена не на объект, а на субъект – не на вещи, а на источник, объем и границы разума.
Душой мы называем то, о чем я сознаю себя, когда мыслю. Как же тогда сюда могут быть отнесены рациональная физика и рациональная психология? Мы замечаем, что объект может быть дан через опыт, если мы рассматриваем его только согласно принципам a priori. Например, понятие мыслящего и телесного существа дано через опыт. Но если я беру принципы свойств не из опыта, то объект дан, принципы же – нет, следовательно, [это] может принадлежать к метафизике. Таким образом, рациональная физика и рациональная психология лежат в поле метафизики. Эмпирическое учение о теле называют собственно учением о природе, физика сюда не относится. Существует также эмпирическая психология, где я должен presuppose наблюдения, чтобы сказать что-либо о душе. – Она также сюда не относится; однако психология, как она здесь трактуется, имеет как рациональную, так и эмпирическую часть. Эта [последняя] рассматривает душу из опыта, та [первая] – из понятий.Понятие души. Как же эмпирическая часть попадает в метафизику? Из приведенного выше неудачного определения эмпирической физики этого не прочесть, но [при этом] не замечают, что эмпирическая психология также не должна была бы сюда относиться: радость, удовольствие и все движения души – все это сплошь наблюдения. Психологию наблюдений можно было бы назвать антропологией. – Однако мы будем трактовать ее здесь, потому что науки разделяются не только так, как их группирует разум, но и так, как требует академическое преподавание. Она еще не так разрослась, чтобы из нее можно было сделать особый коллегиум. Поэтому ее присовокупили к метафизике. Здесь имеет место metabasis eis allo genos (переход в другой род). От нее можно еще отличить антропологию, если понимать под ней знание о человеке, поскольку оно прагматично.
Столько же лет, сколько существует разум, столько же лет существуют и метафизические исследования. Примечательно, что люди начали судить о том, что превосходит чувства, раньше, чем о том, что им дано. Учение о природе было разработано лишь плохо. Причина этого, вероятно, в том, что философствовать о природе требует постоянного прилежания, наблюдения, собирания всевозможных законов опыта. Идеи же рассудка и разума каждый находит в себе самом и, так сказать, извлекает их из себя. Без всякого сомнения, человеческий рассудок побуждается и естественными потребностями познать то, куда устремлены все его цели. Он не удовлетворяется тем, что ему доставляет чувственный мир, но должен знать, что ожидает его в будущем, – тот должен иметь весьма скудное понятие о своей жизни, кто полагает, что со смертью все прекращается. Эти потребности – познать Бога и иной мир, столь тесно связанные с интересом человеческого разума, – прошли мимо природы, которая имеет для людей гораздо меньший интерес.
Хотя все это было столь трудным, людей все же побуждала важность объектов к дальнейшим исследованиям, даже если некоторые терпели неудачу.
До греков ни один народ не имел метафизики, равно как и философии. Если начать правильно считать, то мы найдем время, когда греческий язык был столь ограниченным и непригодным для выражения философских размышлений, что все должно было выражаться поэтически. Орфей, Гесиод и другие в своих поэзиях имели много проблесков философии. Тогда способ выражаться об идеях состоял в том, чтобы облекать их в образы, так что, как правило, философия излагалась поэтически, что отчасти делалось также для того, чтобы лучше запечатлеть религию в памяти. Однако поэзия для нас всегда есть игра чувственности. Говорят, что Ферекид [Ферекид Сиросский (VI век до н. э.) – древнегреческий космолог и мифограф, философ, писатель. Родился на острове Сирос, современник Анаксимандра и «семи мудрецов», к числу которых некоторыми авторами причислялся.] был первым философом, который выражался прозой. Но от него и от Гераклита, чьи сочинения были чрезвычайно темны (так что даже Сократ, который знал их – впоследствии они были утрачены – говорил: то, что он понял, превосходно, стало быть, он верит, что и то, что он не понял, таково же) (Гераклиту это было так трудно, что он сказал: «Нужен ныряльщик с Делоса»), у нас ничего нет. Это происходит оттого, что не хватало слов, а изобретенные были новы, большей частью потому неизвестны. Impossibile – не латинское слово. Цицерон говорит: fieri nequit, или использовали ἀδύνατος. Изобретать новые слова не так легко, как полагают, ибо они противны вкусу, и тем самым вкус становится препятствием для философии.
