Психосоциология деятельности
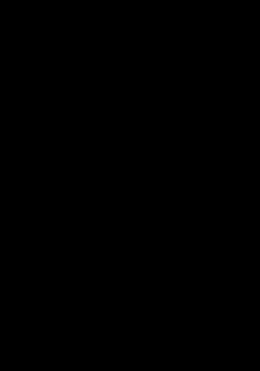
Предисловие
Развитие научных теорий часто приводит к их естественному нарушению. Есть много примеров такого нарушения, однако речь идёт далеко не о том, что вызывает эти нарушения, а о том, насколько их возникновение имеет те или иные последствия для данной системы. Таким образом, мы можем сказать, что наиболее удачные научные системы сделаны так, что не только гетерогенны и поддаются опровержениям, но и впитывают их в себя и делают частью своей же системы (Юнг, если брать психоанализ в общих чертах, является последователем Фрейда. Только он не все сводит к неврозу, но некоторым явлениям, например религии, дает объяснение не только невротическое, но и альтернативное. Тем самым, благодаря стараниям Юнга психоаналитическая наука обогащается Такие же примеры – необихевиоризм, неодарвинизм. Все такие случаи показывают, что меняются если не второстепенные, то главные устои теории при конструктивной критике, но ядро её про этом сохраняется).
Психология деятельности интересовала людей со времен первых предпосылок Психологии. Многочисленные социальные, культурные, в известной степени религиозные обряды имели и имеют своей целью либо вызов деятельности, либо прекращение вредной оной для личности или же общества. Нередко последние два вида ограничений, равно как и вызов необходимой деятельности, синтезируются, реже – сублимируются (суеверие). К такому синтезу относится половое воздержание, так как, с одной стороны, оно предполагает эволюционное развитие человека (человек лишь на определенных ступенях своего развития может себе позволить лично отказаться от инстинктов, с этим согласны Гелен, Кольберг, Эриксон и др.), а с другой – напоминает о значимости выбора подходящего полового объекта, то есть нацелено на вызов определенной деятельности, а не на простое ограничение противоположной. Впрочем, последнее подходит далеко не всем и каждому; почему, можно узнать в сборнике З. Фрейда «Три очерка по теории сексуальности». Из-за индивидуальности жизненного пути каждого, о потребностях всех судить бессмысленно, но можно разбить их на группы и работать над ними уже по отдельности. Деятельность обозначает омотивированную активность субъекта. В нашем исследовании мы, в отличии от многих других авторитетных и достойных внимания трудов, сосредоточимся исключительно на антропологической проблематике деятельности; другими словами, на особенностях деятельности человека. Хотя нельзя не признать сходства между деятельностью человека и животного в том смысле, что она имеет те же начала (у них наблюдается наличие неких слабых аналогов высших психических функций, как то орудийная деятельность у Шимпанзе, элементы общения у дельфинов, наглядное мышление и т. п.), разделение уже в условиях социального и инженерного функционирования человека и животного необходимо. Это доказано Выготским в его описании высших психических функций, где он и сравнивает особенности человеческой деятельности и деятельности животного.
Деятельность человека подвергается, благодаря тем или иным стимулам, рационализации им самим и либо меняется, либо укореняет свою направленность. Впрочем, позволим себе, в целях необходимого расширения научного кругозора, немного выхода за устоявшиеся рамки. Можно допустить, что деятельность, как форма проявления высших психических функций, является непосредственно средством человека к его моральному развитию. Оно представляет собой динамический процесс позитивных изменений в: 1. Когнитивно-аффективной сфере (повышение сложности моральных суждений; интеграция эмоционального интеллекта); 2. Поведенческой регуляции (рост самодетерминации; снижение нормативного конформизма); 3. Социальном функционировании (расширение круга эмпатии; увеличение просоциального поведения). К тому же, теперь уже можно более обстоятельно пояснить, зачем мы придаем нашему исследованию исключительно антропологический характер. Мне, да и не только мне, кажется современное отношение к человеку по меньшей мере унизительным. Отрицаются как наиболее глубинные, недосягаемые, так и поверхностные и видные достоинства человека и его достижения. Его воспринимают исключительно как вид, как животного, которому повезло эволюционировать, подкрепляют это примерами из действительно животной деятельности некоторых морально-отсталых лиц, а феномен личности сводят к патологии. Необходимо почерпнуть пользу от этого взгляда на проблему, и признать, что человек не может, как он верил раньше, взглядом свернуть горы и криком осушить океан (см. Фрейд, «Тотем и табу», статья 3). Но это не предполагает отсутствия реальной власти человека, по крайней мере над самим собой и себе подобными, в том числе над социальным фактором и своей природой. Тот же Фрейд никогда последнего не отрицал и всячески избегал обсуждения данного вопроса, так как он может завести как в чрезмерную натуралистическую замкнутость, так и в открытое трансцендирующее философствование в Психологии, что в обеих случаях недопустимо.
Представителям такой точки зрения на деятельность человека будет больно выслушивать критику того, о чем Стивен Хокинг как-то сказал: «философия мертва». Увы, он не понимал, что ныне она – основа науки. Рассуждения того же Хокинга весьма оригинальны, радикальны и потому философские. Вообще, данная фраза прекрасно иллюстрирует страх научных теорий перед их неизбежным переосмыслением. Ведь люди науки порой забывают, что само её возникновение было стимулировано скептицизмом перед общепринятым. Когда же она становится этим общепринятым, то требует к себе отношения, свободного от скептицизма? Это не соответствует духу истинной науки как таковой.
Экспериментальному методу предшествует философский. Далее он является основой экспериментального, давая науке возможность интериоризации, то есть самосовершенствования, и экстериоризации, то есть выведения себя наружу, непосредственно эксперимента (exterior – внешний, experimentum – опыт (лат.). Говоря здесь о философии, мы имеем в виду не науку, а способ мышления. Без такой философии как способа мышления невозможно развитие науки, как естественной, так и Психологии, так как она и пробивает брешь в обыденном сознании человека. Для большего понимания приведём наиболее противоречивый и наглядный пример из научной деятельности. Весь ортодоксальный дарвинизм (в отличие от неодарвинизма) строиться на радикальной философии Чарльза Дарвина и его ближайших соратников, и доказательства такого дарвинизма трактуются исключительно в контексте данной философии, не учитывая иного, но научного объяснения явлениям, иногда исходящего от тех же дарвинистов, но имеющих свои, объективно точные взгляды по вопросу происхождения человека (иногда более поздние дополнения к текстам Дарвина накаляют, подогревают особо щепетильные стороны его философии). Подобная научная замкнутость тоже следствие применения философского метода, уже в крайних, не принимающих ничего иного проявлениях. Такая догматичность всегда есть проявление внутренней слабости данной школы. Поэтому видно стремление подобных школ отделится от философии, так как она своим существованием является вечной угрозой для их вековых и неустанно создающихся, догматичных, отвергающих альтернативу теорий. Речь идёт далеко не о том, что классический, ортодоксальный дарвинизм не имеет права на жизнь; однако, отвергая альтернативные объяснения своих же заключений, соответствующие научной действительности, он постепенно идёт к вырождению, так как основой всякой науки и тем, что легитимизирует и, если угодно, морализирует её существование, является соответствие выводимых ею заключений действительности. Отвергая же научные факты, он отвергает и саму науку.
Дарвин касался объяснения прошлого человечества, то есть возникновения жизни, что само по себе недоказуемо экспериментально. Сведения об этом периоде, достаточно исчерпывающие для выводов, утеряны, периоде возникновения человека как вида; понимая необходимость философского подхода, он, все же, незаметно для себя это положение натурализовал. Дарвин выдает философский метод за экспериментальный, не учитывая не только явное отличие между человеком и иными приматами, но и этих приматов исследуя вне потока эволюции (современные гориллы вряд ли могут послужить надежным примером функционирования не только человека, но и гориллы, существовавших в далеком прошлом). Несмотря на явные успехи в социологии и эволюционизме, именно из-за того, что его теория позволяет себе давать объяснение явлениям, не имеющим и не могущим иметь доказательств, она теми или иными людьми, весьма обоснованно с их точки зрения, оспаривается целиком. З. Фрейд пишет об этом: «Наука должна сначала строить гипотезы, которые могут оказаться несостоятельными, и только потом искать их подтверждение. Она должна быть смелой в предположениях и строгой в проверке». Но если психоанализ имеет себе целью разобраться в психике реального, то есть ныне существующего человека, и в его случае это может быть оправдано тем, что рано или поздно доказательства или опровержения гипотез найдутся, так как имеем дело с нынешней человеческой психикой; то это не применительно к проблематике того, доказательства к чему мы так или иначе не получим, источники чего утеряны или же находятся за рамками нашего логическо-натуралистического восприятия. Для понимания и более убедительной аргументации данной проблемы нужно прояснить некоторые моменты:
1. Философский метод – метод, основанный на предположениях. Как основу философского метода можно определить характерный для него волюнтаризм, то есть нежелание мирится с общепринятым, и доказательства к этому нежеланию в виде гипотез. Иными словами, философский метод пробивает брешь в обыденном сознании человека. В этом (в скептицизме), а также в возможности интроспекции заключается и его суть, и, как это ни парадоксально, его возможность перехода в экспериментальный метод. Чаще философский метод основан на синтезе. Реже – на жестоком понятийном отборе. Последний вид философского метода предполагает наличие эксперимента, так как отбор проводится посредством применения того или иного опыта. Это касается и тех философских течений, которые этот опыт отвергают. Вспомним слова Оскара Уайльда: «правила нужны для того, чтобы их нарушать». Однако, нарушать эти правила, не зная их и не пользуясь ими, то же, что и вовсе их не нарушать. Поэтому, там, где есть четко выстроенная логическая цепочка – мы зрим постепенный переход от философского метода к экспериментальному.
2. Экспериментальный метод – метод, основанный на эксперименте, то есть на опыте. Есть, между методами экспериментальным и философским, непосредственный конфликт интересов. Кант выделяет опыт как нечто менее ценное, нежели трансцендирование, и, безусловно, он прав, если брать это утверждение в контексте Философии. Но Психология с самого начала отказалась от гносеологии и выбрала именно экспериментальный метод. Тем не менее, философский метод, хоть и отрицает экспериментальный, последнему, при применении, не вредит. То же происходит в Психологии, когда та детерминируется от первопричин и стремится дать всему исключительно прагматичное, натуралистическое объяснение. С самого возникновения Психологии, её мечта – стать естественной наукой. Однако это парадокс, так как Психология – наука о душе, о психике человека. Нельзя отвечать философским языком на непосредственно психологические вопросы, однако философия может быть использована как стимул – как «брешь в обыденном сознании», для того, чтобы потом перейти в научный, экспериментальный метод. Такова природа нашего разума – стремиться, отделяя всё на условные сферы влияния, не переставать видеть достоверную, истинную картину целого.
Психология тесно связана со внутренней структурой человеческой личности; она же есть чуть ли не единственное доказательство гносеологов. Если опыт дает нам знание, то, имея дело с трансцендентным, в т. ч. с механизмами человеческой личности (имеется в виду не бессознательное, а так называемая свободная воля, или внутренняя активность у необихевиористов; Фрейд в «Тотеме и табу» сам проводит различие между бессознательным и душой), мы имеем дело с чем-то неподходящим к объективным знаниям. Собственно, гносеологию ненавидят из-за ее утверждения, что человек некомпетентен для решения трансцендентных проблем посредством применения привычных основ своего восприятия. Основами же нашего восприятия являются методы познания, основанные не на трансцендировании, но прежде всего – на эксперименте. Кажущиеся факты лишь кажутся фактами, когда человек пытается натурализовать трансцендентное. Сам же Кант говорит, что «мы познаем не вещи в себе, а лишь то, как они нам являются». Подразделение мировых явлений на феномены – явления, постигающиеся опытом, и ноумены – субъективные явления, явления «в себе», явления трансцендентные, весьма верно показывает, в чем состоит предмет исключительно-философского исследования. Познание ноуменов лежит за гранью нашего восприятия, тут уже не работают привычные экспериментальные законы. Это и есть та самая «брешь в обыденном сознании». Экспериментальный же метод, в известной степени, предполагает применимость знаний. Нужно признать, что это так, и что Психология защищена от гносеологии постольку, поскольку не затрагивает проблематику трансцендентного. Валерий Петухов в своих лекциях по общей психологии часто упоминал, что «наука о свободе воли невозможна, так как всякая наука о свободе воли предполагает отсутствие этой свободной воли». Эксперимента в науке о свободе воли нельзя достигнуть. Свободная воля – есть непредсказуемость (не стохастичность, но принципиальная невозможность полного казуального объяснения творческого акта). «Личность – есть неизменное в изменении» (Н. Бердяев). Она проявляется как феноменологическая непредсказуемость выбора, возникающая на уровне творческого акта (преодоления детерминизмов) и экзистенциального самоопределения (нередуцируемость к биологии {В. В. Петухов, «Природа и культура», раздел о несводимости сознания к физическим процессам}). Помимо свободной воли есть много проблем такого рода, каковые, например, стимулы духовного развития, личные причины моногамии и т.д. Потому спор Философии с Психологией разрешим лишь посредством разграничения сфер влияния: Философия признаёт, что для исследования конкретных, объективных, то есть действительных проблем и понятий лучше подходит экспериментальный метод и предоставляет эту область Психологии; Психология же, в свою очередь, должна освободить себя от исследования проблематики трансцендентного, так как для решения проблем в этой области она некомпетентна, и предоставить эту привилегию Философии (прошу не путать проблематику трансцендентного и трансцендирование, так как второе – психологическое состояние, тогда, как первое – научная проблематика).
Также важно для корректного восприятия труда понимание того, что значит «субъективность» и «объективность» (или «экстериоризированность») в значении деятельности субъекта. Отвечая на вопросы о видах деятельности человека, можно прийти к выводу, что объект в конечном счете есть средство субъекта. К этому выводу приходит как Философия (Бердяев, Кант, Гегель), так и Психология (Фрейд, Юнг, Маслоу). Эту фразу можно понимать по-разному, однако основным, наиболее наглядным её содержанием является то, что субъект по своей природе не может быть до конца объективирован, не может стать объектом, так как сами объекты – в том числе создания и средства субъектов (тут мы должны ввести различие между объектом и объектом наблюдения, так как эти понятия суть не соответствуют друг другу, говорят о разном; так же не подходит идентификация с объектом влечения/перенесения). Отсюда следует, что субъективность в субъекте кроется главным образом в его способности к интериоризации, говоря языком необихевиористов, промежуточной переменной, «внутренней активности». Таким образом, основными свойствами личности являются: 1) Агентность; 2) Рефлексивность; 3) Интенциональность.
Всякая личность, как личность обладающая этими свойствами, постоянно находится в процессе созидания (про необихевиоризм: хотя нельзя относиться к схеме S-O-R как к попытке возвысить субъект за счёт его волевой способности, этот пример весьма показателен). Следует признать, что есть иерархия этих "созиданий". "Созиданиями" (проявлениями деятельности психики) простейшими являются наши эмоции, основы нашего восприятия; они также подчинены иерархической структуре. Иерархия эта разными методами трактуется по-разному. Далее следует постепенный переход, через последующую рационализацию и накопление субъективного социального опыта, к возникновению социальных, позже и культурных мотивов. Если субъект не может быть объективирован полностью, это не предполагает, что, имея дело с человеком, мы всегда имеем дело с субъектом как личностью. Иерархия субъектов состоит в том, что большая часть их руководствуется так называемыми инстинктами, природными позывами, а меньшая – то есть люди – мотивами. Мотивы могут быть как социальные, так и культурные. Парадокс в том, что даже у людей инстинкты имеют больше влияния; в целом иерархия состоит следующим образом: чем первичнее потребности, тем больше вырастает их ценность и значение.
Платон писал: «личность рождается дважды». Имеется ввиду социальный индивид как первая личность, и культурная личность как перерождение первой личности. Рождение культурной личности в человеке – конец его функционирования исключительно как социального индивида, это акт его эволюции (как индивида). Советская Психология выделяет три вида личности, обратимся к Выготскому. По Выготскому есть природный индивид – руководствующийся инстинктами, социальный индивид – руководствующийся социальными мотивами, и культурный индивид – личность, субъект, если угодно, в Кантовском (Бердяевском) понимании слова. Культурный индивид – это «второе рождение личности» по Платону, где социальные мотивы замещаются культурными, что соответствует Кантовскому моральному и легальному. Переход от социальной к культурной регуляции поведения (по Выготскому) характеризуется: Сменой целевых детерминант: 1. Социальные мотивы, как мы выясним впоследствии, основаны на одобрении и обеспечении социальной безопастности (что есть не иначе, как одно и то же), это эквивалент легального; 2. Культурные мотивы: интериоризоывнные ценности и рефлексия (Кантовское моральное). Механизмом трансформации (Выготский): Социальные нормы → Интериоризация → Когнитивная реконструкция.
Критерии различия (упрощённая модель: мотивация может включать как интринсивные, так и экстринсивные компоненты):
Параметр: Социальные мотивы; Культурные мотивы
Цель:Безопасность/одобрение; Самоактуализация по Маслоу
Основа: Экстрнисивная регуляция; Интринсивная регуляция
Итак, исключительно социальный субъект не есть субъект как личность, ибо социализация без культурных мотивов предполагает ещё большее рабство у объективированного мира и большую отчужденность субъекта, меньшую его субъективность. Следовательно, мы приходим к тому, что личностями называем лишь личностей культурных. Мы дадим впоследствии более обстоятельные определения социального индивида и культурной личности, и проследим, как они влияют друг на друга и в чем состоит их конфликт. Личность – есть также духовное состояние человека. Она дает ему не только возможность, но и право на проявление свободной, но моральной, раскрепощённой, но не вредной воли. В этом и кроется различение объективации и субъективации потребностей; степень её определяется не столько социальными мотивами, сколько личной волей индивида. Опять же: если «легальное» это принимаемое обществом, то «моральное» – направленность строго субъективированной, личностной воли человека. Впрочем, социальное всегда – фундамент возникновения культурной личности. Оно может действовать как прямо, то есть взаимодействовать с Идеалом Я и в некотором смысле создавать его, так и вызывать отвращение и желание отделиться от социального.
Важно отметить, что автор применяет Философию постольку, поскольку она «помогает» Психологии и не идёт в разрез с научным методом, дополняя его.
В. Манукян; 08/03/2025
I Социум как основа возникновения личности человека
Как было отмечено в предисловии, социальный индивид – это первая личность человека. В дальнейшем он является основой рождения его второй – культурной личности. При этом ярко выражается амбивалентность побуждений, исходя из которых культурная личность может возникнуть. Так, идентификация Я с Я-Идеалом может носить такую же силу, как и элементарное отвращение от обыденной социализации: от предвзятого капиталистического отношения к человеку, вытекающей из него коррупции, от возможности тем или иным постыдным способом приобрести это социальное влияние и т. д. Почему социальным индивидом принято называть первую личность? Потому, что происходит идентификация общественного идеала с Идеалом Я. Это было доказано Фрейдом, причем во многих трудах. Основой данного предположения является то, что наиболее значимые устои личности, такие как половое воздержание (запрет), правила морального и личностного воспитания принципов (этикета), понятия долга, чести, достоинства, в том числе персоналистические понятия о свободе воли и о её исключительном значении, являются если не навязанными, то точно почерпнутыми из социального научения.
Итак, мы рассматриваем социальное научение как основу возникновения социального индивида. Остановимся на том, как возникает социальный индивид и каковы причины его возникновения. Принято связывать возникновение социального индивида с окончанием нарциссической тирании Я во время детского периода. Социальный фактор весьма незаметно входит в жизнь ребенка. Гораздо легче это происходит, если у него есть ровесники, постоянно проживающие рядом с ним (как то братья или сестры). Если нет, вводят социальную функцию в его жизнь его родители. Всем известно, что по мере взросления ребенку необходимо указывать на его социальные ошибки, чтобы он исправил их и был «нормальным» (потеря идентичности во имя приобретения «нормальности» является существенным комплексом, руководящим личность при втором {культурном} рождении). Известно, что ребенок борется с нарастающим незаметно, но подневно социальным давлением, прибегая подчас к идеализации своего детского нарциссизма. Это отлично показано Сэлинджером в его повести «Над пропастью во ржи». Мальчику неприятна ложь взрослого мира, но по этой причине он вынужден самому себе лгать, что ему довольно детского мира и что он сможет оставаться таким же. Эта черта, постоянство, является «спящим гигантом». Он просыпается, когда уже в условиях социализации несправедливость взрослого мира играет столь роковую роль для индивида, что ему ничего не остается, кроме как обратить внимание на себя в прошлом и вспомнить постоянство давно утерянных принципов. Они раскрываются с новой силой, приспосабливаются к новым социальным условиям (иначе их ждала бы та же участь – они не совпали бы с реальностью) и определяют курс развития личностной деятельности. Гораздо легче им следовать, если они когда-то являлись собственными принципами, ибо закрепление всякого явления в детстве (будь то воспоминание, запрет, поощрение и т. д.) играет существенную роль.
