Корейская война 1950-1953: Неоконченное противостояние
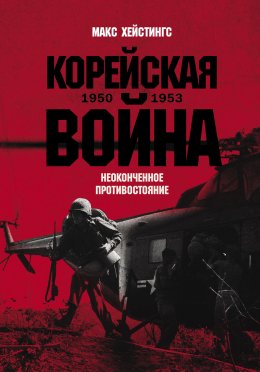
Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)
Переводчик: Мария Десятова
Научный редактор: Александр Соловьев
Редактор: Роза Пискотина
Издатель: Павел Подкосов
Руководитель проекта: Анна Тарасова
Художественное оформление и макет: Юрий Буга
Корректоры: Елена Воеводина, Татьяна Мёдингер
Верстка: Андрей Ларионов
Иллюстрация на обложке: Bettmann / Getty Images
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Max Hastings, 1987
© Предисловие, Max Hastings, 2020
All rights reserved
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2025
Посвящается Шарлотте
От научного редактора
Замечание о передаче китайских и корейских имен собственных
Передача корейских (и изредка) китайских имен собственных в российских изданиях до сих пор не стандартизирована: даже в академической среде встречаются разночтения (разные школы используют несколько отличные принципы передачи). Привычная по публицистическим и научно-популярным статьям манера передачи имени в три слога (Ким Ир Сен) сложилась исторически; она отторгает принятый в научной литературе более корректный способ передачи имен в два слова – фамилия (которая всегда идет первой, в отличие от англоязычной традиции начинать с имени) и имя: Ким Ирсен. Кроме того, эта традиция часто некорректно передает фонетику. Тем не менее здесь, следуя за автором, мы будем придерживаться устоявшегося способа передачи корейских имен в три слога (тем более что в авторской записи имена порой искажаются настолько, что восстановить оригинальное их звучание просто невозможно, особенно когда речь идет о простых людях): Ким Ир Сен, Хан Пхё Ук (и т. п.), тогда как китайские имена будут передаваться в два слова: Мао Цзэдун, Чжоу Эньлай (и т. п.).
Карты
{1} Корея
{2} Вторжение в Южную Корею
{3} От Инчхона до Сеула
{4} Вмешательство Китая
{5} Отступление от Чосинского водохранилища
{6} Сражение на реке Имджинган
Предисловие
Корейская война 1950–1953 годов стала одним из переломных событий второй половины XX века. Соединенные Штаты оказались ближе, чем когда-либо за весь период холодной войны (если не считать Карибского кризиса 1962 года), к тому, чтобы нанести ядерный удар по Китаю. Встревоженные угрозой потерпеть поражение от китайских «добровольцев» и северокорейских войск, многие соратники президента Гарри Трумэна задавались вопросом, почему бы Штатам не использовать свое самое мощное оружие, чтобы сокрушить столь примитивного врага. Генерала Дугласа Макартура, главнокомандующего войсками ООН, пришлось в апреле 1951 года отправить в отставку: оторвавшийся в своей гордыне от реальности военачальник хотел отыграться за свои неудачи на поле боя, сбросив на Китай атомную бомбу.
Сегодня события тех дней вспоминаются в мире как малая война, но для самих обитателей полуострова это было невиданное кровопролитие. Силам ООН – представленным в действительности американцами и немногими их друзьями – противостояние обошлось в 142 000 погибших. Сами Штаты потеряли за три года 36 574 человека – для сравнения: во Вьетнаме за десять лет погибло 58 220. Британские войска понесли в три раза больше потерь, чем на Фолклендских островах. В Южной Корее погибло миллион мирных жителей и 217 000 военных. Северная Корея заявила о 600 000 погибших гражданских и 406 000 военных. В китайских войсках потери составили 600 000 человек. Надежностью вся эта статистика не отличается, но на более точные данные потомкам вряд ли приходится рассчитывать. Общее число погибших сопоставимо с цифрами самой смертоносной азиатской войны следующего десятилетия во Вьетнаме.
Коммунистическое вторжение в Южную Корею в июне 1950 года повлекло за собой череду сражений, каждое из которых стало легендой. Первые американские войска, представленные оперативной группой «Смит», были смяты и оттеснены бронированными частями коммунистов. После этого в Корею перебросили крупное западное подкрепление, включавшее наскоро сформированный британский контингент, за которым последовали символические силы из Франции, Бельгии и некоторых других стран – два австралийских и два канадских пехотных батальона. Затем была оборона Пусанского периметра; высадка в Инчхоне и злополучное наступление Макартура на Северную Корею; военное вмешательство Китая, вызвавшее сумбурное отступление западных сил; отчаянная битва у реки Имджинган в апреле 1951 года, в которой была разбита британская бригада, и последующие беспорядочные позиционные бои по всему полуострову. Каждое из перечисленных событий тянуло на полноценный эпос или роман ужасов, как и все пережитое западными военными в северокорейском плену. Сегодня ветеранов той войны откровенно раздражают и даже возмущают фильм и телесериал «МЭШ», якобы основанный на реалиях жизни, любви и смерти в американском военно-полевом госпитале. Эта комедия, пожалуй, единственное экранное окно, через которое современный зритель смотрит на Корею, воображая ее гораздо менее ледяной и суровой зимой, гораздо более знойной летом и неизменно более мрачной на протяжении всего года, чем ее помнят непосредственные участники событий.
Десятки интервью, взятых в 1984–1985 годах у ветеранов пяти разных национальностей, я вспоминаю как самые драгоценные эпизоды моей карьеры исследователя войны – настолько захватывающими были их истории. Многие из ветеранов сражались до того на полях Второй мировой. Они отмечали огромную разницу между участием в войне, в которой любой мужчина, женщина, ребенок на родине понимал, зачем приносить жертву во имя уничтожения нацизма, и участием в такой войне, когда начиная с 1950 года мало кто из граждан стран-участниц имел представление о том, почему их войска сражаются где-то на краю земли в какой-то дыре, о которой они почти ничего не слышали. Не было ни доблести, ни тем более славы в страданиях и лишениях солдат, большинство из которых составляли призывники.
На долгие годы после перемирия, подписанного в Пханмунджоме 27 июля 1953 года, все с облегчением забыли про Корею. Официальный мирный договор после перемирия подписан так и не был, поэтому вооруженные силы Севера и Юга по-прежнему противостоят друг другу на узкой линии прекращения огня, разделяющей полуостров, а непосредственно за фронтом южан дислоцируются войска США. Патовая ситуация вызывала негодование многих американцев, чья страна одержала триумфальную победу во Второй мировой и вызывала зависть у остального мира своими экономическими успехами. В итоге воспоминания о ней они старательно погребли под вымученной признательностью за то, что перестала литься кровь.
В 1953 году обе Кореи, как Северная, так и Южная, принадлежали к числу беднейших стран мира и в обеих действовали соперничающие, но одинаково тиранические режимы власти. Однако за прошедшие семьдесят лет судьба Юга переменилась кардинально. Южная Корея сейчас – это не только здоровая и жизнеспособная демократия, но и одно из самых экономически развитых азиатских государств. Север же так и застрял в 1950-х. С 2011 года этой номинально коммунистической страной руководит внук и династический преемник вождя времен корейской войны – Ким Ир Сена. Угнетенный народ ведет полуголодное существование. Периодические двусторонние переговоры с Югом начинаются с обоюдным энтузиазмом, но потом неизменно проваливаются. И пусть напряженность в последнее время не достигает такого накала, как в 2010 году, когда Северная Корея потопила в сеульских водах корвет южнокорейских ВМС[1] и несколько месяцев спустя обстреляла контролируемый Южной Кореей прибрежный остров, взаимное недоверие и страх едва ли стали намного меньше по сравнению с 1953 годом.
Много лет такое положение вещей, похоже, мало волновало остальной мир. Но в XXI веке Корейский полуостров приобрел новое пугающее значение, превратившись в плацдарм предполагаемой эпохальной схватки Соединенных Штатов и Северной Кореи. Обретя ядерное оружие, Ким Чен Ын бесцеремонно завладел вниманием всего мира. Власть в собственной стране ему обеспечивает только политика конфронтации – угроза уничтожить Южную Корею и, если на то пошло, США. Учитывая, что Китаю совершенно не нужна объединенная ориентированная на Запад Корея на ее южной границе по реке Ялуцзян (кор. – Амноккан), добиться устойчивого мира вряд ли представляется возможным. Для Ким Чен Ына обладание оружием массового уничтожения – единственный надежный способ удержаться у руля. Маловероятно, что международные санкции поспособствуют падению тоталитарного режима, пока ему делает поблажки Китай и пока он зарабатывает на продаже оружия недобросовестным государствам. Не похоже, чтобы попытки президента Дональда Трампа договориться с Ким Чен Ыном на дипломатических встречах в верхах, перемежаемые прямым запугиванием Пхеньяна, больше способствовали устранению угрозы со стороны этого недостойного, но чреватого немалыми катастрофами режима, чем усилия предыдущих президентов США. Суровая реальность все та же: если Ким Чен Ын откажется от ядерного вооружения, ему придется расстаться с властью, а следом, возможно, рухнет и режим. Гармоничным отношениям между двумя Кореями, не говоря уже о воссоединении, препятствуют успех и процветание Юга, резко контрастирующие с бедностью и упадком северной соседки.
Прискорбная актуальность темы придает истории корейской войны новое значение – что помогает объяснить, почему моя книга 1987 года пользуется популярностью более трех десятилетий спустя после ее первоначальной публикации. Тогда, много лет назад, меня как исследователя вооруженных конфликтов ее история привлекала потому, что корейская война в сравнении с вьетнамской и, разумеется, с двумя мировыми казалась непонятой и не вызывающей интереса у публики. Тогда у меня было несомненное преимущество: многие участники конфликта с обеих сторон Атлантики и в Южной Корее были еще живы и с ними можно было беседовать – включая таких выдающихся людей, как помощник госсекретаря США Дин Раск, посол Великобритании в Вашингтоне лорд Фрэнкс и посол Великобритании в ООН лорд Глэдвин. Северную Корею посетить я не мог, но благодаря связям в Пекинском институте стратегических исследований я одним из первых западных историков получил разрешение встретиться с китайскими ветеранами этой войны. И хотя их рассказы были насквозь пропитаны пропагандой, я все же получил ценное представление о том, какой виделась эта война мужчинам – и нескольким женщинам – с противоположной стороны.
Ни в Германии, ни в Японии нет музеев, прославляющих память о Второй мировой. В Пекине же я с очень неоднозначными чувствами смотрел в огромных залах Военного музея китайской революции на захваченные в Корее британские пулеметы «Брэн» и полковые нашивки, на американские пулеметы калибра.50 (12,7 мм), шлемы и обломки самолетов. В 1985 году там размещалась экспозиция, посвященная полностью вымышленной «бактериологической войне», которую якобы вела Америка против Северной Кореи в 1952 году. Утверждалось, что за тридцать два месяца участия Китая в конфликте потери армии США от рук китайских бойцов составили 1 090 000 человек. Это число, судя по всему, получилось за счет добавления нескольких тысяч к потерям, понесенным китайской армией, по утверждению вооруженных сил США. С точкой зрения Народно-освободительной армии Китая на ряд крупных сражений корейской войны меня познакомили офицеры Командно-штабного училища Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
В Корее мне помогал в исследованиях тогдашний главнокомандующий войсками США в Сеуле генерал Пол Ливси, предоставивший мне все необходимое для работы и поделившийся собственными воспоминаниями о временах, когда он был командиром взвода. Бригадир Брайан Бердитт по истечении своего срока пребывания в должности британского военного атташе остался в Сеуле, чтобы поработать моим наставником и проводником на полях сражений, а также договориться об интервью с ветеранами корейской войны, включая командующего штабом армии Республики Корея в 1950 году.
К московским архивам того времени иностранным исследователям доступ тогда был закрыт. Некоторые западные ученые левого толка упорно продолжали возлагать ответственность за развязывание конфликта в июне 1950 года на Южную Корею – эту точку зрения продвигали и идеологи, написавшие сценарий для сериала, вышедшего в 1986 году на 4-м канале[2]. Я никогда не разделял их заблуждений, тем более что до июня 1950 года Штаты намеренно отказывались передавать Южной Корее танки и истребители, чтобы не допустить агрессивных шагов со стороны южнокорейского правительства, тогда как СССР все это Пхеньяну поставлял, подготавливая тем самым вторжение на Юг.
На мой собственный рассказ о событиях сильно повлияли оценки их современников, в частности сэра Дэвида Келли, который был послом Великобритании в Москве, когда началась эта война. Сегодня все новые свидетельства показывают, насколько точно оценивал положение Келли летом 1950 года. Открытые в Москве и Пекине досье показывают, что западные апологеты Ким Ир Сена не имеют никаких весомых аргументов: сейчас мы точно знаем, что северокорейский лидер начал войну с благословения Сталина.
Всплыли и другие подробности, подтверждающие справедливость моих тогдашних суждений об этой войне. Сталин полагал, что Западу не хватит воли сопротивляться и что его азиатские сателлиты добьются военной и политической победы без особого риска для Москвы или зависимого от нее государства. И когда акт неприкрытой агрессии вызвал решительный отпор со стороны Запада, Москву это потрясло и напугало. В последующие годы СССР отчаянно искал способ выйти из положения, не теряя лица. Основную поддержку Ким Ир Сен получил от Китая при некоторой помощи оставшихся неизвестными советских летчиков-истребителей[3]. Мао Цзэдуном двигало не столько расположение к Ким Ир Сену, сколько – главным образом – нежелание терпеть присутствие войск США на границе с Северной Кореей по реке Ялуцзян (Амноккан).
Эта книга не претендует на всеобъемлющий исторический охват. Скорее, как и другие мои работы, посвященные двум мировым войнам и вьетнамской, это портрет самого конфликта и его истоков, в котором основная роль отводится воспоминаниям и переживаниям непосредственных участников. Я, как британец, уделяю больше внимания вкладу своей страны, чем того заслуживает ее скромная лепта: от лица ООН в этой войне сражались преимущественно американцы. Но свидетельства британских военных способны поведать о боевых действиях в Корее ничуть не меньше, чем рассказы американских, канадских и австралийских товарищей по оружию, с которыми они вместе бились в этих бесплодных горах.
Корейская война сильно повлияла на отношение американцев к вьетнамской войне десятилетием позже – не в последнюю очередь потому, что подкрепила убеждение Вашингтона: в региональной войне необходимо достичь приемлемого компромисса, чтобы сдержать коммунистическую экспансию, и не обязательно при этом добиваться сокрушительной победы на поле боя. Многие кадровые офицеры участвовали в обоих военных конфликтах, в том числе такая колоритная знаменитость, как американский полковник Фред Лэдд, в потрясающих беседах с которым я провел не один час. Его воспоминания о службе в штабе Макартура в 1950-х – бесценный штрих в моей картине событий. Бригадный генерал Эд Симмонс, занимавший в 1970-х пост директора Музея корпуса морской пехоты США, был ветераном Чосинской кампании – и необычайно строгим критиком операций США в Корее. Во время моих интервью по обеим сторонам Атлантики меня поразило, как часто у ветеранов путаются воспоминания: то и дело они, оговариваясь, произносили «во Вьетнаме», имея в виду «в Корее». Впрочем, было разительное отличие, которое с горечью подчеркнул один выдающийся американский генерал: «Мы вошли в Корею с паршивой армией, а вышли с приличной. Во Вьетнам мы вошли с приличной армией, а вышли с никудышной».
Многие составляющие индокитайской трагедии дали о себе знать еще в Корее: незавидное политическое положение, в котором оказались западные демократические страны, поддерживая своим участием в войне местный непопулярный, жестокий автократический режим; трудности создания дееспособной армии в коррумпированном азиатском обществе; последствия недооценки тактического мастерства и презрения к смерти у идеологизированных сельских жителей. Несмотря на несомненные плюсы превосходства в воздухе и непосредственной авиационной поддержки, преимущества воздушных сил в войне с экономически неразвитым противником, не связанным с дорогами, с точки зрения стратегии оказались несущественными. Кроме того, американцам и их союзникам было трудно, сражаясь в гористой местности, задействовать в полную силу механизированные войска, сформированные для европейских кампаний.
Смерть Сталина в марте 1953 года устранила одно из главных препятствий к прекращению корейской войны. Кроме того, западным силам удалось стабилизировать фронт так, чтобы у Штатов появилась возможность воспользоваться своей огневой мощью с завоеванных позиций и отразить массированный удар коммунистических сил. В результате у некоторых американских военных и стратегов сложилось неоправданное самомнение: они забыли, что, в отличие от Кореи, где географические особенности позволяли оборонять короткую линию фронта, проходившую по самому узкому месту полуострова, в Южном Вьетнаме открытые границы тянутся на две тысячи миль. Коммунисты же много узнали в Корее о пределах терпения демократических стран и о том, как тяжело властям этих стран поддерживать у избирателей готовность участвовать в войнах в далеких землях, не имеющих к ним, на их взгляд, никакого отношения.
И все-таки в вопросе корейской войны я остаюсь ревизионистом. Многие – и те, кто сражался, и самые разные люди – десятилетиями считали ее напрасной, а цену в почти три миллиона жизней – заплаченной ни за что. Но мне кажется, что свобода и процветание сегодняшней Южной Кореи и пятидесяти двух миллионов населяющих ее человек оправдывают борьбу Запада за то, чтобы сохранять ее статус, – особенно когда мы видим, что двадцать шесть миллионов северокорейцев прозябают в нищете, на которую их обрекли коммунистические власти страны и их китайские защитники. При всей моей критике перегибов со стороны Макартура, необдуманного, неуклюжего поведения Запада в отношении Китая почти на всем протяжении XX века и недостатков президента Южной Кореи Ли Сын Мана, я по-прежнему убежден в том, что военное вмешательство Запада в июне 1950 года с целью противостоять неприкрытой агрессии было правильным шагом. Все американцы и британцы, приезжающие в Южную Корею после 1953 года, видят воочию, как благодарны до сих пор жители этой страны силам ООН, спасшим их тогда от необходимости покориться Ким Ир Сену и его преемникам.
Готовя переиздание книги, я устоял перед соблазном исправлять и перерабатывать текст 1987 года с учетом открывшихся в последнее время свидетельств, не последнее место среди которых занимает написанная генералом сэром Энтони Фарраром-Хокли официальная британская история корейской войны, вышедшая в 1990 году. Стоит только начать править и дополнять, и конца этому не будет. Лучше, на мой взгляд, убедиться, что моя версия событий не утратила достоверности в самом существенном – прежде всего, благодаря свидетельствам из первых рук – от множества непосредственных участников. Исправлять ошибки, которые неизбежно обнаруживаются в свете обновленной статистики и рассекреченных материалов за прошедшие три десятилетия, – задача нового поколения историков. Те, кто берется за эту тему сейчас, вольны рецензировать и оспаривать мои суждения, как сочтут нужным. Я же по-прежнему горжусь тем, что одним из первых в своем поколении писателей пролил свет на захватывающую историю корейской войны.
Макс ХейстингсЧилтон Фолиат,
Западный Беркшир.Январь 2020 года
Пролог
Оперативная группа «смит»
Ранним утром 5 июля 1950 года 403 растерянных, промокших, дезориентированных американца сидели в своих наспех вырытых окопах на трех корейских холмах и смотрели вниз – на автостраду, связывающую Сувон и Осан. Бойцы 1-го батальона 21-го пехотного полка пробыли в Корее всего четыре дня – после переброски на больших транспортниках С-54 с японской авиабазы Итадзуке на южный аэродром Пусана. С этого момента они рывками продвигались на север – на поезде и на грузовиках, ночуя в подсобках и в школах, в окружении толп беженцев, заполонивших дороги и станции. Некоторые из них заболели из-за местной воды. Лейтенант Фокс выбыл из строя еще до того, как американцы услышали первый выстрел противника: в поезде ему в глаз попала вылетевшая из топки зола. Всех без исключения ели поедом комары. Они узнали, что Корея воняет – в самом буквальном смысле – человеческим дерьмом, которым крестьяне удобряли рисовые поля. Они наблюдали за сердечными придорожными встречами своих офицеров и немногочисленных генералов, разбросанных по стране. Командовавший 24-й дивизией генерал Уильям Дин сказал командиру 1-го батальона 21-го полка подполковнику Чарльзу (Брэду) Смиту: «Простите, мне почти нечего вам сообщить».
Они знали, что 25 июня коммунистическая Северная Корея вторглась в антикоммунистическую Южную и с тех пор ломится на юг, никого не щадя и почти не встречая сопротивления со стороны разбитой армии Ли Сын Мана. Бойцам оперативной группы предстояло занять оборонительные позиции где-то на пути противника – как можно дальше к северу, однако после долгих лет службы в оккупационных войсках в Японии они даже помыслить не могли о настоящих сражениях, ранениях и возможной внезапной гибели. Батальон, как и остальные подразделения оккупационных войск в Японии, был катастрофически недоукомплектован и плохо вооружен. Роты А и D вместе со многими вспомогательными подразделениями все еще переправлялись из Японии в Пусан морем. Вечером 4 июля батальону было приказано занять отсечную позицию у дороги на Сувон, примерно в пятидесяти милях к югу от столицы, Сеула, уже занятого коммунистами. В гористой местности все дороги, пригодные для перемещения современной армии, можно пересчитать по пальцам, поэтому было очевидно, что продвигающийся на юг противник нацелится на Осан. Этому противнику и должен был дать отпор первый батальон 21-го полка – первое из подразделений армии США, доступное для немедленной переброски в Корею и введения в бой. «Они выглядели как отряд бойскаутов, – сказал полковник Джордж Мастерс, один из тех, кто видел батальон во время переброски на фронт. – Я разъяснил Брэду Смиту: “Против вас будут закаленные в боях солдаты”. Ответить ему на это было нечего»[4].
Как большинство солдат в большинстве войн, они продвигались к позициям в темноте, под мелким моросящим дождем. Часть южнокорейских водителей реквизированных грузовиков наотрез отказалась ехать дальше к полю боя, поэтому американцам пришлось сесть за руль самим. Батальон выгрузился позади холмов, на которых полковник Смит наскоро провел рекогносцировку, и взвод за взводом начал карабкаться вверх по каменистому, поросшему кустарником склону под приглушенные ругательства и бряцание оружия. Офицеры были в таком же замешательстве, как и рядовые, поскольку им сказали, что предстоит встреча с южнокорейским армейским подразделением, вместе с которым они должны закрепиться на позиции. В действительности на холме никого не оказалось. Ротные как могли рассредоточили бойцов и приказали окапываться. Американцы сразу же обнаружили, как тяжело выгрызать укрытия в непробиваемых корейских холмах. Несколько часов, неуклюже ворочаясь в своих плащ-палатках под дождем, они скреблись среди скал. Внизу на дороге связисты прокладывали телефонный кабель на тысячу метров в сторону тыла – к единственной батарее поддерживающих 105-миллиметровых гаубиц. Грузовики с боеприпасами громоздились у обочины: никто даже не заикнулся о том, чтобы тащить их в темноте на холм к позициям роты. Окопавшись, большинство американцев над дорогой на час-другой улеглись в облепившей тело насквозь промокшей одежде рядом с оружием и выкладкой и провалились в беспокойный сон.
Когда через несколько часов забрезжил рассвет, бойцы оперативной группы «Смит» (это громкое название маленькому подразделению дали в штабе в Токио), моргая и бестолково перетаптываясь спросонок, попытались оглядеть окрестности с занятых позиций. Они находились чуть южнее сувонского аэродрома, в трех милях к северу от городка под названием Осан. Мало-помалу глаза начали выхватывать из общей массы знакомые лица: вот сам Смит по прозвищу Брэд, худощавый тридцатичетырехлетний выпускник Вест-Пойнта, во время Второй мировой воевавший на Тихом океане, а вот помощник командира Мамочка Мартайн – требует слегка перекроить позиции, занятые в темноте. Майор Флойд Мартайн, родом из Нью-Йорка, с 1926 года служил в национальной гвардии, потом в 1940 году его призвали на действительную службу – войну он провел на Аляске. Злопыхатели считали Мартайна чем-то вроде суетливой старухи, отсюда и прозвище. Но он действительно заботился о своих бойцах, и многие по-настоящему его за это любили. Капрал Эзра Берк был сыном рабочего лесопилки из Миссисипи – после призыва он успел поучаствовать в боях под самый занавес тихоокеанской кампании, а потом остался в Японии – вкушать хмельную радость оккупационной службы. Кроме Берка в подразделении было еще много южан – парней, которым в родных городках конца сороковых не светили ни такие выплаты, ни такая сладкая жизнь, как в оккупационных частях армии Макартура. Теперь капрал Берк, будучи санитаром, раскладывал полевые медицинские комплекты в лощине за позициями батальона. Они рассчитывали провести неделю в Корее, разобраться с гуками[5], а затем вернуться в Японию. Теперь, на пятый день, уверенности в отношении расписания у них поубавилось.
Лейтенант Карл Бернард, двадцатичетырехлетний техасец, во время Второй мировой служил по контракту в морской пехоте. Быстро заскучав на гражданке после окончания войны, он завербовался в 82-ю воздушно-десантную дивизию и в 1949 году был назначен в 24-ю. Когда разразился Корейский кризис, Бернард, как один из немногих в этой дивизии, прошедших воздушно-десантную подготовку, провел несколько дней на японском аэродроме, надзирая за погрузкой транспорта. Теперь его поставили командовать 2-м взводом роты B, в которой он не знал пока никого, поскольку в батальон прибыл всего два часа назад.
Капрал Роберт Фаунтин из взвода связи наблюдал, как полковник Смит рассматривает в бинокль столбы черного дыма на горизонте, накинув на плечи армейское одеяло. Ни дать ни взять индейский вождь, подумал Фаунтин. Самого же Фаунтина – девятнадцатилетнего парня с фермы в Мейконе (Джорджия) – больше всего беспокоило, выдержат ли телефонные провода: мотаные-перемотаные, их столько раз тянули и наращивали на маневрах в Японии. Теперь же они стали главным средством связи для батальона: большинство радиопередатчиков под дождем вышло из строя. О событиях предшествующих дней Фаунтин уже не знал, что и думать. Он пошел в армию в шестнадцать: родители в разводе, работу дома не найдешь, он просто не видел, куда еще податься. Сражения его, в общем-то, не прельщали. На самолете он, как и многие другие бойцы, первый раз в жизни полетел во время переброски в Корею. За проведенные здесь несколько дней их обстреляли с налетевших, как они были уверены, северокорейских Яков, но потом выяснилось, что с австралийских «Мустангов». На их глазах взорвался поезд с боеприпасами, на их глазах южнокорейский офицер без всяких объяснений поставил одного из своих бойцов на колени и убил выстрелом в затылок. Якобы идущие на них танки противника оказались дружественными гусеничными тракторами. Из Японии Фаунтин с однополчанами улетали уверенные, что это дней на пять: «Да гуки только услышат, кто мы, тут же побросают оружие и разбегутся по домам». Всю одежду, вещи, деньги они оставили в казарме. Однако за эти дни шапкозакидательские речи поутихли. Фаунтин съел банку холодного сухпайка и спросил, не осталось ли у кого воды во фляге. Он промок, продрог и ничего не понимал.
В семь утра с небольшим сержант Лорен Чеймберс из роты B позвал командира своего взвода: «Лейтенант, посмотрите! Очуметь, а?» По открытой равнине со стороны Сувона на них двигалась колонна из восьми танков темно-зеленого цвета. «Что это?» – спросил лейтенант Дэй. «Это Т-34, сэр, – ответил сержант. – И вряд ли они ползут к нам с миром». Сонную одурь у бойцов как рукой сняло – возбужденно тараторя, они впервые смотрели на противника. Офицеры поспешили вперед – убедиться, что угроза не мнимая. Капитан Дэшнер, командующий ротой B, сказал: «Давайте ударим по ним артиллерией»[6]. Передовой артиллерийский наблюдатель 58-го дивизиона полевой артиллерии включил шлемофон. Через несколько минут на рисовые поля начали сыпаться снаряды, но танки продолжали наступать. Бронебойность у орудий 58-го дивизиона была ничтожная.
Лейтенант Филипп Дэй с одним из двух имевшихся в батальоне расчетов 75-миллиметровых безоткатных орудий вытащили свою неповоротливую махину на позицию над дорогой и выстрелили. По неопытности они разместились на переднем скате. Снаряд не нанес врагу видимого урона, зато зверская отдача, сотрясшая холм, взметнула фонтан грязи, которая погребла под собой расчет и залепила орудие. Пришлось срочно разбирать и чистить.
Тем временем на дороге лейтенант Олли Коннорс сжимал ручную 2,36-дюймовую базуку – один из главных видов противотанкового оружия, которым располагало подразделение. Серьезный изъян гранаты этого калибра – неспособность пробить основную броню большинства танков – был хорошо известен еще в 1945 году. Тем не менее появившиеся за прошедшие пять лет усовершенствованные более мощные 3,5-дюймовые базуки в дальневосточную армию Макартура не поставлялись. Когда первый Т-34 прогрохотал к узкому проему между американскими позициями, Коннорс вскинул базуку и выстрелил. Корпус танка осветился всполохом взрыва. Но Т-34, наверное самому выдающемуся танку Второй мировой, не утратившему еще своей грозной мощи, этот взрыв был как слону дробина. Он с ревом промчался через проем и понесся по дороге к артиллерийскому рубежу американцев. За ним потянулись другие. Коннорс, проявляя необычайную отвагу, стрелял по ним снова и снова – с близкого расстояния, всего выпустив двадцать две гранаты. Один танк остановился – кажется, у него сорвало гусеницу, – но отстреливался он по-прежнему исправно: и из пушки, и из спаренного с ней пулемета. Остальные скрылись из глаз, громыхая по направлению к Осану, а через несколько минут показался идущий за ними следом еще один бронированный взвод. У единственной 105-миллиметровой гаубицы американцев имелось несколько бронебойных боеприпасов, одним из которых удалось наконец подбить очередной громыхающий мимо Т-34 – он остановился и загорелся. Выскочивший из башни танкист выстрелил на бегу из автомата. Этой первой очередью, которую успел сделать коммунист, прежде чем подбили его самого, он оказал одному из артиллеристов сомнительную честь стать первым американским солдатом, погибшим в Корее в результате действий противника. Безоткатное орудие лейтенанта Дэя снова начало стрелять, но вспышка делала его легкой мишенью. Удар 85-миллиметрового танкового снаряда заставил его замолчать: Дэя контузило взрывом, из ушей хлынула кровь. В промежутке с 7 до 9:30 утра через «отсечную позицию» оперативной группы «Смит» прокатилось около тридцати северокорейских танков, убив или ранив снарядами и пулеметным огнем около двадцати защитников. Придумать, как их остановить, американцы не могли.
Около одиннадцати утра на дороге показалась идущая с севера длинная колонна грузовиков с еще тремя танками во главе. Они встали бампер к бамперу, и из них хлынула пехота, мгновенно рассыпавшаяся по стелющимся на запад и восток от дороги рисовым полям. Некоторые гимнастерки горчичного цвета начали двигаться в сторону американских позиций под беспорядочным огнем минометов и стрелкового оружия. Другие терпеливо подбирались к флангам. Поскольку линия фронта у оперативной группы «Смит» составляла всего триста пятьдесят метров и больше никаких пехотных подразделений на многие километры от этой линии у американцев не было, исход этого боя стал очевиден и предрешен моментально. С каждым часом со стороны коммунистов нарастал огонь, а на стороне американцев росли потери. Полковник Смит вызвал офицеров роты С, дислоцировавшейся к западу от дороги, на командный пункт и приказал сосредоточить все силы на круглом плацдарме с восточной стороны. Около ста пятидесяти бойцов роты «Чарли» повзводно покинули позиции, прошли колонной по одному к дороге, вскарабкались, продираясь сквозь кустарник, на склон с противоположной стороны и принялись как могли рыть стрелковые ячейки и оборудовать огневые позиции.
Выбор у Смита был незавидный. Его подразделению мало что удавалось там, где оно стояло. Но если принять решение немедленно оставить позиции, погрузить бойцов в уцелевшие грузовики и двинуться на юг, то рано или поздно колонна наткнется на укатившие туда танки коммунистов. Так что со своими немногочисленными силами Смит ничего не добьется, если покинет высоту и пойдет в контрнаступление на вражескую пехоту. Однако оставаясь на месте, он не дождется ни подкрепления, ни передышки. Положение сложилось парадоксальное. На дворе 1950 год, Америку с ее буйным экономическим ростом, атомной бомбой и наследием победы во Второй мировой воспринимают как величайшую державу мира, превосходящую могуществом Римскую империю на пике расцвета или Британскую империю образца предшествующего столетия. И тем не менее сейчас на корейских холмах первыми представителями военной мощи Соединенных Штатов, призванными дать отпор коммунистической агрессии, оказались бойцы недоукомплектованного пехотного батальона, который вот-вот должны были стереть с лица земли. Все B-29 на авиабазах США, все американские дивизии в Европе, все флотилии ВМС США от Тайваньского пролива до Средиземного моря ничем не могли помочь бьющейся в одиночку оперативной группе «Смит». Для командования в Токио и Вашингтоне, полагавшего, что одного присутствия этого символа американской мощи хватит, чтобы обратить северокорейцев в бегство, удар оказался сокрушительным. В дальнейшем допросы северокорейских офицеров показали, что столкновение их 4-й дивизии с оперативной группой «Смит» позволило им составить первое впечатление об американской интервенции, которая стала для них неожиданностью. Между тем непосредственных участников столкновения на дороге Осан – Сувон политические последствия не волновали. Коммунисты пустили в ход минометы, и довольно успешно. У американцев заканчивались боеприпасы к стрелковому оружию, пока бойцы из последних сил карабкались по скользким тропкам, протоптанным в грязи, волоча к передовым позициям ящики и стальные коробки. Ниже по склону между валунами неумолимо ширились ряды раненых, вокруг которых суетились медики, но без крови для переливания они мало что могли сделать. Капитан Ричард Дэшнер, ветеран Второй мировой, техасец, командовавший ротой С, бросил майору Мартайну: «Нужно валить отсюда!» Командующий штабной ротой лейтенант Бертхофф согласился. Сначала Смит заявил, что немедленного отступления не будет. Но усилившийся огонь по флангам заставил его передумать. «Кажется, иначе никак», – сказал он офицерам. «Возможно, я буду сожалеть об этом решении до конца своих дней», – добавил он горестно. Первой предстояло сняться роте С. Через считаные минуты ее бойцы уже катились с тыльной стороны позиций на лежащие внизу рисовые поля, спотыкаясь и на чем свет стоит кляня вонищу и вражеский огонь. О том, чтобы уходить по дороге, не могло быть и речи – ее поливали пулеметным огнем покуда хватало глаз. Оставалось только пробираться по полям, балансируя между канавами, а потом драпать проселочными дорогами до встречи с дружественными войсками.
Вот тогда, во время отступления, вылезли наружу все слабые места оперативной группы «Смит» как боевого формирования. Нет военного маневра более показательного, чем отход в боевой обстановке. Американские солдаты изнежились за годы пренебрежения вооруженными силами со стороны государства и недостаточной подготовки, растерялись на поле боя и пришли в ужас от изоляции, в которой оказались. Увидев спускающихся по склону бойцов, остальные поспешили за ними, боясь, что их бросят. «Каждый спасался как мог, – говорит лейтенант Дэй. – По мере того как мы оставляли позиции, потери росли. ‹…› Куда ни взгляни, все падали один за другим. Вокруг рвались минометные мины. Одному из парней жахнуло прямо в живот. К нему кинулся мой взводный сержант Харви Ванн. Я поспешил за ним. “Нет, этот точно не жилец, лейтенант”. Боже, как он выл и стонал, этот парень! А я ничего не мог сделать, только погладить по голове и сказать: “Держись!” Другому взводному сержанту заехало по горлу, он начал кашлять кровью. Я думал, точно крышка… ‹…› Остаток дня он зажимал себе порванное горло обеими руками. Но выжил, тоже выжил»[7]. Отступая, американцы бросали оружие и технику, некоторые скидывали даже шлемы, ботинки, личное оружие. О взаимодействии быстро забыли. Путь отступления усеивали следы поспешного беспорядочного бегства. Поодиночке, по двое, группками американцы пробирались на юг по полям.
В роте С, покинувшей позиции первой, со сплоченностью оказалось получше, чем в роте В. Спустя два дня изнурительного марша капитан Дэшнер добрался до Тэджона, сохранив под командованием больше половины своих людей. Флойд Мартайн с подручными на батальонном командном пункте попытались сжечь конфиденциальные бумаги, однако документы отсырели и не загорались. Тогда они выкопали яму, зарыли их в ней и пошли вдоль железнодорожных путей на юг. Через несколько часов крошечный отряд Мартайна увидел грузовики и кинулся в укрытие. Но грузовики, к неимоверному облегчению отряда, оказались американскими – они везли артиллеристов (которые даже не попытались вытащить орудия с позиций и предпочли их взорвать, к ярости некоторых офицеров) и самого полковника Смита. Дальше они всю ночь играли в изматывающие смертельные прятки с вражескими танками, пока не доехали до позиций 34-го пехотного полка в Ансоне. Капрал Роберт Фаунтин приказа отступать не слышал – он просто увидел хлынувший вниз поток бойцов, крикнул: «Что происходит?» – и, услышав в ответ: «Отступаем!» – присоединился к ним. Он пробрался мимо американца, который сидел, опираясь спиной на земляной вал, – мертвого и уже коченеющего. А потом вдруг столкнулся лицом к лицу с двумя выскочившими из подбитого танка северокорейцами. Одного застрелил идущий за ним следом, сам Фаунтин застрелил другого, бросившегося к дому. После этого Фаунтин долго плюхал по заливным полям под пулеметным огнем с оставленных батальоном позиций. В лесу ему повстречалась группа из шестнадцати соотечественников. Он достал нож и срезал верхушки армейских ботинок, чтобы вылить из них воду. Два сержанта построили образовавшийся отряд, и все пустились в путь снова, пытаясь вместе тащить раненых. Один из бойцов, американец японского происхождения, был ранен в живот – его в итоге оставили умирать в брошенной деревне, до которой они доковыляли. Фаунтин нашел турнепс и сгрыз его сырым. И еще много часов они шли в темноте за отрядом южнокорейских солдат, на который наткнулись. Немного поспать удалось на корейском командном пункте в здании школы. А потом кто-то крикнул: «Танки!» Американцы набились в грузовик, проехали несколько миль, грузовик угодил в кювет и там застрял. Пришлось снова топать пешком, пока наконец они не очутились на позициях 34-го пехотного.
Лейтенант Карл Бернард все еще находился на холме со своим взводом роты В, когда огонь по противнику с остальных американских позиций начал ощутимо слабеть. Лейтенант послал связного узнать, в чем дело. Тот вернулся через несколько минут изрядно ошарашенный и доложил: «Они все ушли!» От командования и управления к этому этапу боя осталось одно название. Бернард, у которого лицо и руки были изранены гранатными осколками, поспешил тоже ретироваться со своими людьми по примеру остальных. У подножия холма они обнаружили санитаров, которые все еще возились с многочисленными ранеными. Всех, кто хоть как-то мог передвигаться, взвод Бернарда забрал с собой, а прочих оставили, обрекая на плен. Лейтенант поделил уцелевших бойцов своего взвода на два отряда – один он отправил с рядовым, который прежде проводил разведку, а второй повел сам. Компаса у него не было, но в брошенной школе он нашел ученический атлас и, выдрав оттуда страницу с Кореей, использовал ее для навигации. В следующие несколько часов его отряд не раз наталкивался на вражеские танки. Чтобы везти раненого сержанта, Бернард выменял у одного старого корейца тачку, отдав золотые часы «Лонжин», которые выиграл в покер на корабле, когда плыл из Сан-Франциско в Японию.
Эзра Берк спустился с холма с четырьмя медиками из своей бригады, двумя лежачими ранеными на носилках и одним ходячим. Продвигались они, учитывая раненых, медленно и трудно, постоянно останавливаясь и оглядываясь в надежде, что от преследователей все же удалось оторваться. Но до самого вечера они видели только колонны северокорейцев, следующих за ними по пятам, словно тень. В конце концов они решили разделиться. Берк с двумя другими медиками направился на юго-запад. Они промокли насквозь, выбились из сил и, самое главное, отчаянно хотели воссоединиться со своим подразделением и офицерами – да хоть с кем-нибудь, кто объяснил бы им, куда двигаться и что делать. До рассвета они жались друг к другу в темноте, а с первыми лучами солнца зашагали снова. На холме над Пхёнтхэком они встретили лейтенанта Бернарда с его отрядом из семи человек и дальше пробирались на юг вместе. Днем в основном прятались, передвигались по ночам. Окончательно оголодав, они отважились прокрасться в деревню и выменять на вещи несколько картофелин у местной жительницы. Там им попалось двое корейских солдат, и американцы пристроились было идти с ними, но заговоривший с этими двумя южнокорейский лейтенант сразу распознал в них коммунистов. Парочка пустилась бежать через рисовое поле – Берк выстрелил им вслед из карабина и промахнулся. Однако до леса они добежать не успели: Бернард уложил их выстрелами из браунинга.
До американских позиций они добрались 10 июля, через пять дней после сражения в Осане – изможденные, с безобразно опухшими ногами. На следующий день у Берка случилась почечная колика, и его эвакуировали самолетом из Тэджона в Осаку. Карл Бернард провел несколько мучительных часов в полевом госпитале, где ему извлекли из рук и лица осколки гранаты. После этого он целый день проспал беспробудным сном человека, выжатого до капли.
Примерно так же целую неделю после того боя в Осане просачивалась к своим основная часть оперативной группы «Смит». На перекличке насчитали 185 бойцов. Кто-то добирался с приключениями эпического размаха, например сержант Уильям Смит, который приплыл на рыбачьей лодке лишь две недели спустя. Лейтенант Коннорс, расстрелявший из базуки танки, получил «Серебряную звезду» за храбрость. По официальным данным, оперативная группа «Смит» потеряла в битве за Осан 155 человек. К моменту возвращения они обнаружили, что все промахи, которые они допустили 5 июля, меркнут перед откровенным позором, который пришлось пережить другим подразделениям 24-й дивизии в первые дни войны, когда северокорейские захватчики сметали все на своем пути в кровавом марше на юг. И все это из-за внезапного решения Соединенных Штатов ввязаться в самую неожиданную войну в самом непредсказуемом месте и в самой неблагоприятной для этого обстановке. Знали бы бойцы оперативной группы «Смит» на той дороге к югу от Сувона 5 июля, что наносят первый вооруженный удар от лица новой мировой силы – Организации Объединенных Наций, возможно, этот нелепый, сумбурный, почти жалкий бой показался бы им более доблестным. А может быть, наоборот, еще более непостижимым.
Глава 1
Корни трагедии
История знает не так много случаев, когда какая-либо страна внезапно выходила из тени и оказывалась в центре мировых событий, как это случилось с Кореей. Первый значимый контакт Запада со Страной утренней свежести произошел сентябрьским утром 1945 года, когда передовой отряд американской армии в полном боевом снаряжении высадился в западной гавани Инчхона, где его встретила делегация японских официальных лиц во фраках и цилиндрах. Так началась операция «Черный список номер сорок» – оккупация Южной Кореи Соединенными Штатами.
Инчхон предстал перед первыми вступившими в него американскими офицерами напуганным, не знающим, чего ждать, и наглухо закрытым. Порыскав по пустынным улицам, где лишь краем глаза можно было выхватить лица местных, украдкой подглядывающих за освободителями из окон и из-за углов, они набрели на одинокий китайский ресторанчик с объявлением «Добро пожаловать, США». Дальше, начиная с того момента, как они погрузились в поезд на Сеул, их везде встречали с нескрываемым ликованием. В каждой деревне, которую они проезжали, у путей собиралась небольшая толпа местных и радостно размахивала флагами. От сеульского вокзала они намеревались доехать до пункта назначения – городского почтамта – на грузовике, но по прибытии передумали и решили пойти пешком. Каково же было изумление американцев, когда их окружила праздничная толпа бурно радующихся корейцев: они заполонили все улицы и переулки, забирались на повозки, высовывались из окон, облепляли крыши. Американцы не знали, что и думать. Они и представить себе не могли, что означало для народа этого всеми забытого полуострова окончание войны с Японией[8].
На всем протяжении своей истории вплоть до конца XIX века Корея была преимущественно сельскохозяйственной страной, стремившейся жить в изоляции[9] от остального мира, и это ей хорошо удавалось. С 1392 года в стране правила династия Ли, но в XVI веке она пережила два крупных вторжения со стороны Японии. Когда японцы ушли, Корея вернулась к суровому традиционному укладу – она мерзла до костей зимой и жарилась на солнцепеке летом, правящие кланы из поколения в поколение враждовали друг с другом. По конфуцианскому канону, согласно которому внешняя политика считалась продолжением внутрисемейных отношений, Корея исторически хранила верность Китаю, своему «старшему брату». До 1876 года свою ближайшую соседку Японию она считала дружественной ровней. Но в начале января того года на волне экспансионистской политики, которая будет двигать Японией следующие семьдесят лет, Токио отправил в Корею военный отряд, чтобы «заключить договор о дружбе и торговом сотрудничестве». И после короткой и безуспешной попытки сопротивления 26 февраля корейцы этот договор подписали. Он обязывал Корею открыть свои порты для Японии, а ее граждан наделял экстерриториальными правами[10].
Уязвленные корейцы стали советоваться с другими соседями, как сбросить с себя это унизительное иго. Китайцы посоветовали договориться с какой-нибудь из западных держав, «которая послужит противоядием», лучше с Америкой, поскольку та вроде бы не имела никаких территориальных притязаний к материковой Азии. Двадцать второго мая 1882 года Корея подписала с Соединенными Штатами договор о «дружбе и торговле». Как выразился один американский историк, ведущий специалист по тому периоду, в результате «Корея оказалась в океане интриг, над которыми была не властна». Разъяренные японцы теперь все больше вмешивались во внутрикорейскую междоусобную борьбу. Интерес проявляла и Британия, желающая сохранить статус Китая как «старшего брата» Кореи, чтобы противостоять влиянию России на Дальнем Востоке. К 1893 году Корея последовательно подписала серию договоров о торговле со всеми крупными европейскими государствами. Японцы четко определили свою цель: министр иностранных дел Японии открыто заявил, что Корею «нужно нанести на японскую карту». Понимания у Токио не было только в одном: как этого добиться без противоборства с какой-нибудь из великих держав.
Проблему решил Китай. Все более грубое вмешательство Пекина в корейские дела, его притязания на определенную власть над Сеулом вызвали волну антикитайских настроений и всплеск расположения к японцам, которые теперь могли рассчитывать на поддержку хотя бы части корейского народа. В 1894 году Япония решила ковать железо, пока горячо, и высадила в Корее свои войска. Сеульское правительство в смятении и панике попросило Пекин помочь подавить вспыхнувшее восстание[11] военной силой. Японцы в ответ двинули морскую пехоту прямо на столицу. Корейские власти, окончательно и безнадежно загнанные в угол, стали умолять обоих соседей уйти. Но японцы почуяли запах победы. Они прислали дополнительный контингент.
Последние годы номинальной независимости Кореи приобрели черты опереточного абсурда. Власти, неискушенные ни в дипломатии, ни в современной силовой политике, дергались и барахтались в сетях, которые опутывали их все туже и туже. Китай признал свою неспособность дать японцам военный отпор в Корее. Токио держал местные власти за горло, все крепче сжимая хватку, пока в 1896 году король не сделал попытку вырваться, укрывшись в российской миссии в Сеуле. Там, в убежище, король издал указы о казни всех своих прояпонски настроенных министров. Японцы временно отступили.
Следующие семь лет Петербург и Токио боролись за власть и концессии в Сеуле. Исход этой борьбы решила сокрушительная победа японцев в Цусимском сражении – в нескольких милях от Пусана. В феврале 1904 года Япония ввела в Корею большую армию. В ноябре следующего года страна стала японским протекторатом. Британия, демонстрируя характерный для того периода колониальный цинизм, благословила захват Японией Кореи в обмен на поддержку своего владычества в Индии. Уайтхолл признал право Японии «принимать такие меры по управлению, контролю и защите Кореи [название страны тогда по-английски писалось через С – Corea], какие сочтет надлежащими и необходимыми», чтобы обеспечить свои «первостепенные политические, военные и экономические интересы».
Так независимость Кореи стала фикцией. В последующие годы в страну неиссякаемым потоком текли японские чиновники и иммигранты. В Корее вводилась японская система образования, прокладывались автомобильные и железные дороги и канализация. Но корейцы – ярые националисты – ни малейшей благодарности не испытывали. Неуклонно росло вооруженное сопротивление, за которым стоял необычный союз ученых-конфуцианцев, бандитских кланов, христиан и крестьян, страдавших от колониальных властей. В 1908 году антияпонская партизанская армия достигла пика своей численности – 70 000 человек. Но сразу после этого ее разбили безжалостно подавлявшие повстанческое движение японцы. Корея превратилась в вооруженный лагерь, где сплошь и рядом проводились массовые казни и повальные аресты и пресекалось любое несогласие. Двадцать второго августа 1910 года корейский император подписал отказ от всех своих прав на суверенную власть. Япония ввела собственные титулы для знати и учредила свое военное правительство. В течение следующих тридцати пяти лет, несмотря на упорное вооруженное сопротивление скрывавшихся в горах националистических отрядов, многие из которых были коммунистами, японцы удерживали свою деспотическую ненавистную корейцам власть над страной, которая в 30-х годах XX века стала важным плацдармом для экспансии на север, в Маньчжурию.
Однако, несмотря на то что Китай теперь погряз в междоусобной войне воевод-тупанов, а Россия была занята строительством новой жизни после революции, еще до Второй мировой стало ясно, что в силу своего географического положения на стыке трех великих держав Корея останется незатухающим очагом напряженности и соперничества. Американский историк Тайлер Деннетт прозорливо писал в 1945 году, за несколько месяцев до окончания войны на Дальнем Востоке:
Многие из факторов международной обстановки, которые привели к падению Кореи, либо сохранились неизменными за прошедшие полвека, либо, скорее всего, проявят себя вновь, как только на востоке восстановится мир. Японию с ее жаждой власти удастся приструнить, но не навсегда. Возможно, в следующем поколении Япония снова будет иметь большое влияние в Тихоокеанском регионе. Россию же полуостров, скорее всего, будет интересовать не меньше, чем сорок лет назад. И вполне вероятно, этот фактор окажется важнее, чем когда-либо прежде. Стоит ожидать, что и традиционная вовлеченность Китая в дела этого региона тоже сохранится[12].
И вот война резко заканчивается – и Японская империя идет с молотка. Корейцы, освободившись от японского владычества, стали ждать исполнения обещания, данного «тремя великими союзниками» в Каирской декларации 1943 года, что «в свое время» Корея станет свободной и независимой.
Решение высадить войска, чтобы тоже поучаствовать в оккупации Кореи, Америка приняла только под самый конец войны. Японская колония в сложных переговорах о зонах оккупации, которые вели участники «Большой тройки» в 1943–1945 годах, не фигурировала. Американцам всегда нравилась идея «опеки» над Кореей, как над Индокитаем и некоторыми другими колониальными владениями на Дальнем Востоке. Их привлекала перспектива обозначить некий период, в течение которого попечители в лице великих держав, в данном случае Китая, Штатов и СССР, будут «просвещать» зависимые народы и «готовить к самоуправлению», «защищая их от эксплуатации». У британцев и французов, не забывавших о собственных империях, эта идея отклика не находила. С дальнейшим ходом войны раздумья о будущем внутреннем устройстве Кореи отошли на второй план, оттесненные растущим беспокойством о внешних силах, которые будут это устройство определять. Еще в ноябре 1943 года один из подкомитетов Госдепартамента высказал опасения, что Советский Союз, вступив в войну на Дальнем Востоке, может воспользоваться возможностью втянуть Корею в свою сферу влияния:
Корея может показаться соблазнительно удобным случаем применить советскую концепцию должного обращения с колониальными народами, чтобы существенно увеличить экономические ресурсы советского Дальнего Востока, получить незамерзающие порты и занять господствующую стратегическую позицию по отношению к Китаю и Японии… ‹…› Советская оккупация Кореи создала бы совершенно новую стратегическую обстановку на Дальнем Востоке с возможными далеко идущими последствиями для Китая и Японии[13].
Как очень верно подметил американский историк Брюс Камингс, «“совершенно новую стратегическую обстановку на Дальнем Востоке” создал вовсе не интерес к Корее со стороны CCCP – он-то проявлял его уже не одно десятилетие, а заинтересованность Штатов»[14]. Однако к началу Потсдамской конференции в июле 1945 года предсказуемые трудности вторжения на «внутренние территории» Японии вызывали у вооруженных сил США немалую головную боль. Штаты считали японские войска, все еще дислоцирующиеся в Корее и Маньчжурии, достаточно крепким орешком для Красной армии и были только рады переложить эту задачу – и бремя неизбежных потерь – на русских. Во всяком случае, Пентагон стоял на позиции, что Корея не представляет долгосрочного стратегического интереса для Штатов.
Однако всего три недели спустя их взгляд на Корею кардинально изменился. Две атомные бомбы, взорванные в Хиросиме и Нагасаки 6 и 9 августа, вынуждали Японию сдаться. Советская Красная армия ломилась через Маньчжурию, встречая ожесточенное сопротивление Квантунской армии. Вот тогда Вашингтон и пересмотрел свои представления о том, насколько желательно и целесообразно будет отдать Советам изрядный кусок Кореи. Поздним вечером 10 августа 1945 года, через сутки с небольшим после бомбардировки Нагасаки, Координационный комитет Госдепартамента, Военного и Военно-морского министерств спешно вынес единодушное решение: Соединенные Штаты должны участвовать в оккупации Кореи. Два офицера, составлявших проекты указов комитета, вгляделись в мелкомасштабную настенную карту Дальнего Востока и заметили, что 38-я параллель делит страну почти пополам. К югу от этой черты располагалась столица, лучшие предприятия сельского хозяйства и легкой промышленности, а также больше половины населения. Некоторые члены комитета, в том числе Дин Раск, будущий госсекретарь США, высказали соображение: если русские это предложение отвергнут, Красная армия, пробравшись на юг через Маньчжурию, успеет захватить всю Корею, прежде чем передовые американские отряды высадятся в Инчхоне. В эти недели, на фоне первых нерешительных стычек начинавшейся холодной войны, внезапное предложение американцев о раздельной оккупации Кореи послужило пробным шаром для проверки планов СССР, касающихся Дальнего Востока.
К облегчению комитета, русские без всяких возражений согласились ограничить свое продвижение 38-й параллелью. Красная армия добралась до этого рубежа почти за месяц до того, как в Южной Корее должны были высадиться первые американцы, и там остановилась. Стоит отметить: если бы Москва отклонила американский план и оккупировала Корею целиком, вряд ли американцы смогли бы или стали бы форсировать решение дипломатического вопроса. Ни для той ни для другой стороны в этот период полуостров сам по себе интереса не представлял – он был важен только как способ прощупать взаимные намерения. Начиналась серьезная борьба за политический контроль над самим Китаем. По сравнению с определявшимися сейчас судьбами и границами великих стран Корея почти ничего не значила. Сталин вполне удовлетворился половиной. Ни разу за все пять последующих лет СССР не выказал желания поставить на кон власть и престиж Москвы в прямом состязании с американцами за распространение советского влияния к югу от 38-й параллели.
Так в конце августа 1945 года XXIV корпусу армии США, включая и ветеранов, у которых за плечами был не один месяц отчаянных боев на Тихом океане, и зеленое пополнение прямо из тренировочного лагеря, поступил расстроивший их приказ отправляться не на родину, по которой они истосковались, а в неведомую Корею. Как там вести себя, их не особенно инструктировали. Их командир, генерал Джон Ходж, получил в своем штабе в Окинаве лишь серию телефонограмм, которые только запутывали дело. Четырнадцатого августа генерал Стилуэлл сообщил ему, что оккупацию можно расценивать как «наполовину дружественную» – иными словами, противниками ему надлежит считать лишь незначительное меньшинство коллаборационистов. В конце месяца Верховный главнокомандующий, сам генерал Макартур, постановил, что к корейцам следует относиться как к «освобожденному народу». Координационный комитет Государственного департамента, Военного и Военно-морского министерств прислал из Вашингтона в Окинаву спешное распоряжение, предписывающее Ходжу «сформировать правительство в соответствии с политикой США». Отлично, понять бы еще, в чем состояла эта политика по отношению к Корее. Поскольку Госдепартамент не знал об этой стране почти ничего, кроме того, что ее националисты жаждут независимости и единства, сообщить Ходжу им было практически нечего. И генерал, как человек военный и прямой, попытался подойти к решению проблемы прямолинейно и по-деловому. Четвертого сентября он проинструктировал своих офицеров рассматривать Корею как «противника Соединенных Штатов», на которого распространяются условия капитуляции Японии. Восьмого сентября, когда американскому оккупационному конвою оставалось до Инчхона еще двадцать миль по Желтому морю, к нему подошло небольшое судно с тремя элегантно одетыми мужчинами на борту, которые отрекомендовались генералу представителями «корейского правительства». Ходж послал их куда подальше, как и всех остальных встреченных по прибытии корейцев, заявлявших о наличии у них мандата. Двадцать четвертый корпус намеревался взять страну под контроль и этот контроль удерживать. Армия США, разумеется, не желала связываться ни с какой из десятков враждующих местных политических группировок, которые в первые же дни после освобождения бросились возводить собственные силовые базы на обломках рухнувшей японской империи.
Передовой отряд из четырнадцати человек – первых прибывших в Сеул американцев – был очарован и ошеломлен тем, что обнаружил в городе. Повсюду конные повозки, лишь изредка протарахтит мимо какая-нибудь колымага на угле. В одной лавке они увидели трех европейцев и поспешили познакомиться, но те оказались турками из местной диаспоры, по-английски не знающими ни слова. Еще им встретились русские, бежавшие в Корею в 1920 году. Эти начали с довольно бестактного «Sprechen sie Deutsch?»[15] Человека, владеющего английским, американцы все же нашли – это был местный японец, до войны поживший в Штатах. Его жена, желавшая, как и все японское сообщество, подольститься к новым властям, уговорила их взять пирог и два фунта настоящего сливочного масла – ничего подобного они не ели уже много месяцев. Той ночью они спали на полу сеульского почтамта. Наутро их перевели в штаб, расположенный в отеле Banda[16][17].
За последующие дни крупные подразделения XXIV корпуса высадились в Инчхоне и разъехались на грузовиках и поездах по всей стране, чтобы занять позиции от Пусана до 38-й параллели. Поначалу генерала Ходжа и его штаб озадачила шумиха, которую незнакомые им корейцы устроили, соперничая за их политическое внимание, и насторожили беспорядки в провинциях, грозившие перерасти в серьезные бунты, если не принять меры. Дело осложнялось и тем, что никто из встреченных ими корейцев не говорил по-английски, а единственный представитель штаба, объясняющийся на корейском, коммандер Уильямс из ВМС США, владел им не в том объеме, чтобы вести переговоры.
Во всей этой неразберихе и неопределенности оккупационные силы сумели выявить только один стабилизирующий фактор, на который можно было опереться. Японцев. Без них Ходж со товарищи на этом начальном этапе не справились бы. Одна из первоочередных мер, принятых американским командующим, заключалась в том, чтобы до поры до времени оставить японских колониальных чиновников на прежних местах. Японский оставался основным языком общения. За поддержание закона и порядка по-прежнему отвечали в первую очередь японские военные и полиция. Макартур уже 11 сентября проинструктировал Ходжа немедленно отстранить японских чиновников от должностей, но даже когда их действительно начали снимать, многие сохраняли влияние еще не одну неделю как неофициальные советники американцев.
В результате через считаные дни после первой встречи освободителей и освобожденных патриотически настроенные корейцы с возмущением наблюдали откровенное сотрудничество японских и американских офицеров и уважение, с которым относились друг к другу бывшие враги, контрастировавшее с едва скрываемым презрением к корейцам. «Очень похоже, что с самого начала многим американцам японцы просто нравились больше корейцев, – пишет ведущий американский специалист по этому периоду. – Японцев считали сговорчивыми, дисциплинированными и послушными, в отличие от своенравных, необузданных, строптивых корейцев»[18]. Американцы не подозревали – или делали вид, будто не подозревают, – о том, что успели натворить японцы за три недели между официальной капитуляцией и прибытием XXIV корпуса: о разграблении складов, методичном подрыве экономики за счет печатания обесцененной национальной валюты, о продаже всех доступных недвижимых активов.
Следующему поколению, осведомленному о бесчинствах японцев во Второй мировой, может показаться невероятным, что американцы с такой готовностью солидаризировались со своими врагами, – не менее невероятным, чем поведение союзных разведслужб в Европе, привечавших и вербовавших бывших гестаповцев и военных преступников-нацистов. Однако удивляться не стоит. Самый глубокий отпечаток, который оставляет война у большинства ее переживших, – пошатнувшаяся вера в абсолютные нравственные ценности и чувство общности с теми, кто через нее прошел, даже если это враг. Бойцы всех армий, которым довелось уцелеть к окончанию войны, испытывали огромное облегчение и инстинктивное нежелание еще кого-то убивать, даже ради справедливого возмездия. Кроме того, у некоторых крупных фигур в американских вооруженных силах – особенно выделялся в этом отношении Паттон – стремительно росло подозрение, что эти четыре года они сражались не с тем врагом. Маккартизм тогда еще не зародился. Но восприятие коммунизма как зла было очень сильным и в сознании многих уже перевешивало отвращение к нацизму или японскому империализму. В Токио этот невероятный пример послевоенного примирения с побежденным врагом подавал сам Верховный главнокомандующий армии США. В Сеуле осенью 1945 года генералу Ходжу и его команде оказалось куда удобнее иметь дело с дисциплинированными и исполнительными коллегами-военными, пусть и недавними врагами, чем с грызущимися между собой анархистами-корейцами. У старших офицеров XXIV корпуса не было ни подготовки, ни опыта гражданской государственной службы – они были просто кадровыми военными, которым пришлось импровизировать на ходу. В свете последующих событий их ошибки и политическая бестолковость оставили нелестный для них след в истории. Но справедливости ради нужно отметить, что в этот период множество точно таких же ошибок совершали по всему миру их коллеги из союзных армий.
Пятнадцатого сентября политический советник Ходжа из Госдепартамента Мерелл Беннингхофф докладывал в Вашингтон:
Южную Корею можно назвать пороховой бочкой, которая готова взорваться от малейшей искры. Наблюдается сильное разочарование в том, что страна не получила независимость немедленно и японцев еще не выгнали. Однако, несмотря на острую ненависть корейцев к японцам, маловероятно, что они прибегнут к насилию, пока страна находится под надзором американских войск… ‹…› С точки зрения завоевания общественных симпатий желательно уволить японских чиновников, и в то же время осуществить это нелегко. Можно уволить их номинально, однако фактически работу они должны продолжать. У корейцев квалификации хватит разве что на низшие должности, будь то в правительстве или в жилищно-коммунальных службах и связи[19].
Давление на американцев в Корее, вынуждавшее их отказаться от помощи новообретенных японских союзников, стало непреодолимым. За четыре месяца 70 000 японских колониальных госслужащих и более 600 000 японских военных и гражданских отправили морем на родину. Многих вынудили покинуть дома, фабрики, оставить имущество. Но американо-корейские отношения уже были подорваны. Лейтенант ВМС США Феррис Миллер, который был одним из первых высадившихся в Корее американцев и впоследствии связал всю свою жизнь с этой страной, высказался так: «Наше непонимание настроений местного населения в отношении японцев и собственное слишком плотное взаимодействие с ними были в числе самых дорогих ошибок, которые мы когда-либо совершали там»[20].
В первые месяцы после высылки японцев их в качестве сотрудников американского военного правительства сменили те корейцы, которые в большинстве своем были давними коллаборационистами и вызывали презрение у соотечественников за прислуживание колониальным властям. Один занимавший в то время высокий пост американец характеризовал своих коллег так: «Вопиющее невежество в отношении Кореи и всего корейского, косность военной бюрократии и стремление немногих высококвалифицированных корейцев держаться от нее подальше: они не могли позволить себе ни ассоциироваться с таким непопулярным правительством, ни работать за предлагаемые им гроши»[21].
До принудительной высылки японцы всеми силами старались предостеречь американцев от всепроникающего влияния коммунизма в только еще формировавшихся политических группировках Южной Кореи. Предостережения упали на плодородную почву. Глядя на происходящее в Европе, оккупационное правительство охотно верило, что у истоков политических беспорядков стоят коммунисты, а их ячейки работают вовсю, стремясь перехватить управление страной. Беннингхофф докладывал: «Коммунисты ратуют сейчас за конфискацию японской собственности и могут стать угрозой закону и порядку. Вполне вероятно, что хорошо обученные агитаторы намеренно пытаются создать сумятицу и хаос на нашей территории, чтобы склонить корейцев отвергнуть Соединенные Штаты ради советской “свободы” и контроля»[22].
Главными проигравшими в разворачивающемся политическом состязании, которое должно было выявить, кто из корейцев сможет показать себя наиболее враждебным коммунизму и наиболее симпатизирующим идеалам Соединенных Штатов, стали члены так называемой Корейской Народной Республики – КНР. В 1945 году выражение «народная республика» еще не имело в Корее того уничижительного оттенка, который оно обретет довольно скоро. КНР представляла собой объединение националистов и значимых участников антияпонского сопротивления, которые до прибытия американцев попытались застолбить себе место у руля. Более половины из восьмидесяти семи руководителей, выбранных 6 сентября в Старшей женской школе Кёнги на собрании из нескольких сотен человек, при японцах сидели в застенках. Кроме того, по крайней мере половину из них можно было отнести к левым или коммунистам. Влиятельным изгнанникам, таким как Ли Сын Ман, Му Чжон[23], Ким Гу и Ким Ир Сен, места в правительстве отвели заочно, хотя мало кто из перечисленных впоследствии занял те должности, на которые их прочили. Важно отметить, что представители правых сил в руководстве КНР были в среднем лет на двадцать старше левых.
Неудивительно, что явившиеся на полуостров американцы ничего не знали о КНР. Хаотичную борьбу за заполнение политического вакуума в Корее еще больше запутывало прибытие из Чунцина самопровозглашенного Временного правительства Республики Корея – объединения, в которое входили в изгнании некоторые из выдвинутых на должности в руководстве КНР. В последующие недели скептицизм военного правительства по поводу КНР, энергично подогреваемый японцами, только нарастал. Здесь мы наблюдаем немалое сходство с отношением Запада к Хо Ши Мину и его коллегам во Вьетнаме в тот же период. Они не попытались внимательнее приглядеться к коммунистической идеологии левых; выяснить, в какой мере это ставленники Москвы, а в какой – просто неопределившиеся социалисты и националисты, не желающие терпеть традиционный помещичий уклад. Никто не учитывал и авторитет, который коммунисты заработали благодаря главенствующей роли в вооруженном сопротивлении японцам. Ходж и его правительство не видели никакой доблести в воинствующем национализме КНР – для американского военного правительства он был только помехой. Было бы наивно полагать, что такое объединение, как КНР, могло сразу сформировать гармоничное руководство для независимой Кореи: слишком много непримиримых фракций было в этом объединении. И все же именно они и были настоящими представителями мнения корейской националистической общественности, когда-либо собиравшейся под одной крышей, пусть и ненадолго. При наличии времени и поддержки они могли бы предложить Южной Корее наилучшие перспективы построения подлинной демократии.
Но резкий тон по отношению к американскому военному правительству со стороны КНР привел к тому, что объединение очень скоро стали воспринимать как угрозу и проблему. «Имеются данные [писал Беннингхофф 10 октября], что эта группа [КНР] получает поддержку и указания из Советского Союза (возможно, от корейцев, прежде живших в Сибири). В любом случае эта партия самая агрессивная из всех; в своей газете они сравнивают американские методы оккупации [с русскими] не в пользу Соединенных Штатов, насколько можно судить по манере изложения»[24].
Ходжу и его советникам гораздо больше импонировала другая группа, способная завоевать гораздо меньше политической поддержки, чем могла получить КНР: «…так называемая демократическая или консервативная группа, в составе которой насчитывается немало профессиональных руководителей и учителей, обучавшихся в Соединенных Штатах или в американских миссиях в Корее. В своих задачах и политике они демонстрируют стремление следовать принципам западной демократии и почти единодушно желают скорейшего возвращения доктора Ли Сын Мана и “временного правительства” из Чунцина»[25]. Не прошло и трех недель после высадки американцев в Корее, а официальные круги в Сеуле уже сосредоточились на создании нового правительства для Юге, построенного вокруг личности одного из одного из самых известных изгнанников страны.
Ли Сын Ман родился в 1875 году в семье обедневшего дворянина. Прежде чем начать изучать английский в колледже, он несколько раз проваливал экзамен на государственную службу. Затем был осужден за политическую деятельность и с 1899 по 1904 год находился в заключении. Освободившись, уехал в Соединенные Штаты и учился там несколько лет, по прошествии которых получил степень магистра искусств в Гарварде и Ph.D. в Принстоне. После краткого визита на родину в 1910 году Ли Сын Ман снова уехал в Америку. Там он оставался следующие тридцать пять лет, неустанно лоббируя американскую поддержку независимости Кореи и делая это на пожертвования корейских патриотов. Даже если кто-то из соотечественников и порицал его за себялюбие, бесконечную саморекламу, уклонение от вооруженной борьбы, в которой участвовали другие отважные националисты, не отдать должное его невероятной целеустремленности было невозможно. За все годы, проведенные в Соединенных Штатах, Ли Сын Ман ничего не усвоил и ничего не забыл. Железная воля служила ему одинаково безжалостным орудием и в борьбе с соперничающими фракциями соотечественников-изгнанников, и в борьбе с колониальной оккупацией. Он мог похвастаться даром предвидения в своих представлениях о мире. Еще в 1944 году, когда правительство США тешило себя разного рода иллюзиями по поводу послевоенных перспектив гармоничного сотрудничества со Сталиным, Ли Сын Ман говорил чиновникам в Вашингтоне: «Единственная возможность избежать в конечном счете конфликта между Соединенными Штатами и Советским Союзом – повсеместно создавать демократические, некоммунистические элементы»[26].
Долгое отсутствие на родине дало Ли Сын Ману одно важное преимущество: многие его соперники ненавидели друг друга не меньше, чем японцев, но к Ли Сын Ману им практически не в чем было придраться. Он не запятнал себя коллаборационизмом. В то время как американцам нелегко было постичь корейскую культуру и общество, Ли Сын Ман был вполне понятной фигурой: он непринужденно вел светские беседы о демократии, со знанием дела рассуждал об Америке и американских институтах, а самое главное – свободно владел английским. Ли Сын Ман был язвительным, колючим, непримиримым. Но Ходжу и его советникам этот одержимый, не знающий жалости националист и антикоммунист казался вполне подходящей кандидатурой на роль отца-основателя новой Кореи. Двадцатого октября генерал присутствовал на официальной церемонии встречи американцев в Сеуле, организатором которой выступила партия, называвшаяся демократической (КДП), а в действительности бывшая крайне консервативной группировкой. На платформе перед собравшимися стояла одна только большая ширма из эбенового дерева, инкрустированная перламутром. В самый торжественный момент ширма была театрально отодвинута в сторону – и перед корейским народом предстал сухопарый, полный достоинства доктор Ли Сын Ман. Толпа взревела от восторга и взорвалась аплодисментами. Ли Сын Ман произнес пламенную антисоветскую речь и обескуражил даже своих покровителей, обвинив Америку в соучастии оккупации Севера Советами. Вот так триумфально началась карьера самого знаменитого – или одиозного – южнокорейского политика.
Крупнейшим козырем Ли Сын Мана была очевидная поддержка американцев. Роджер Мейкинс, бывший на начальном этапе холодной войны сотрудником британского Министерства иностранных дел, отмечал присущую американцам «склонность делать ставку не на движение, а на личность – Жиро у французов в 1942 году или Чан Кайши в Китае. Американцам всегда нравилось иметь дело с таким зарубежным руководителем, которого можно было считать “своим”. А с движениями им несподручно»[27]. Именно так получилось и в Корее с Ли Сын Маном.
В азиатском обществе, где политикой часто движет инстинктивное желание примкнуть к сильнейшим, поддержка со стороны военного правительства послужила решающим фактором для прихода Ли Сын Мана к власти. Отождествляя Ли Сын Мана с корейским «временным правительством» в Чунцине, Беннингхофф легкомысленно упустил из вида открытую вражду между ним и этой группировкой, не утихавшую уже двадцать лет, притом что Ли Сын Ман все это время не переставал называть себя представителем «временного правительства» в Вашингтоне. Госдепартамент, давно и близко знакомый с Ли Сын Маном, считал его опасным смутьяном. Возвращение Ли Сын Мана в Сеул до сих пор окутано тайной. Военное правительство категорически отрицало не только причастность к этому событию, но и в принципе осведомленность о нем. Однако все имеющиеся у нас сейчас данные говорят о том, что генерал Ходж со своими подручными участвовали в тщательно срежиссированном тайном плане по возвращению Ли Сын Мана, несмотря на отказ Госдепартамента выдать ему паспорт. Бывший заместитель директора Управления стратегических служб в период Второй мировой, некий Престон Гудфеллоу, добился, чтобы Госдепартамент все-таки оформил Ли Сын Ману необходимый документ. Судя по всему, без коррупции тут не обошлось. Ли Сын Ман познакомился с Гудфеллоу во время войны, создав у американца ложное впечатление, будто может обеспечить агентов для операций в японском тылу. Можно почти наверняка утверждать, что после войны Гудфеллоу помогал Ли Сын Ману и собирал для него средства в обмен на обещание торговых концессий в Корее после прихода доктора к власти. В Сеул южнокореец улетел на одном из самолетов Макартура. Несмотря на решительные опровержения со стороны армии США на Дальнем Востоке, представляется вероятным, что во время пересадки в Токио он тайно встречался и с Верховным главнокомандующим, и с Ходжем. Они определенно хотели видеть его во главе корейского гражданского правительства.
Почему Вашингтон, не строивший иллюзий в отношении Ли Сын Мана, просто не призвал к прекращению политики, проводимой в Сеуле? Джон Картер Винсент, заведующий Дальневосточным отделом Госдепартамента США, намеревался, собственно, напомнить Военному департаменту, что Соединенные Штаты стремятся не принимать ничью сторону в корейской политике и тем более не продвигать конкретные фракции. Однако на его меморандум от 7 ноября, посвященный этим проблемам, откликнулся помощник военного министра Джон Макклой, чей ответ, как никакой другой документ того периода, объясняет ход событий в послевоенной Корее:
На мой взгляд, меморандум Винсента по большому счету обходит вниманием по-настоящему безотлагательные вопросы, которые нам придется решать в Корее… ‹…› Генерала Ходжа, как я уяснил из разговора с ним, беспокоит вероятность прямого захвата коммунистами власти на нашей территории. Если это произойдет, наше намерение позволить корейскому народу свободно выбирать форму государственного правления окажется под серьезной угрозой. Не вызывает сомнений, что на нашей территории ведется активная и грамотная коммунистическая работа… ‹…› Представляется, что наилучшим способом решения этой проблемы в целом является создание своими силами разумного и респектабельного правительства или группы советников, которые под руководством генерала Ходжа смогут навести некоторый порядок в этом политическом, общественном и экономическом хаосе, что царит сейчас к югу от 38-й параллели, и тем самым подготовить почву для последующих когда-нибудь по-настоящему свободных и добровольных народных выборов… ‹…› Возвращаясь к меморандуму Винсента: разве это не просьба, по сути, сообщить Ходжу, что в действительности мы не особенно ему доверяем, что мы не готовы позволить ему сделать то немногое, что он в данный момент – и в какой момент! – считает способствующим достижению наших целей? Предлагаю не только выяснить его взгляды на проблему с коммунистами и его соображения относительно того, как помешать им разрушить наши планы, но и позволить ему привлекать для своих нужд сколько угодно опальных корейцев, положившись на его стремление держаться в рамках благоразумия[28].
Аргументация Макклоя, которая послужит оправданием всему, что будет делаться в Корее в ближайшие три года, сводилась к следующему: полагать, будто Соединенные Штаты могут сохранять нейтралитет, выступая просто наблюдателями со стороны, пока корейцы сами решают свою судьбу, – это утопия. Нужно вычленить из толпы противоборствующих фракций отдельных лидеров и помочь им завоевать и сохранить власть. И разумеется, виднее всего, кого из корейцев таким образом отметить, должно быть находящимся на месте – то есть Ходжу и его людям. Ни к каким дальнейшим уловкам, чтобы приукрасить действия, направленные на установление подходящего им режима, американское военное правительство уже не прибегало. Поскольку русские в этот период обеспечивали контроль над Северной Кореей в интересах коммунистического режима, единственным критерием, по которому американцы намеревались отбирать будущих глав Южной Кореи, было неприятие коммунизма и желание вести бизнес с Америкой.
Этот взгляд на американскую политику может показаться чересчур упрощенным, однако и сама политика была проще некуда. В октябре 1945 года американцы учредили при своем военном губернаторе генерал-майоре Арнольде корейский совещательный орган – палату советников, куда вошло одиннадцать человек. Хотя номинально в нем был представлен весь южнокорейский политический спектр, в действительности от левого фланга там числился лишь один кандидат – Ё Ун Хён. Поначалу он не хотел иметь никакого отношения с палатой, презрительно заявляя, что само ее создание «переворачивает с ног на голову представление о том, кто в Корее хозяева, а кто – гости». Потом, уступив личной просьбе Ходжа поучаствовать, Ё Ун Хён окинул взглядом собравшихся на первое заседание палаты – и вышел вон. Позже он спросил у Ходжа, готов ли тот назвать хоть сколько-нибудь представительным собрание, почти полностью состоящее из одних консерваторов. Одиннадцатый кандидат – известный националист по имени Чо Ман Сик, работавший на Севере, – не потрудился явиться в принципе.
Палата была обречена с самого начала. Большинству корейцев она слишком живо напоминала о недавнем колониальном опыте: ее председатель прежде был членом совещательного органа при японском генерал-губернаторе и активно поддерживал военные действия Японии. Тем не менее «несговорчивость» Ё Ун Хёна в сравнении с «готовностью сотрудничать» консерваторов, вступивших в созданный совет, укрепила уверенность американцев в том, что работать нужно именно с консерваторами, прежде всего с членами Корейской демократической партии. Но как теперь быть с действительным положением дел в сельской местности – ведь, в отличие от КНР, которая, согласно поступавшим Ходжу докладам, представляла собой «высокоорганизованную структуру на всех уровнях», КДП «в большинстве мест была плохо организована или вообще не организована»?[29]
Ходж на это ответил, что с КНР нужно бороться и уничтожить ее, чтобы тем самым обеспечить КДП возможность выжить и расти. Десятого ноября в качестве предупреждения всей корейской прессе была закрыта самая крупная сеульская газета, сочувствующая КНР, – якобы за нарушения в бухгалтерской отчетности. Двадцать пятого ноября Ходж телеграфировал Макартуру о намерении выступить против КНР: «Это будет по сути равнозначно “объявлению войны” коммунистическим элементам в Корее и может вылиться во временные беспорядки. Посыплются обвинения в политической дискриминации в “свободной” стране – и от местных розовых, и от розовой прессы. Если Корейская народная республика продолжит свою деятельность как ни в чем не бывало, готовность к независимости для Кореи отодвинется на долгий срок. Прошу прокомментировать». Макартур, как и Макклой до него, ответил просто, подтвердив абсолютную свободу действий для Ходжа: «Руководствуйтесь собственными соображениями… ‹…› Я недостаточно знаком с положением дел на местах, чтобы осмысленно вам советовать, но поддержу все, что вы сочтете нужным предпринять»[30].
Всю зиму 1945/46 года военное правительство вело кампанию по подавлению и КНР, и поднимающих голову профсоюзов, которые считались очагом подрывной деятельности коммунистов. Однако в процессе этой борьбы уже назревала новая конфликтная ситуация. В приступе благонамеренного реформаторского рвения сразу после прибытия американцы сильно облегчили обременительные условия землепользования для крестьян-арендаторов – крайне популярный шаг – и сняли ограничения с торговли рисом. Традиционное избыточное производство риса всегда было опорой корейской экономики[31]. Но американцы своими мерами, пусть и принятыми из лучших побуждений, вызвали волну спекуляций и барышничества в невиданных для страны масштабах. Всего за год, прошедший с сентября 1945-го, цена бушеля риса взлетела с 9,4 иен до 2800. Чиновники сколачивали огромные состояния на контрабанде и спекуляции рисом. К февралю 1946 года пришлось не только отменить свободную торговлю рисом, но и ввести строгое нормирование. От крестьян требовали сдачи урожая по жесткой квоте, за исполнением следила местная полиция и чиновники.
Зимой 1945 года правившие в Южной Корее американцы уже не тешили себя иллюзиями, будто приближаются к созданию упорядоченного демократического общества. Они понимали, что руководят неспокойной, несчастной страной, в которой назревают серьезные беспорядки. Они видели, что жажда единства и независимости страны у корейцев сильнее любой другой идеологии и настроений. Они чувствовали, что бессистемная политика военного правительства, контрастирующая с последовательной, хотя и безжалостной социализацией, происходящей к северу от 38-й параллели, могла только усилить преклонение Кореи перед Советским Союзом и еще больше снизить популярность Америки. Шестнадцатого декабря Ходж отослал Макартуру в Токио пессимистичный доклад, который затем лег на стол президенту Трумэну. Краткое изложение ситуации, в которой он находился, Ходж подытожил так: «В сложившихся обстоятельствах, если не последует никаких корректирующих действий, я позволю себе рекомендовать всерьез задуматься о соглашении с Россией, обязывающем ее и США одновременно вывести войска из Кореи, чтобы предоставить корейцев самим себе и дождаться самоочищения страны посредством неизбежного внутреннего переворота»[32].
Ходж и его коллеги взваливали всю непомерную вину за свои трудности на русских – на проводимую под руководством Советов внутреннюю политику на Севере и на умелую подрывную деятельность на Юге. Американцы видели руку Москвы в целом ряде южнокорейских политических группировок. Но они сильно переоценивали и желание, и возможности Советов вмешиваться в дела на Юге в этот период. Коммунисты в обеих частях Кореи, безусловно, желали бы объединить страну под своим началом. Но и многие корейские некоммунисты, активно ратуя за объединение, вызывали у американцев неприятие – просто потому, что Ходж и его соратники полагали, будто иначе как под властью коммунистов объединение недостижимо. Американское военное правительство в Корее – как и его аналоги в других регионах мира в этот период – отказывалось видеть, что его собственные манипуляции консервативными силами ничем не отличаются в нравственном и политическом отношении от советского руководства коммунистическими объединениями в «советской» зоне. Либеральный взгляд на историю в конечном счете признает благотворность американского влияния на послевоенное политическое урегулирование в развитых странах, прежде всего европейских, оказавшихся под контролем Америки. Но в Корее, как и во многих других менее развитых странах, трудно было найти какое-либо перспективное антикоммунистическое руководство, обладающее преданностью идеалам и приверженностью приемлемым нравственным и политическим принципам, которые сделали бы его достойным поддержки Соединенных Штатов.
Двадцать седьмого декабря 1945 года Совещание министров иностранных дел трех союзных держав в Москве завершилось подписанием важного соглашения. Русские приняли предложение американцев по Корее: на следующие пять лет она переходила под четырехстороннюю «международную опеку», призванную обеспечить ее восстановление как независимого единого государства. Соглашаясь на опеку четырех стран, Москва шла на уступку, поскольку такая опека мешала Корее немедленно приступить к построению коммунизма. Скорее всего, русские предполагали, что левый фланг в Корее достаточно силен, чтобы в конце концов добиться победы своими силами при любом раскладе. Однако, помимо этого, Московские соглашения демонстрировали, как мало в тот момент значила для Сталина Корея. Он хотел развеять опасения Запада относительно своих притязаний на Дальнем Востоке, надеясь, вне всякого сомнения, что за это Вашингтон не так настойчиво будет противодействовать политике Советов в Европе.
В течение нескольких недель после московской встречи в Южной Корее происходили политические потрясения. Правофланговые фракции яростно выступали против перспективы опеки, подкрепляя свое неприятие забастовками и демонстрациями. Не менее бурно выражали недовольство Ходж и его советники, которые гневно осуждали неизвестных «экспертов» Госдепартамента, заключивших соглашение с Советами. Двадцать восьмого января генерал в знак протеста подал заявление об отставке. Заявление отклонили. Более того, в Вашингтоне идеи Ходжа и его группы воспринимались все более благосклонно. В феврале в Корею собственной персоной наведался проницательный дипломат Эверелл Харриман и по возвращении самым лестным образом отозвался о «способностях и дипломатии» Ходжа. Теперь сами американцы вывернули собственное предложение наизнанку и, по сути, отозвали свое согласие на него. После совещания в Москве президент Трумэн пришел к убеждению, что госсекретарь Бирнс пошел на чрезмерные уступки, что настало время занять твердую позицию по поводу экспансионизма Советов и что необходимо дать отпор Сталину на нескольких решающих фронтах. И Корея была признана одним из главных. Вся Азия понимала, что за борьба сейчас ведется на полуострове. «Корейский вопрос, – говорилось в передовице китайской газеты “Та Кун Пао”, – это, по сути, арена столкновения непримиримых политических сил – русских и американцев, борющихся за господство».
Новое предложение Ходжа заключалось в том, чтобы поскорее создать в Корее отечественный законодательный орган – прежде, чем состоится первое заседание Совместной американо-советской комиссии, призванной следить за исполнением договоренностей по опеке. Четырнадцатого февраля в здании сеульского Капитолия состоялось первое заседание Демократического совета граждан Кореи. Из двадцати восьми его участников двадцать четыре принадлежали к правым политическим партиям. Ли Сын Ман заявил: «Отныне и впредь Совет будет представлять корейский народ во взаимоотношениях с генералом Ходжем и военным правительством». Хотя и ограниченный в своих полномочиях, Совет все же предложил американцам кандидатуры приемлемых корейских лидеров, которых можно было противопоставить коммунистической верхушке под предводительством Ким Ир Сена, формируемой руками СССР на Севере. Двадцатого марта, когда Совместная комиссия приступила к работе, каждая из участниц сосредоточила основное внимание и претензии на том, что ее сторонникам в зоне ответственности второй участницы предоставляется недостаточно возможностей для ведения политических кампаний.
Теперь американцы взяли курс, с которого их уже не собьют: ускоренными темпами создать в Южной Корее внушающий доверие правительственный аппарат, способный послужить оплотом против коммунистического Севера. Двенадцатого декабря 1946 года состоялось первое заседание Временного законодательного собрания Южной Кореи, среди участников которого вновь преобладали правые – настолько, впрочем, непреклонные, что первые сессии они бойкотировали в знак протеста против вмешательства американцев в выборы – безрезультатного, впрочем – с целью предотвратить подтасовки голосов со стороны крайне правых. Центральный орган власти – Временное правительство Южной Кореи – находился под контролем растущего корпуса корейских чиновников. В 1947 году случайная выборка из 115 чиновников показала, что 70 состояли на государственной службе при японцах. Только за одиннадцатью числилась какая-либо антияпонская деятельность в корейский период.
Подозрения многих корейских националистов относительно действий американского военного правительства удвоились, когда национальную полицию – самое ненавистное орудие японской тирании – не только не упразднили, но и усилили. Официальные американские историки, писавшие об оккупации, сами отмечали, что «объем функций и широта полномочий, которыми была наделена японская полиция в Корее, мало найдет аналогов в странах современного мира»[33]. Двенадцать тысяч состоявших в ее рядах японцев были отправлены домой. Но оставшиеся 8000 корейцев – верные слуги жестокой тирании, при которой основными инструментами власти были пытки и узаконенные убийства, – пошли на повышение и продвинулись по служебной лестнице, а общая численность полиции в Южной Корее увеличилась вдвое. Получив американское оружие, внедорожники и радиопередатчики, полиция стала главным исполнительным органом американского военного правительства и его основным источником политических разведданных. Сколько было в ней таких, как И Гу Бом, один из самых одиозных полицейских при японском режиме, в августе 1945 года опасавшийся за свою жизнь, а год спустя уже заправлявший одним из крупных полицейских участков в Сеуле… Целая плеяда палачей и борцов с национализмом, отличившихся при колониальном режиме, оказалась на беспрецедентно высоких должностях. В 1948 году 53 % начальствующего состава и 25 % рядовых полицейских прошли подготовку при японцах. По иронии судьбы при формировании полицейских сил, из которых затем вырастет южнокорейская армия, американцы не допустили до службы ни одного из тех, кого сажали в тюрьму японцы, а следовательно, никого из участников антияпонского сопротивления. Первым начальником штаба южнокорейской армии в 1947 году стал бывший полковник японской армии.
Типичным продуктом этой системы был Пэк Сон Ёп, который в войне 1950–1953 годов покажет себя одним из немногих компетентных военных армии Ли Сын Мана и станет начальником штаба, когда ему будет едва за тридцать. Сын северокорейского землевладельца, он отучился в престижной Пхеньянской старшей школе, а затем в Мукденской военной академии и в юности служил офицером в японской армии в Маньчжурии. «Мы вообще не думали ни о каком японском влиянии, – пожимал он плечами годы спустя. – В молодости все принимаешь как должное. В то время японцы были номером один. Они побеждали. Никаких британцев или американцев мы в глаза не видели»[34]. Под конец Второй мировой подразделение Пэка сражалось с русскими. До дома он добирался месяц – пешком. Коммунистический режим в том виде, в каком его насаждали на Севере, Пэк очень быстро невзлюбил и 28 декабря 1945 года перебежал через проходящую по 38-й параллели границу на Юг, оставив на Севере жену. Она перебралась к нему позже. Два месяца спустя он поступил в военно-полицейские формирования лейтенантом. Дальше он быстро рос по службе и стал сначала начальником разведуправления в зачаточной южнокорейской армии, а за несколько недель до вторжения в 1950 году – командиром дивизии. Достигнуть таких высот, не демонстрируя абсолютную приверженность режиму Ли Сын Мана и всему, что он подразумевал, было невозможно. Но в своей основе любое азиатское общество проникнуто инстинктивным стремлением служить сильнейшему. Поэтому Пэка можно упрекнуть самое большее в том, что он был жестким и честолюбивым продуктом своей среды.
Тем не менее среди молодых южнокорейцев нашлось немало тех, кто открыто выражал враждебное отношение к Ли Сын Ману – и поплатился за это. Многие угодили за решетку, еще больше перешли в разряд «нелюдей». Сын сеульского банковского служащего Мин Пхён Гю в 1946 году поступил на медицинский факультет, но в 1948 году его оттуда исключили за принадлежность к студенческой организации левого толка. «В нашей стране в то время возник интеллектуальный вакуум, – говорит он. – Все интересные книги поступали только из Северной Кореи, и система распространения у коммунистов работала что надо. Американцев мы считали хорошими людьми, которые просто плохо понимают Корею»[35]. Семья Мин Пхён Гю, состоявшая из восьми человек, жила в благородной бедности. В 1945 году отец потерял работу в горнодобывающей компании, чьи месторождения находились к северу от 38-й параллели. Мин занялся антиправительственной деятельностью: ходил на демонстрации, распространял коммунистические брошюры, по ночам расклеивал политические плакаты. После очередной такой ночи его арестовали и посадили за решетку на десять дней. Руководителей его группы судили и приговорили к длительным срокам заключения, самого Мина выпустили, но исключили из университета, к огромному горю отца. Как сотни тысяч других, Мин отчаянно желал падения Ли Сын Мана.
Другой студент университета, сын землевладельца Кап Чон Джи, относился и к американцам, и к собственному правительству гораздо лучше, чем Мин Пхён Гю. Но и этот на редкость образованный и культурный кореец, как и основная масса народа, очень смутно представлял себе политику собственной страны: «В те времена мы понятия не имели, что такое демократия. Еще долго после прибытия американцев мы не знали, что такое коммунисты и кто такой Ли Сын Ман. Поэтому многие студенты из сельской местности, крестьянские дети, называли себя коммунистами. Политического рвения у них хватало, но и невежества было в избытке»[36]. Корейское общество, прожив вне какой бы то ни было политической системы почти полвека, с трудом приноравливалось к новой. Неудивительно, что разногласия и конфликты в нем оказались довольно примитивными – между имущими и неимущими, между обладавшими привилегиями власти и не обладавшими, между землевладельцами и крестьянами, между интеллектуалами и прагматиками. Цивилизованные политические дебаты были для Южной Кореи недоступной роскошью – впрочем, для Северной тоже.
Феррис Миллер, офицер ВМС, состоявший в передовом отряде, который высадился в Инчхоне в сентябре 1945-го, покинул страну под конец того же года. Однако это был уникум – американец, всем сердцем полюбивший Корею: «Она запала мне в душу. Мне все здесь нравилось – и сама страна, и еда, и люди». В феврале 1947 года он вернулся в Сеул гражданским вольнонаемным сотрудником военного правительства. И пришел в ужас от увиденного:
Все катилось под откос. Ничего не работало – трубы перемерзли, электричество постоянно пропадало. Коррупция цвела пышным цветом. Множество искренних патриотов Юга верили басням, которые скармливал им Север. Отовсюду возвращались на родину корейские изгнанники – из Маньчжурии, Китая, Японии. Туго было всем, даже американцам. В военных магазинах почти шаром покати. Большинство наших просто ненавидели эту страну. Были такие, кто приедет, продержится недельку – и на выход. Корейцы мастерили себе одежду из армейских одеял, на вокзалах толклись беспризорники; на холмах, окружавших Сеул, рубили лес на дрова; транспортная система разваливалась. Паршивые были времена[37].
Точно такую же картину, какую увидел Миллер в Сеуле, можно было наблюдать этой зимой и в Берлине, Вене, Гамбурге – любом разоренном войной городе Европы. Даже в Лондоне и Париже в 1947 году холод и лишения были в порядке вещей. Но если в Европе демократическая политическая жизнь возрождалась с удивительной энергией, то в Южной Корее складывалось коррумпированное в основе своей общество. Американцы передавали бразды правления корейским консерваторам, для которых народная свобода была пустым звуком, а прельщали их только власть и деньги. Управление страной и охрана правопорядка оказались в руках тех, кто охотно служил орудием тирании, с которой мир совсем недавно боролся в глобальной войне. Единственным четким критерием отбора для претендентов на эти должности была враждебность к коммунизму.
В 1945–1947 годах иностранные политические покровители Северной и Южной Кореи получили постоянную опеку над своими протеже. Дальнейшие события описывать уже проще. В сентябре 1947 года, несмотря на протесты СССР, Соединенные Штаты вверили судьбу Кореи Организации Объединенных Наций. Москва сделала Вашингтону предложение, удивительно схожее с тем, которое генерал Ходж выдвигал двумя годами ранее: обе великие державы должны одновременно вывести войска и позволить корейцам самим распоряжаться своим будущим. Русские были уверены – и не без оснований, – что левые силы в обеих Кореях, предоставленные сами себе, одержат верх. Американцы, руководствуясь теми же соображениями, отклонили план Советов. Четырнадцатого ноября Генеральная Ассамблея приняла встречное предложение американцев: в Корее пройдут выборы в правительство под наблюдением ООН, после чего страна получит независимость и все иностранные войска будут выведены. Восточный блок воздержался от голосования по американскому плану, и он был принят при сорока шести голосах за и одном против.
Первое заседание Временной комиссии ООН по Корее состоялось в Сеуле 12 января 1948 года. И СССР, и Северная Корея наотрез отказывались от участия ООН в определении будущего страны. Таким образом, с самого начала стало ясно, что любое решение, выработанное комиссией, будет проводиться в жизнь только к югу от 38-й параллели. Межсессионный комитет Генеральной ассамблеи ломал голову над этой проблемой довольно долго. Доктор Ли Сын Ман отстаивал необходимость безотлагательно провести выборы для той части Кореи, которая к ним готова, и неважно, какую долю страны она сейчас составляет. Но все оппозиционные корейские партии высказывались против выборов, которые будут бойкотировать коммунисты. Во-первых, в ситуации бойкота по-настоящему «свободные» выборы были невозможны, а во-вторых, они на долгие годы, если не навсегда, поставили бы крест на национальном единстве, которого по-прежнему так жаждали многие корейцы. Это было равносильно тому, чтобы официально признать раздел Кореи.
Австралийские и канадские члены Временной комиссии ООН разделяли опасения оппозиции. Но большинство стран-участниц – Франция, Филиппины, Китай под руководством Чан Кайши, Сальвадор, Индия – высказались в поддержку выборов на Юге. Межсессионный комитет согласился, что выборы нужно провести. Предвыборная кампания для первого правительства Южной Кореи проходила на фоне ужесточавшихся политических репрессий. Американский военный губернатор Уильям Дин на вопрос комиссии ООН о политзаключенных ответил так: «Я еще не видел в тюрьме ни одного человека, который сидит за то, что его идеология отличается от идеологии остальных». И тем не менее именно он уполномочил корейскую полицию формировать из группировок «лояльных граждан» «организации охраны общественного порядка». Американцы довольно скоро прозвали их «отрядами головорезов Ли». Назначение у них было откровенно террористическое: извести в Южной Корее не только коммунистов, но и любые группы населения, не сочувствующие правым. За полтора месяца до выборов в ходе беспорядков было убито 589 человек, а 10 000 «обработаны» в полицейских участках.
В день выборов при общей численности населения в 20 миллионов на участки пришло 95 % из зарегистрированных 7,8 миллиона избирателей. Комиссия ООН признала выборы «действительным изъявлением свободной воли народа». Посол США в ООН Джон Фостер Даллес сообщил Генеральной Ассамблее, что выборы «явились великолепной демонстрацией способности корейского народа создать представительное и ответственное правительство». Пятьдесят пять мест из двухсот в новом конституционном собрании Южной Кореи получил «Альянс за скорую независимость Кореи» Ли Сын Мана. Двадцать девять завоевала консервативная демократическая партия «Хангук», оставшиеся две правые партии получили двенадцать и шесть мест соответственно. Таким образом, подавляющее большинство принадлежало правым. Левые бойкотировали выборы. Северокорейцы на приглашение присылать делегатов, как и ожидалось, не откликнулись. Ли Сын Ман со сторонниками учредили президентскую систему правления. Сам Ли стал первым избранным главой Южной Кореи, вступив в должность на торжественной церемонии 24 июля 1948 года. Четырнадцатого августа, в третью годовщину победы над Японией, под завывания большого колокола на улице Чонно над зданием Капитолия в Сеуле был спущен флаг США и поднят флаг новорожденной Республики Корея. Генерал Макартур лично выступил с воинственной речью, в которой заявил корейцам: «Вашу страну разделил искусственный барьер. Этот барьер должен быть разрушен».
Все последующие месяцы Ли Сын Ман насаждал в Южной Корее беспощадную диктатуру. Любого министра, у которого наблюдался хотя бы намек на независимость, снимали с должности. Президент планомерно стягивал полицию и военно-полицейские формирования под личный контроль. Каждая новая манифестация со стороны левых вызывала новую волну репрессий со стороны правительства. Вдоль 38-й параллели то и дело возникали стычки с северокорейскими пограничными отрядами – виноваты в этих столкновениях обе стороны были примерно одинаково. Самые серьезные беспорядки в Южной Корее начались 19 октября 1948 года, когда в Йосу, на юго-западной оконечности полуострова, взбунтовалось армейское подразделение, отправленное подавлять коммунистическое восстание на острове Чеджу. Завоевав поддержку местного гражданского населения призывами покарать репрессивную полицию, они двинулись на город под названием Сунчхон. Там их остановили. К концу месяца восстание подавили – ценой тысячи жизней. Однако атмосфера репрессий, нетерпимости и политической беспощадности только накалялась. Полная ненависти пхеньянская радиопропаганда подпитывала слухи о неминуемом вторжении с севера. В ноябре были введены ограничения в прессе и произведено более семисот политических арестов. С сентября 1948 по апрель 1949 года в Южной Корее полицией было задержано 89 710 человек. Только 28 404 из них были отпущены без предъявления обвинений. Ким Гу, семидесятичетырехлетний ветеран «временного правительства», сильно пострадавший за противостояние японским властям и все еще пользовавшийся повсеместным уважением в Южной Корее как самый заслуживающий доверия соперник президента, был убит в своем кабинете марионеткой Ли Сын Мана в июне 1949 года. В том же месяце последние оккупационные войска Соединенных Штатов, за исключением группы обеспечения и подготовки численностью в пятьсот человек (KMAG, группы военных консультантов США в Корее), покинули страну. Ли Сын Ман отчаянно умолял продлить американское военное присутствие. Но СССР уже вывел армию из северной части, да и Вашингтону в любом случае не особенно хотелось задерживать свои войска в Корее, оккупация которой обошлась ему так дорого во всех смыслах. Соединенные Штаты сделали все, что сочли возможным. Учитывая множество других притязаний на ресурсы Америки с усилением холодной войны, ее лидеры не хотели допустить, чтобы Корея приобрела слишком большое значение. Решительное намерение Вашингтона снизить издержки, в которые могла ввергнуть Штаты Корея, привело к тому, что новая армия доктора Ли Сын Мана не получила ни бронетехники, ни тяжелой артиллерии. Южную Корею предполагалось снабдить исключительно средствами обороны, прежде всего для борьбы с набирающим силу партизанским движением.
После мирного ухода Красной армии из Северной Кореи американцы уже меньше опасались открытой агрессии со стороны коммунистов на полуострове. К северу от 38-й параллели Советы оставили в руках своего протеже Ким Ир Сена тоталитарное сталинское общество с намертво затянутыми гайками. Русские советники помогли создать по всей стране сеть народных комитетов и центральное правительство на основе Временного народного комитета. В ноябре 1946 года были проведены первые выборы из единственного списка кандидатов, выставленных «Единым демократическим фронтом». Москва сообщала, что группировка Ким Ир Сена получила 97 % голосов. В феврале 1947 года в Пхеньяне состоялся первый Съезд народных комитетов, на котором было созвано Народное собрание Северной Кореи. Девятого сентября 1948 года была провозглашена Корейская Народно-Демократическая Республика. Но Северная Корея была слаборазвитой страной. Перспектива начать войну без прямой поддержки своих русских хозяев все еще представлялась отдаленной. У сотрудников Пентагона и Госдепартамента, которым была небезразлична судьба Кореи, возникали серьезные сомнения по поводу того, что было сделано и создано на Юге от имени Америки. В то же время представлялось, что из безвыходной ситуации получилось извлечь максимум пользы. То, что Штатам удалось сохранить поддержку своей антикоммунистической программы со стороны западных союзников, можно было считать значительным дипломатическим достижением. Комиссия ООН по Корее, на которую была возложена задача стремиться к объединению расколотой страны под ее надзором и контролем, сохраняла постоянное присутствие на Юге, отслеживая взаимно враждебные действия Сеула и Пхеньяна, чтобы вовремя «обнаружить и сообщить о любом развитии событий, которое может привести к вооруженному конфликту в Корее или тем или иным образом его подразумевать». Двусмысленной данью остаткам демократии, которая еще как-то теплилась на Юге, стала ситуация на выборах в новое Национальное собрание в мае 1950 года, продемонстрировавшая прискорбную непопулярность Ли Сын Мана. Правые партии получили только сорок девять мест: сто тридцать досталось независимым кандидатам и сорок четыре места – другим партиям.
Сейчас, оглядываясь назад, мы ясно видим, что политика Соединенных Штатов в Корее была неуклюжей и плохо продуманной. В ней отразился недостаток не только понимания, но и интереса к стране и ее людям помимо их способности служить кирпичиками в бастионе, воздвигаемом против коммунистической агрессии. Вполне вероятно, что из того же недостатка проистекали проблемы Штатов не только в Корее, но и в Китае, а затем и во Вьетнаме. Горячее стремление оккупационных властей воспроизвести в Азии американские политические и бюрократические институты не находило отклика у корейцев, имевших совсем другие представления и приоритеты. Из всех азиатских стран лишь Япония представляла в 1940-х – как и сегодня – единственный блестящий пример общества, в котором отлично прижились иноземные американские политические институты. Только Япония оказалась достаточно образованной и однородной, чтобы адаптировать эти новые структуры. Только в Японии традиционные власти не отождествлялись их более бедными соотечественниками с невыносимой несправедливостью, коррупцией и сотрудничеством с иностранными угнетателями. Самым мощным оружием в арсенале коммунистов в Азии была видимость приверженности честности и бескорыстию в противовес беспардонной алчности и порочности противников. Многие азиаты слишком поздно поняли, что расплатой за демонстрацию верности идеалам становится потеря гражданских свобод. В тех частях Азии, которые поддавались влиянию американцев, последние, надо отдать им должное, пытались смягчить худшие проявления помещичьего уклада и социального гнета. Но они никогда не признавали, насколько эти пороки мешали им руководить в соответствии с демократическими принципами. Снова и снова американцы в Азии связывались с группировками, у которых не было никакой надежды удержать власть без насилия. Оставаться на занимаемых постах сторонникам Чан Кайши, как и сторонникам Ли Сын Мана, удавалось, лишь применяя репрессивные меры.
Тем не менее Штаты вправе утверждать перед судом истории, что более идеалистическая политика в послевоенной Корее толкнула бы страну прямо в объятия коммунистов. Заслуги местных коммунистов в борьбе против японцев, а также непричастность к помещичьей прослойке и коррупционерам почти наверняка позволила бы им получить поддержку избирателей в 1945–1946 годах. Даже если изначально коммунисты были готовы сформировать коалицию с центристскими и правыми, разве их не постигла бы та же участь – гибель или бессилие, – которая выпала на долю многих восточноевропейских политиков того периода, не говоря уже о северокорейских? Исторические исследования дипломатических отношений убедительно доказали, что в 1945–1946 годах Южная Корея, вопреки тогдашним представлениям американцев, не входила в экспансионистские планы СССР. Но откуда тогдашним руководителям стран Запада было знать или догадываться о том, что Сталин милостиво решил избавить Корею от участи Чехословакии, Польши, Югославии, Румынии, Венгрии, Австрии? В конце сороковых слишком многое свидетельствовало о том, что Советский Союз задался целью испытывать Запад на прочность при каждом удобном случае и рвать там, где тонко. Доктор Ли Сын Ман и его последователи по крайней мере олицетворяли силу и решимость в тот период, когда эти качества были на вес золота. В исторической оценке послевоенного периода иногда упускается из вида, что русские внушали многим европейцам такой же страх, как немцы несколькими годами ранее. Соглашателей с Гитлером высмеивали и презирали. Те, кто наблюдал за ужасающими изнасилованиями и грабежами Красной армии в Восточной Европе и понимал бесспорную готовность Москвы пользоваться кровопролитием как инструментом своей политики, не испытывали ничего, кроме презрения к будущим соглашателям со Сталиным, будь то в Европе или в Азии.
