Адский Портной
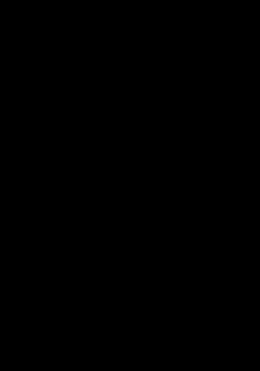
Инъекция
Клиника доктора Арлена всегда пахла антисептиком и… доверием. Резкий, химический запах спирта и хлорки смешивался с едва уловимым ароматом старой бумаги из медицинских карт и сушеной ромашки, которую доктор заваривал «для успокоения нервов». Для меня, Рейна Холлоуэя, сироты со скрипучими, ненадежными легкими, это место было единственным настоящим убежищем в мире, медленно сползающем в безумие. Астма – мой старый, надоедливый спутник – отступала в этих стенах, подчинённая воле и знаниям Доктора.
Доктор Арлен. Он был не просто врачом. Он был отцом, которого у меня никогда не было. Тот, кто ставил холодные банки на мою тощую, выпирающую лопатками спину, чьи теплые руки казались нерушимым щитом от всего злого, что таилось за пределами этого кабинета. Он читал мне сказки под монотонное жужжание капельницы, и даже когда весь город оцепили войска Санитаров, объявив о карантине из-за этого чёртова «Синдрома Спрингвейла», его клиника оставалась непоколебимым маяком. Он продолжал лечить. Он смотрел мне в глаза и обещал, что всё обязательно будет хорошо. И я верил. Вера была единственной валютой, что у меня оставалась.
В последние дни он был странный. Слишком бледный, будто вылитый из воска. Его глаза, обычно такие спокойные и всепонимающие, метались по углам, не в силах сфокусироваться на чем-то одном. Его знаменитые руки виртуоза, о которых слагали легенды пациенты, – теперь дрожали, с трудом удерживая скальпель или шприц. Я списывал это на усталость. На всеобщее напряжение. Ведь мы все были на пределе. Комендантский час, с наступлением которого улицы вымирали за считанные минуты; патрули Санитаров в сияющих масках и с бездушными электрошокерами наготове; и этот необъяснимый, липкий страх, витавший в чистом, слишком чистом, будто вылизаном, воздухе Энклава. Страх, который был осязаемым, как влажная простыня.
– Рейн, мальчик мой, – его голос в тот роковой вечер был хриплым, скрипучим, словно наждачная бумага скребла по стеклу. Он позвал меня в процедурную. За окном давили багровые сумерки, предвещая скорое наступление Фазы Тишины, когда включатся сирены и все живое попрячется по норам. – Новый протокол. Экспериментальный. Спустили из Службы Здоровья. Это… это наш шанс. Шанс стабилизировать твой иммунный ответ? для таких, как ты, астматиков. Вы в группе риска, знаешь ли.
Он избегал моего взгляда. Его пальцы лихорадочно, с нервной дрожью перебирали ампулу. Стекло было ледяным, а жидкость внутри – густой, мутной, опалесцирующей, с каким-то… мерцающим, не то живым, не то металлическим осадком на дне. Это не было похоже ни на один препарат, что я когда-либо видел.
– Док… Ты уверен? – Я сглотнул комок, внезапно вскочивший в горле. Дело было не в страхе перед уколом – я к ним давно привык. Дело было в страхе его вида. Он покрылся испариной, хотя в клинике царила привычная прохлада. И на его шее, под накрахмаленным воротником белого халата, мелькнуло что-то – темное, пульсирующее, похожее на свежий синяк, но… живое. Я поспешно отвел взгляд. Показалось. Усталость и паранойя делают свое дело.
– Доверься мне, Рейн, – он произнес это с такой надрывной, почти отчаянной мольбой, что мне стало по-настоящему страшно. Ледяная струйка холода пробежала по позвоночнику. – Как отцу. Пожалуйста. Это… это крайне важно.
Как я мог отказать? Он был единственным человеком, который остался у меня в этом мире. Я молча кивнул, закатал рукав своей поношенной футболки. Резкий холод спирта. Знакомый острый укол. И сразу же – необычное, жгучее чувство. Глубже, чем обычно. Больнее. Жидкость вливалась в вену – тяжелая, чужая, враждебная. Я физически ощущал, как она растекается по сосудам, не охлаждая, а обжигая изнутри. Словно по моим венам, вместо крови, потек расплавленный, ядовитый свинец.
– Что… что это? – я попытался вскочить, но голова закружилась, комната поплыла, заплясала перед глазами. Знакомый запах антисептика в носу вдруг сменился резким, тошнотворным смрадом… меди, озона и гниющего под солнцем мяса.
Доктор Арлен отступил на шаг. Его лицо исказила гримаса – но не боли, а какого-то торжествующего, нечеловеческого ужаса. Его глаза потемнели, стали абсолютно черными, без единого проблеска белка. Тот самый «синяк» на его шее рванулся вверх, опутал его лицо и лоб черными, лопающимися, пульсирующими прожилками. Его рот растянулся в широкой, неестественной, доходящей до ушей улыбке, обнажая слишком острые зубы.
– ПРОТОКОЛ АКТИВИРОВАН! – его голос был уже не его. Это был скрежет камней под прессом, лязг рвущихся стальных канатов, хруст ломаемых костей. – «ПОДОПЫТНЫЙ X-17. ТКАНЬ ГОТОВА К ИНФЕКЦИИ. ВЫСВОБОЖДАЙ ХАОС!»
Пол под ним треснул. Но не просто треснул – он разверзся кровавой, пульсирующей язвой. Из зияющей трещины хлынули потоки темной, почти черной крови, куски слизистых, незнакомых внутренностей, посыпались осколки… костей? Из этого ада, из этой утробы мира, выползло и выросло ОНО. Не Док. Больше не Док. Это было слияние его белого халата, плоти и вывернутых наружу, искривленных костей. Грудь превратилась в клетку из ребер, торчащих наружу, как заточенные копья. Руки – в костяные, зазубренные серпы. Лицо… Боже, лицо! Все еще угадывались черты Доктора, но вмерзшие в деформированный череп, обтянутый лоскутами кожи, с черными, бездонными пустотами вместо глаз. Костолом-Амальгама. Его вопль был чудовищной смесью знакомого голоса Дока и нечеловеческого, первобытного рева.
Я замер. Парализованный всепоглощающим ужасом. Сквозь шок пробивалось одно-единственное чувство – горькое, отравляющее предательство и боль. Чужеродный огонь бушевал в моих венах. Чудовище двинулось ко мне. Непозволительно быстро. Костяной серп взметнулся в воздухе, сверкая под тусклым светом ламп.
Боль. Белая. Абсолютная. Выжигающая все нейронные связи.
Я увидел свою правую ногу. Она отделилась от меня. Плавно, почти невесомо. Почему-то почти без крови – лишь несколько алых брызг окрасили воздух. Просто… отделилась. Упала на линолеум рядом с моим потрепанным кроссовком. И лишь потом, с запозданием в вечность, боль накрыла меня, красная, горячая, рвущая на куски, разрывающая разум на атомы. Я рухнул на пол, захлебываясь криком, которого сам не слышал из-за звона в ушах. Костолом навис надо мной. Костяные пальцы-крюки потянулись к моей голове. Глаза-пустоты, казалось, пожирали мой ужас, питались им.
И тут случилось ОНО.
Не извне. Изнутри. Так, словно мои собственные вены взорвались изнутри тысячами черных, ледяных гвоздей. Что-то древнее, голодное и бесконечно холодное вырвалось наружу. Из кровавой культи ноги, из моего рта, из слезящихся глаз – черные, густые, как свежая смола, нити. Они не просто вытекли – они вонзились. В меня самого. В пол. В нависшего костяного монстра.
«Рвано.» – пронеслось в черепе. Это была не мысль. Это была вибрация в костях, ледяной укол в самое подкорку. Чужая. Безэмоциональная. – «Смерть.»
Нити, словно щупальца, рожденные в аду, впились в Костолома. Они не просто ударили. Они начали пожирать. Высасывать что-то темное, пульсирующее, мерцающее зеленым светом в его костяной груди. Монстр заревел – но теперь в этом реве был только чистый, животный, панический ужас. Он дергался, пытаясь сбросить черные хватки, но нити с неумолимой силой втягивались обратно в меня, таща за собой обломки его костяной плоти, клочья белого халата, его сущность. Я чувствовал, как эта грязь, этот Хаос вливается в меня через черные нити. Обжигающе холодный. Отвратительный. Но одновременно – насыщающий… что-то глубоко внутри, пробудившееся и жаждущее.
Я не управлял своим телом. Оно двигалось само. Встало на одну ногу. Мои руки (мои ли?) схватили тот самый костяной серп, который только что отсек мне конечность. И с дикой, нечеловеческой, не принадлежащей мне силой вонзили его в черную, пульсирующую пустоту между ребрами Амальгамы. Это был не я. Это было То, что во мне.
«Соединять.» – проскрежетал тот же ледяной голос у меня в голове. Нити рванули. Костолом-Амальгама – бывший Доктор Арлен, мой отец, мой палач – разлетелся на куски, на костяную крошку и брызги черной, дурно пахнущей жижи. Они хлынули обратно в трещину в полу, которая с громким и отвратительным звуком стала сжиматься под ударами черных щупалец, все еще вырывающихся из моей культи.
Потом наступила тишина. Раздавленная, оглушительная. Ее нарушало только мое хриплое, прерывистое дыхание и бешеный стук сердца, готового вырваться из груди. Я стоял на одной ноге. Культя пылала адской, невообразимой болью. По всему телу ползли черные нити, медленно втягиваясь обратно под кожу, оставляя после себя паутину пульсирующих, темных шрамов. Внутри бушевал ледяной ураган. Чужой. Голодный. И… довольный.
Я посмотрел на место, где только что был Доктор Арлен. Где была моя нога. На черную слизь и костную крошку на полу. На едва заметный, мерцающий след от затянувшейся Трещины. В глазах стояли слезы, но плакать я не мог. Не осталось сил даже на это. Я просто трясся, ощущая холод внутри и жар снаружи.
«Голод.» – прошипело у меня в черепе, заставляя содрогнуться. Холодные иглы впились в живот, скручивая его в тугой узел. – «Есть. Сейчас.»
Я упал на колено, скрючился от нового приступа тошноты и выплюнул на чистый, слишком чистый, безупречный пол клиники сгусток черной, вязкой, тягучей крови. Она пахла медью, озоном и… пустотой. Бездной.
Что… что ты со мной сделал, Док? И что… что теперь живет во мне?
***
Клиника доктора Арлена больше не пахла антисептиком и доверием. Теперь она пахла гарью, едким дымом, мокрой штукатуркой и кровью. Много крови. Его крови. Рейн лежал на спине посреди руин того, что когда-то было его единственным убежищем – процедурной. Обгоревшие, почерневшие стены, оплавленные пластиковые стулья, разбитое, исковерканное оборудование – всё было залито грязной водой и алым. Вода хлестала из сорванных пожарных спринклеров на потолке – ледяной, искусственный, беспощадный дождь, барабанивший по обломкам и его лицу. Она смешивалась с сажей, грязью и той темной, липкой жижей, что сочилась из культи его правой ноги, чуть ниже колена.
Боль была… запредельной. Белая, звонкая, выжигающая все мысли, все чувства, оставляя лишь животное стремление выжить. Он видел свою ногу. Она лежала в трех шагах от него, кроссовок промок, алое пятно крови медленно растекалось по стерильной плитке. Рядом – бесформенная, отталкивающая груда костяной крошки и черной, тягучей слизи. Костолом-Амальгама. Бывший Доктор Арлен. Бывший отец. Уничтоженный… чем-то. Чем-то, что теперь копошилось внутри него самого.
– Не сейчас… – пронеслось сквозь огненный туман, затянувший сознание. – Не сейчас… Пожалуйста… Дай просто полежать… прийти в себя…
Но Оно не спрашивало. Оно чувствовало. Оно было внутри. Оно проснулось, когда серп, выточенный из кости, отсек его ногу. Оно убило Доктора-Монстра. И теперь… Оно действовало, подчиняясь своим, неведомым законам.
Ощущение было новым и оттого вдвойне ужасающим – миллионы ледяных, тонких игл, пронзающих плоть изнутри, сфокусировались на кровавом, рваном обрубке. Черные, как деготь, нити вырвались из-под кожи его бедра, из рваной плоти культи, изо рта, из уголков его запавших, полных ужаса оливковых глаз. Они извивались, словно живые, голодные змеи, абсолютно не обращая внимания на ледяную воду, льющуюся сверху.
«Рвано.» – прозвучало в черепе. Не голос. Вибрация костей, ледяное эхо чужой воли. —«Смерть.»
– Нет… – выдавил Рейн хрипло, почти беззвучно. Вода заливала ему рот, он захлебнулся, закашлялся. – Стой… не надо… – он не знал, к кому обращался. К судьбе? К тому, что убило Доктора? К этому чужому, холодному присутствию внутри себя? Слезы смешивались с водой со спринклеров, смывая копоть и кровь. – Пожалуйста… остановись… Я не хочу…
Но Оно не останавливалось. Его просьбы были шепотом в ураган. Нити, послушные чужой команде, впились в мясо и кость бедра, в оторванную ногу. Боль, и без того вселенская, взорвалась новым, невообразимым измерением ада. Рейн закричал – долгим, высоким, животным воплем абсолютного отчаяния и непонимания. Его крик потонул в грохоте воды и треске обрушивающихся где-то в глубине здания перекрытий. Он чувствовал, как черные щупальца вбуравливаются в костный мозг, оплетают разорванные нервы, сшивают разорванные сосуды изнутри. Это не было исцелением. Это была варварская, кошмарная сборка. Грубая, чуждая, невыносимая. Он не понимал, что происходит. Только что его нога была отдельно. Теперь ее соединяют? Как? Зачем? Ситуация выходила за границы любого здравого смысла.
«Держать.» – проскрежетало в костях, не терпя возражений. Нити натянулись, словно стальные тросы, с нечеловеческой, неумолимой силой стягивая кости бедра и голени. Раздался жуткий, влажный скрежет и хруст ломающихся и встающих на место осколков. Рейн дернулся всем телом, как марионетка, чувствуя, как его насильно, против воли, собирают обратно. – «Соединять.»
– А-а-а-АААРХ! СТОЙ! ПРЕКРАТИ! БОЛЬНО! ОСТАНОВИСЬ! ПОЖАЛУЙСТА! – он забился в конвульсиях, но черные нити держали его мертвой, несгибаемой хваткой изнутри и снаружи, пришпилив к мокрому, холодному полу. Нити прошивали мышцы, будто раскаленными докрасна спицами, грубо стягивая порванные волокна. Каждый «стежок» был вырываемым с мясом клоком плоти, новым витком агонии. Его тело, худое и юное, но уже навсегда отмеченное печатью кошмара, выгибалось в немой, застывшей гримасе нечеловеческой агонии. Он умолял, кричал, плакал, но Оно было глухо к его мольбам. Оно выполняло свою работу.
«Терпеть.» – безэмоциональный, холодный приказ. – «Консервировать.»
– Не… могу… больше… хватит… – слезы текли ручьями по его грязным, детски округлым щекам, смешиваясь с водой, кровью и грязью. Он чувствовал, как чужеродная, ледяная субстанция замешивается в его кровь, в ткани, в самое нутро. Как она запечатывает разрывы, но не лечит, а лишь создает жуткую, неправильную иллюзию целостности. Процесс прекратился так же внезапно, как и начался. Нити с противным шумом втянулись обратно под кожу, оставив после себя пульсирующую, черную паутину грубых швов вокруг места соединения. Кожа вокруг них посинела, стала мертвенно-бледной, пронизанной тонкой сетью черных прожилок. Нога была прикреплена. Словно кукла, грубо сшитая руками сумасшедшего.
Боль отступила на шаг, сменившись леденящим, неестественным онемением и жутким, давящим ощущением стянутости, как будто ногу заковали в тугой, невидимый гипс изнутри. Он попытался пошевелить пальцами… и не почувствовал ничего. Ни боли, ни холода от воды, ни положения в пространстве. Только тяжесть, чужеродность и мертвый груз. Как будто к нему привязали чужое, непослушное бревно.
Дыхание Рейна было прерывистым, свистящим. Знакомый, ненавистный кашель сдавил грудь – горький, с привкусом железа и чего-то нефтяного, чуждого, того самого Хаоса. На ладонь легли капли черной, густой слизи, смешанной с алым. Он с отвращением, с ненавистью к самому себе, стер ее о мокрый пол, прямо рядом с костной крошкой, оставшейся от Дока-Чудовища.
Где-то вдалеке, сквозь оглушительный шум воды и пронзительный звон в ушах, просвистела сирена. Коротко, отрывисто, как предупреждение. Потом еще одна, ближе. Затем – металлический, мерный стук тяжелых, подбитых сталью ботинок по затопленному полу коридора. Санитары. Пожарная сигнализация, должно быть, сделала свое дело. Или кто-то из соседей поднял тревогу.
Рейн, все еще дрожа крупной, предательской дрожью, с нечеловеческим усилием попытался подняться. Черная, густая кровь снова капнула из уголка его рта в мутную воду. Его нога… его чужая, мертвая нога… беспомощно волочилась за ним, неподъемный груз. Он почувствовал, как ледяные иглы Оно внутри снова зашевелились, но теперь – не только от голода. От приближающейся опасности.
«Шум.» – констатировало Оно, и его «присутствие» в мозгу стало острее, внимательнее, подобно дикому зверю, учуявшему охотника. – «Угроза.»
…
«Голод.» – добавило неумолимо, игнорируя опасность. – «Слабость.»
Рейн опустил голову. Амальгама уничтожена. Трещина… он не видел, но чувствовал – запечатана, заштопана его же плотью. Цена… Цена была выжжена в его плоти и в душе навсегда. И теперь – Санитары. А где-то в этом проклятом, стерильном Энклаве, на краю его смутного, затуманенного шоком восприятия, уже зияла новая точка боли, новая, тонкая Трещина. Пища для Оно. И его отсроченная гибель, следующая остановка в этом аду.
«Есть?» – настойчиво, требовательно протолкнуло Оно в его сознание, требуя движения, требуя пищи, абсолютно игнорируя приближающиеся шаги и сирены. – «Или… смерть. Выбор.»
Рейн сжал зубы. Больше от слепой, бессильной ярости и всепоглощающего отчаяния, чем от настоящей силы. Его оливковые глаза, обычно выражавшие лишь усталость и покорность судьбе, сверкнули отчаянным, почти безумным огоньком на фоне мертвенно-бледного, юного лица, искаженного болью, грязью и непрожитым, неосознанным еще горем. Он уперся руками в холодный, мокрый, липкий пол, игнорируя протест сшитой ноги и ледяное, тошнотворное нытье глубоко внутри, в самых костях.
– Да… – прошипел он, срываясь на хрип, глотая воду и собственную черную кровь. – Ладно… Пойдем… поедим. Но заткнись ради всего святого! Заткнись!
И ледяные иглы внутри сжались в напряженный, готовый к действию узел, подгоняя его, толкая в тень обгоревших стен, навстречу новому, непредсказуемому витку кошмара, пока сирены Спрингвейла выли все громче и ближе, приближаясь к клинике, где на полу среди воды и пепла лежали лишь осколки прошлой жизни и черные, пульсирующие швы будущего ада.
Гол
