Наперекор предсказанию
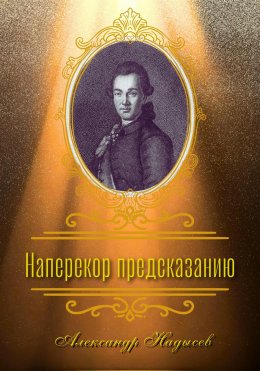
От редактора
Дорогие читатели, хочу сказать несколько слов об авторе этой книги – художнике, архитекторе и писателе. Вот некоторые моменты его жизни:
Надысев Александр Валентинович родился в Москве 4 января 1947 года и с детства рисовал, мечтая учиться у настоящих мастеров. И его мечта сбылась! В 1966 году он поступил в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Академии Художеств СССР, где учился на примерах таких замечательных архитекторов, какими были Растрелли, Росси, Воронихин, Баженов, Казаков и другие. Закончив Академию художеств, он получил специальность архитектора, и в 1973 году поступил на работу в Моспроект-1, где в 1979 году стал членом Союза архитекторов РФ. В 1987 году он был назначен руководителем проектной мастерской №1 МНИИТЭП, и проработал 30 лет в творческом союзе с сотрудниками института и ДСК-1, где добился значительных успехов. В 2002 году он стал лауреатом Премии Правительства РФ за проектирование и строительство жилых домов, а в 2008 году получил звание «Заслуженный архитектор РФ». За эти годы по его проектам было построено множество индивидуальных, типовых, монолитных и панельных домов. Это жилой комплекс на Минской улице «Золотые ключи», получивший в марте 1999 года второе место в международном конкурсе «MIPIM AWARDS-99» в городе Канны; жилой комплекс на Рубцовской набережной реки Яузы, ставший победителем конкурса «Лучший реализованный проект 2002 года»; жилые кварталы в районе Некрасовки города Москвы, в том числе экспериментальный 9-и этажный жилой дом серии «ДомНад» в том же районе, получивший высокую оценку Москомархитектуры города Москвы.
Параллельно с архитектурой он постоянно занимался пейзажной живописью и, участвуя в выставках «Мир глазами зодчих», написал рассказ «Мои акварели». Продолжая писать прозу, он по-настоящему увлёкся написанием исторических рассказов, которые были сразу опубликованы в альманахах «Славянские встречи» под редакцией поэтессы Ирины Пановой. Став членом литературного объединения «Чонгарский бульвар» библиотеки №148 имени Ф. И. Тютчева города Москвы, руководимого поэтессой Светланой Комраковой, он стал публиковаться в ежегодных альманахах «К жизни!»
Кроме того, Александр Надысев опубликовал в Литресе свои книги: «На далёких берегах России», «Опалённые льды Арктики», «Огненные драконы», «Несгибаемое Заполярье», «Русский север», «Жемчужины Москвы», «Дремлющие вулканы айнов», «Пржевальский», «Шаманы», «Виват, русский единорог», «Бич Кавказа» и «К вершинам власти». А также в редакции «Белый ветер» он опубликовал такие книги: «Взгляд сквозь века», «На гребне славы», «Играют зори над рекою», «Деяния былых времён», «Битвы за моря», «Причуды императрицы», «Акценты Древней Москвы», «Моменты судьбы», «Незабытое прошлое», «Пёстрые миниатюры», «Каскад миниатюр»». Получив высокую оценку своего творчества, он в 2025 году стал членом Московской организации Союза писателей России, и продолжает работать с историческими материалами.
Будучи профессиональным архитектором, Александр Надысев написал книгу о зодчем Матвее Казакове и его друге Василии Баженове.
Татьяна Надысева
От автора
Вы не находите, что в названии книги «Наперекор предсказанию» есть что-то мистическое и судьбоносное? И вы убедитесь в этом сразу, как только начнёте читать эту книгу. А в ней дряхлая старуха предсказала парнишке Матвейке необычную судьбу, которая была уготовлена самим провидением: «Ты будешь успешным в украшении Москвы, но всё тобою созданное сгинет… но не отчаивайся, потом восстановят твои творения». Став архитектором, Матвей Казаков несмотря ни на какие предсказания и проклятия успешно творил, создавая свои дома – замечательные жемчужины Москвы.
Эта повесть унесёт вас в прошлое и расскажет о том, как Казаков, изучая работы итальянского архитектора Палладио, постигал в школе Ухтомского основы проектирования и строительства зданий. А работая под руководством своего друга Баженова, он учился у него, совершенствовал свои знания и удачно применял их в своих многочисленных постройках.
Надо сказать, что Матвей Казаков в отличие от Василия Баженова, был более гибким и практичным архитектором, который не только создавал великолепные проекты, но и прекрасно воплощал их в жизнь. Он умел договариваться с заказчиками и подрядчиками, организовывать доставку материалов и контролировать технические детали на стройке. Гениальный Казаков впервые в России над Екатерининским залом здания Сената построил каменный купол диаметром 24,7 метра, прозванным современниками «русским Пантеоном». Много внимания он уделял и разработке интерьеров, которые в его творчестве были интересные и разнообразные. Крупнейшим достижением Казакова стало возведение усадебных дворцов для русских дворян с учётом российских традиций с обязательным устройством «парадного двора», строительство больших особняков и доходных домов в Москве.
Но судьба двух талантливых архитекторов сложилась по-разному. Если Баженов стремился к масштабным проектам и, запутавшись в масонстве, попал в царскую опалу, из которой не смог выпутаться, то его друг Казаков, несмотря на предсказания старухи-гадалки, очень быстро набрался опыта и построил много зданий в Москве. Но от судьбы не уйдёшь! Предсказания старухи всё же сбылись, и многие московские дома Казакова погибли в пламени Отечественной войны 1812-го года. И только ученики великого мастера, и благодарные потомки сумели восстановить эти удивительные памятники архитектуры, ставшие достоянием Москвы. А Матвей Фёдорович Казаков остался в наших сердцах гениальным классиком «московского палладианства».
Если у вас найдётся время, прогуляйтесь по Москве и полюбуйтесь архитектурой Матвея Казакова и возможно вам захочется побольше узнать о творчестве этого великого мастера.
P. S. Эту повесть я посвящаю начинающим архитекторам, которые стремятся достичь в своём творчестве чего-то особенного и необычного.
Глава 1. Босоногое детство
