Первоуральск: страницы истории
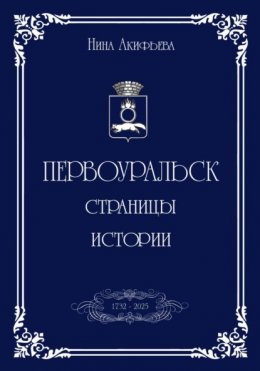
О КНИГЕ
УДК 908
ББК 63.3(2)-2
А39
А39 Акифьева Н.В.
ПЕРВОУРАЛЬСК: страницы истории. 2025.: илл.
Научное издание
По образованию я историк (УрГУ). По профессиональной компетенции – специалист по истории России. По опыту работы – преподаватель, доцент УПИ/УГТУ/УрФУ. Кандидат исторических наук (аспирантура ИЭ УНЦ АН СССР). Автор серии историко-краеведческих книг (11 монографий) о прошлом Урала. Моя новая книга – об исторических, культурных и географических особенностях Первоуральского городского округа. Иногда я отвлекаюсь, но дальше Урала не ухожу.
Электронная книга «Первоуральск: страницы истории» представляет собой сборник оригинальных статей, опубликованных автором в российских печатных СМИ, на сайте pervouralsk.ru, в LiveJournal и не вошедших (или частично вошедших) в ранее изданные печатные монографии автора.
Книга рассчитана на широкий круг читателей и будет полезна научным работникам, преподавателям вузов, студентам, учащимся общеобразовательных школ, краеведам и всем, кто интересуется историей Урала.
Н. В. Акифьева, 2025
БИЛИМБАЕВСКИЕ ВСТРЕЧИ ГРАФА СТРОГАНОВА
Среди многочисленных представителей замечательного рода Строгановых последний граф, Сергей Александрович Строганов известен, пожалуй, меньше других. Он не отправлял Ермака покорять Сибирь, не бился с врагом на Бородинском поле, не возводил великолепный Казанский собор и не учреждал знаменитое Строгановское училище.
Выйти на историческую сцену из-за спины таких знаменитых предков ой как не просто. Впрочем, бледной тенью своих пращуров последний мужчина из клана Строгановых тоже не был.
Скупые строки биографии: Сергей Александрович Строганов родился 9 января 1852 года. В 12 лет потерял отца и находился под сильным влиянием своего деда Сергея Григорьевича Строганова. Закончил Санкт-Петербургский университет и Морской корпус. В 1876 году совершил длительный учебный поход на собственной паровой яхте «Заря» к берегам Америки. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов командовал одним из двух своих собственных миноносных катеров «Авось». За военные заслуги был награждён Георгиевским крестом. После окончания войны передал катера в дар Черноморскому флоту.
Наследство, полученное Сергеем Александровичем от деда, представляло собой хорошо отлаженное хозяйство. Только на Урале ему принадлежало семь заводов: Билимбаевский, Добрянский, Очерский, Кувинский, Кыновский, Павловский, Софийский. В 1891 году он покупает Уткинский завод А.П. Демидова, входивший в ранее распавшийся Суксунский горный округ, и увеличивает горнозаводской сектор своей империи до восьми заводов. «Екатеринбургская неделя» тогда писала: «Мастеровые бесконечно рады, что завод перешел в руки одного из капитальнейших уральских заводовладельцев и что все будут с работой и хлебом».
В июне 1904 года, когда на Балтийском море формировалась 2-я эскадра Тихоокеанского флота, Сергей Александрович обратился в Главный Морской штаб и выразил желание пожертвовать 1,5 миллиона рублей на приобретение «вполне оборудованного» судна. После согласования с контр-адмиралом З.П. Рожественским было решено, что это будет «специальный воздухоплавательный разведчик» (корабль – носитель аэростатов). Через месяц Строганов приобретает за 920716 рублей трансатлантический пассажирский пароход Северогерманского Ллойда «Лан» (Lahn). Его переоборудование осуществлялось в Бремерхафене на верфи одной из немецких фирм. 1 ноября 1904 года «Lahn» прибыл в Либаву (Лиепаю). В этот же день Николай II в соответствии с пожеланием дарителя дал кораблю имя «Русь».
Граф любил охоту, принимал активное участие в деятельности Общества поощрения полевых достоинств охотничьих собак, наряду с великим князем Николаем Николаевичем младшим, князем П.П. Голицыным и князем Б.А. Васильчиковым был организатором и издателем журнала «Охота». Основал ныне существующий Терский конный завод.
Первый раз Сергей Александрович женился в 1882 году на своей троюродной сестре, двадцатилетней фрейлине Высочайшего двора, княжне Евгении Александровне Васильчиковой. Однако счастливый брак был недолгим, через два с половиной года молодая супруга скончалась. Об этой романтически-трагичной любви и ежедневных розах на могиле Евгении в селе Выбить Старорусского уезда Новгородской губернии до сих пор ходят легенды.
Ранняя смерть жены заставила графа покинуть семейную усадьбу, а в 1907 году яхта «Заря» навсегда увезла его и из России. Умер он 18 апреля 1923 года во Франции в городке Эзе (Eze), похоронен на кладбище Кокад (Caucade) в Ницце. Вторая жена Сергея Александровича Роза Ангелина Генриетта Левьез (Rose Angeline Henriette Levieuze), умершая в 1960 году, похоронена рядом с мужем.
Вот, пожалуй, и все, что известно нам о последнем графе Строганове. К сожалению, эта сухая информация мало что говорит о его характере, пристрастиях, чувствах и желаниях, о тех качествах, что составляет сущность любого человека. И поэтому так ценны для нас любые свидетельства современников: рассказы, записки, воспоминания. Бывает так, ищешь в центральных архивах, областных музеях и библиотеках, а редкие документы оказываются совсем рядом, в твоем городе.
Наше знакомство с Маргаритой Николаевной Удовихиной вначале не предвещало никаких открытий, но только до той поры, пока она не достала большую канцелярскую тетрадь воспоминаний своего прадеда, окружного лесничего Билимбаевского округа Фёдора Васильевича Гилева. И там, среди сотни листов, исписанных старческим, но четким почерком, нашлось несколько страниц, повествующих о встречах автора с Сергеем Александровичем Строгановым.
Федор Васильевич Гилев, окружной билимбаевский лесничий, 1904 г. Фото из семейного архива М.Н. Удовихиной
Первая встреча графа Строганова и окружного лесничего Гилева произошла летом 1882 года. «Мне пришлось встречать графа на железнодорожной станции Тарасково, что находилась в 27 верстах от Билимбаевского завода, – вспоминал Федор Васильевич Гилев. Здесь я ему представился и сопроводил верхом до Билимбаевского завода, едучи рядом с его экипажем. Граф тогда был холостой, и его сопровождали три спутника. Приезжие живо интересовались подробностями, а я давал объяснения. Среди прочего, предупредил, что недалеко от дороги находится большой Чернореченский рудник. Граф пожелал заехать туда и даже спускался в шахту.
Сергей Александрович часто ездил верхом, а управляющий и спутники, сопровождали его в экипаже, поэтому мы иногда оставались вдвоем, – писал Гилев. Он расспрашивал меня о моем семействе, об отце и братьях. Один на один он был совсем другой человек, не тот, что при людях.
На другой день граф со свитой поехал на Караульную гору. На горе все любовались ландшафтом. С вершины как на ладони были видны три завода – Билимбаевский, Шайтанский и Ревдинский. Я угощал Сергея Александровича чаем, заваренным не в чайнике, а в ковше, так как чайник забыли. Чтобы не падали чаинки в стакан я прикрывал ковш салфеткой. Граф заметил это и сказал, что не надо чай пропускать через салфетку, пускай лучше чайная трава попадает в стаканы. Еще он заметил, что на вершине горы нет ни шалаша, ни скамейки, и усталому туристу негде укрыться от дождя и ветра.
Обратно в Билимбай возвращались по Чусовой в большой лодке с четырьмя гребцами. Замечаю, что сидя в лодке, граф то открывает, то сразу закрывает свой портсигар за отсутствием там папирос. Видимо ему захотелось курить, но никто из спутников не обратил на это внимание. Достаю свой портсигар и предлагаю графу папиросу, оговорившись, что табак неважный. Он поблагодарил меня и спросил позволения взять пять штук. Тут все стали предлагать графу папиросы, но он отказался.
Река понравилась графу, и он задумал совершить по ней путешествие, повторяющее путь заводских караванов – от Билимбаевского завода до пристани в Добрянске. Но так как дело происходило не весной, а летом, то специально для этой цели на пристани построили полубарок с несколькими каютами, точную копию чусовской барки, только уменьшенного размера. «Граф пожелал, чтобы я поехал с ним на барке, – продолжал свой рассказ Гилев, – но в тот день у нас в даче, около деревни Таватуй, случился большой пожар, где мое присутствие было необходимо. Так я умчался на пожар, а с графом поехал управляющий».
В 1884 году граф снова приехал в Билимбай, но на этот раз уже с молодой женой Евгенией Александровной, урожденной княжной Васильчиковой. Их сопровождали главный управляющий графа Бардманцев и дядя жены, князь Васильчиков
«Опять я встречал графа на вокзале, – писал Фёдор Васильевич. Граф представил меня графине, сказав при этом: «Я уже говорил тебе о нем». К вечеру граф послал за мной, так как пожелал побывать у нас на шишкосушилке. Однако ее устройством интересовался не столько граф, сколько графиня. На другой день вызывают меня опять к графу. Оказывается, графиня узнала об искусственном лесоразведении и пожелала осмотреть питомник. Поехали мы с ней в пролетке вдвоем. Трава сырая после дождя, а графиня без калош. Я предупредил, что недолго и простудиться, а она мне ответила, что она умеет закаливаться и простуды не боится.
Тем же вечером граф опять позвал меня к себе. Пригласил сесть и ознакомить его с особенностями лотового сплава. Я рассказал об особенностях сплава на лотах и устройстве такой барки, а за одним описал картину гибели барок, разбившихся на моих глазах у камня Косого. Рассказал и о том, с какой самоотверженностью спасал барку и людей помощник лоцмана В. Черепанов. Граф спросил меня, как наградили Черепанова. Я на это ответил, что представил его к награде в 25 рублей, а заводоуправление дало только 3 рубля. Выслушав, граф сказал: «Хорошо, что Вы рассказали мне об этом, оставлять такой случай без внимания не следует». Во время моего доклада, в кабинет, играя со своей собачкой, несколько раз вбегала графиня, и мне показалось, что мой рассказ интересовал ее больше, чем игра.
Вскоре приглашает меня управляющий и говорит, что графиня желает приготовить какое-то кушанье из свежей рыбы, раков и грибов и, что он, управляющий, отказался доставить все продукты в столь короткий срок. На этот разговор вышла графиня и говорит: «Да, да Федор Васильевич, на Вас вся надежда. Петр Яковлевич отказался, может, Вы все заготовите? Мне, – говорит, – хочется сделать сюрприз Сергею». Я сказал ей, что постараюсь, но обещать не буду.
Командировал одного смотрителя за раками на реку Утку, верст 20 от нашего завода и дал ему свой бредень. Второму смотрителю вручил невод и послал на Билимбаевский пруд за рыбой. Бригаду лесных рабочих из пяти человек послал на Горновой камень за 18 верст за красными грибами. Дал задание и распорядился всем вернуться к 12 часам следующего дня. На мое счастье нашлось все, что требовалось. Раков привезли штук 200 и сразу отправили на кухню. Спустя немного времени смотритель Стряпухин принес 20 фунтов (8 кг) живых окуней, каждый на 6 вершков (25 см.). Еще чуть позже влетают в ограду рабочие верхом на лошадях с полными корзинами грибов. И все это в восторге принимает довольная графиня.
На другой день граф пригласил меня опять и сказал, что хочет показать графине Караульную гору и что отъезд через час. Я отдал распоряжение о подаче лошадей, а лесного смотрителя Дылдина отправил к управляющему за самоваром, посудой, чаем, сахаром, хлебом и за бочонком с водой». Приехали на гору, а там стоит берестяной шалаш и диван, обделанный берестой. Граф удивился и заметил, что раньше его здесь не было. «А я отвечаю, – вспоминал Федор Васильевич, – Ваше Сиятельство в тот раз намекнули, вот я и устроил в надежде, что приедет графиня и посидит. А Евгения Александровна и говорит: «Вот я приехала и посижу».
Граф с Бардманцевым пошли в лес за рябчиками, меня оставили с графиней и старым князем устраивать чаепитие, так как я похвастал, что скоро привезут самовар. Старик Васильчиков пошел гулять по скалам. А графиня стала расспрашивать меня. Спросила сколько мне лет? Я сказал – тридцать пять. Тут она и говорит: «У, какой Вы старик». Я говорю, что это я годами стар, а духом бодр. «Да, да – это видно, видно, – вскричала она. Вы почти ровесник моему мужу».
Чаем то я похвастался, а его-то как раз и не привезли. Ни камердинер графа, ни управительница ничего не дали, заявив, что никаких поручений от графа они не получали. Услышал это я от Дылдина и иду сконфуженный к шалашу. Графиня видит меня и спрашивает, отчего я такой кручинный? Я объясняю, в чем дело. Она говорит: «Очень плохо». Тут я подаю ей дыню из своего сада, присланную женой и говорю, что не заменит дыня чай. Графиня обрадовалась, разрезала дыню, отделив немного себе и мне. Пришел граф, видит, что самовара нет, и интересуется где чай. Графиня по-французски что-то ему пояснила. Граф улыбнулся, посмотрел на меня, покачал головой и взял дыню.
Перед отъездом из Билимбая позвал меня граф, отдал 25 рублей и письменную благодарность для передачи лоцману Черепанову, сказав управляющему, чтобы Черепанова повысили по службе. Я проводил экипаж до границы с Шайтанской дачей, где Их Сиятельства любезно со мной распрощались, я, в свою очередь, раскланялся и вернулся в Билимбай».
После отъезда Строгановых служащие Билимбаевского завода надумали сделать подарок Евгении Александровне. Решили, что это будет шкатулка для перчаток, изготовленная из уральских камней. Заказать шкатулку или купить готовую было поручено Федору Васильевичу Гилеву. «Я нашел отличную шкатулку, сверху отделанную серебром, а внутри атласом, – писал Гилев, спустя сорок лет. Затем долго сочиняли адрес, собирали депутацию (лесничий Ф.В. Гилев, техник Н.А. Тунев и кассир Субботин) и, наконец, поехали. Пришли в графский дом, а графиня сконфузилась и не хотела нас принимать. Но узнав, что среди депутатов нахожусь я, решила выйти. Я сказал, что требовалось в данном случае, и передал шкатулку Ее Сиятельству. Она была в восторге от подарка, просила передать служащим, что она очень признательна и постарается бывать у нас чаще, так как в Билимбае ей очень понравилось.
Через некоторое время узнаем, что графиня скончалась. А граф в Билимбай больше не приезжал. Бывало даже несколько месяцев жил в Кувинском заводе, а к нам не заехал – слишком многое здесь напоминало ему о графине».
Источник: Нина Акифьева, журнал ВЕСИ. 2011. № 4. С. 19-22.
ДОЧЬ ПИКОВОЙ ДАМЫ
Владелица Билимбаевского завода и крупнейшей в России Пермской латифундии графиня Софья Владимировна Строганова родилась 11 ноября 1775 года в семье князя Владимира Борисовича Голицына и княгини Натальи Петровны (Чернышевой).
Наталья Петровна Голицына – прообраз знаменитой пушкинской «Пиковой дамы» – женщина-легенда, прожила на свете почти сто лет и пережила шесть царствований. Софья Владимировна была ее любимой дочерью. Молодая княжна часто путешествовала с матерью, много времени проводила в европейских странах, где и получила разностороннее светское образование.
По свидетельству современников, Софья Владимировна «по своей простоте и необыкновенным качествам ума и сердца, а также верному пониманию блага Отечества являлась идеалом чисто русской женщины».
В 1794 году молодая княжна выходит замуж за графа П.А. Строганова. Павел Александрович был заметной личностью. В революционном Париже молодой аристократ под именем графа Очера проникся либеральными идеями, а после возвращения в Россию сблизился с наследником престола великим князем Александром Павловичем и вошел в круг его ближайших друзей. Павел Александрович Строганов принимал участие в военных компаниях против Франции, Швеции, Турции был героем Отечественной войны 1812 года – его дивизия покрыла себя славой в сражении при Бородино (один из эпизодов того времени изображен на картине М. Грекова «Дивизия Строганова в боях на Старой Смоленской дороге»).
Софья Владимировна и Павел Александрович были счастливы в браке. За годы совместной жизни у них родились четыре дочери и сын-наследник. Однако им пришлось пережить страшную трагедию, когда единственный сын, привлеченный отцом на военную службу, был убит в сражении под Краоном. В одной из строф VI главы «Евгения Онегина» (не вошедшей в окончательный текст романа) А.С. Пушкин воспел П.А. Строганова и его единственного сына 19-летнего Александра Павловича, погибшего почти на глазах у родителя:
Поэт не оставил без внимания и великосветский скандал 1829 года – побег дочери Софьи Владимировны Строгановой Ольги с графом Феpзеном. Побег, вызвавший гнев царя и окончившийся военным судом, послужил сюжетом знаменитой повести «Метель».
Сказанное выше, дает некоторое представление о незаурядности графини Строгановой, но характеризует лишь светскую сторону ее жизни. Нам же интересна другая и менее известная грань ее деятельности – административно-хозяйственная.
После смерти мужа громадным имением в Пермской губернии Софья Владимировна управляла почти двадцать восемь лет. Современники характеризовали ее так: «Женщина необыкновенного ума, соединенного с широким образованием и любвеобильным сердцем, она ставила выше всего благосостояние своих крепостных людей, являя в тоже время в высшей степени замечательные административные и хозяйственные способности». Ф.А. Волегов писал, что важнейшей обязанностью своих управляющих она считала «заботу о благосостоянии вверенных им крепостных людей и уже затем о доходах с имения».
Софья Владимировна Строганова, худ. Жан Лоран Монье, 1808 г.
Взаимоотношения с подданными внутри Строгановского имения разительно отличались от уклада большинства крепостных хозяйств Российской империи. Считая, что главные доходы ее крестьян должны происходить от земли, она «переводит оброчную подать с ревизских душ на землю и стремится к тому, чтобы оброк с земли не был отяготителен». При этом учитывалось не только количество, но и качество земли, которая делилась на три разряда – лучшую, среднюю и худшую. Оброк с лучшей земли был выше, чем со средней, а за землю среднего качества платили больше, чем за худшую. Интересны предложения графини об устройстве в своем имении примерных хозяйств и ферм, которые были призваны показать крестьянам «как следует вести хозяйство, и распространять среди них наиболее полезные растения».
В то время, когда в России большинство имений представляли собой феодально-крепостнические хозяйства с соответствующим уровнем взаимоотношений, в имении Строгановой существовали: трудовое законодательство, судебный устав, взаимное страхование от огня, страхование скота, крестьянская «ссудная касса», относительно благоустроенные школы и госпитали.
И что замечательно – графиня сумела достигнуть таких результатов «без пособия немцев-управителей» – вся администрация ее имения состояла из местных крепостных, которые получали образование в ее собственных высших школах в Петербурге и Марьинском. Наиболее одаренные посылались за счет графини в иностранные университеты и академии. Но такая политика имела определенные рамки: «Детей низших служащих едва ли следует вытягивать высшим образованием из семейного круга, – для воспитания их достаточны местные училища; исключения из этого правила может быть допущено лишь для детей, выходящих из ряда по своим способностям».
Правовые акты, разработанные при непосредственном участии Софьи Владимировны в начале XIX века, интересны и сегодня. И не только историкам. Много любопытного откроют для себя экономисты, юристы и законодатели.
В Строгановском имении право на пенсию было не только у служащих и мастеровых, но и у некоторых категорий крестьян. Учитывая, что в те годы в России государственной пенсионной системы вообще не существовало, а советские крестьяне (колхозники) пенсионное обеспечение получили только в 1964 году, пенсионную систему в имении Строгановой, с полным правом, можно признать передовой.
Крепостные служащие графини Строгановой пенсионное пособие могли заслужить за определенный срок беспорочной службы. Федор Васильевич Гилев в своих воспоминаниях писал: «У Строганова лоцман, сплавивший 25 барок, то есть проработавший 25 навигаций, получал пожизненную пенсию. Вся навигация продолжалась месяц и никак не больше двух месяцев, и, значит, всей службы было не более 50 месяцев».
«Положение о праве на пенсию в имении Строгановой» определяло: «Кто за службу приобрел уже пенсию, тот пользуется ею и тогда, когда снова вступит на службу по имению Ее Сиятельства, а кончив сию вторую службу, не лишается права просить той пенсии, которая будет следовать ему за вторую выслугу лет». Время отпуска на срок менее четырех месяцев, а также дни болезни, продолжавшиеся не более шести месяцев, не исключались из выслуги лет. Выходящие же в отставку по причине болезни или увечью, полученному на службе, также получали пенсию. Прослужившие от 10 до 15 лет 1/4 оклада, прослужившие от 15 до 20 лет 1/2 оклада, от 20 до 25 лет 3/4 оклада, прослужившие 30 лет и более – полный оклад своего жалования. Вдовы и дети служащих имели право на пенсию их отца. Дети получали пенсию: мужской пол до 16 лет, а женский до 18 лет или по выходу в замужество; имеющие же какие либо телесные недостатки и болезни, получали пенсию до дня смерти.
Мастеровые, оказавшие важную пользу для заводов и промыслов, при увольнении также получали пенсию «соразмерно своих заслуг». Заводские строители, механики, уставщики, плотинные мастера, промысловые трубные мастера, судовые строители, получающие окладные жалованья, имели такое же право на пенсию, как и служащие. Срок выхода на пенсию для работающих на «горячих» и горных работах составлял 50 лет, «а все прочие мастеровые и промысловые должны продолжать [работать – Авт.] до 55 лет возраста; по истечении сего срока, способные по силам определяются в какие-либо караулы, а дряхлые или увечные освобождаются от всяких господских занятий. Мастеровые и рабочие, достигшие преклонных лет и не могущие исправлять никакие заводские работы, получают хлебную выдачу; не имеющие же детей и не могущие снискать себе пропитание причисляются к богадельням».
Софья Владимировна сумела сформировать передовую во всех отношениях вотчину. Ей принадлежал почин создания первого в России лесного хозяйства, основанного на рациональных научных принципах. В ее имении работали лучшие в России специалисты лесного хозяйства. Это форстмейстер Екатеринбургского горного округа И.И. Шульц (под его руководством в поселке Билимбай была заложена сосновая роща, сохранившаяся до наших дней как природный памятник); главные лесничие А.Е. Теплоухов и Ф.А. Теплоухов; лесничие Н.Г. Агеев, Ф.В. Гилев, П.В. Сюзев. День 2 апреля 1841 года, когда С.В. Строгановой было подписано распоряжение об учреждении лесного отделения в своем имении, с полным правом может считаться датой, с которой в нашей стране началось «правильное лесное хозяйство».
Умерла Софья Владимировна Строганова пятого марта 1845 года в Санкт-Петербурге, похоронена на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.
Источник: Нина Акифьева, журнал УРАЛЬСКИЙ СЛЕДОПЫТ. 2006. № 3(585). С. 63-65.
ФРАНКИ НА УРАЛЕ
Деньги! Нет, пожалуй, вещи более популярной и известной в народе. Стремление к обладанию деньгами стимулирует труд и творчество, и в то же время с деньгами связаны самые низкие помыслы и жестокие преступления. Но главное состоит в том, что деньги являются важнейшим средством экономических отношений, барометром общественного и политического устройства страны, показателем благосостояния народа и даже зеркалом, в котором отражается история государства. Особенно интересны в этом плане бумажные денежные знаки.
В России первые бумажные деньги (ассигнации) были выпущены в период царствования Екатерины II в 1769 году. Расширение торговых связей, охвативших огромную территорию России, требовало большого количества денег, причем более удобных, чем медные монеты, которые преобладали в обращении, но были мало приспособлены для крупных торговых сделок. Платеж в сумме 100 рублей в пятикопеечных медных монетах весил около ста килограмм. Первые российские бумажные ассигнации мало походили на деньги в современном представлении. Это были, скорее всего, банковские обязательства – расписки на получение монеты.
Появление полноценных бумажных денег в России обычно связывают с именем А.А. Бетанкура и с основанием Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг, учрежденной Александром I в 1818 году.
Развал экономики Советского Союза в конце 1980-х – начале 1990-х годов привел к резкому снижению курса рубля и галопирующей инфляции.
В 90-е страна ушла с головой в «рынок». И вот на этой «благодатной» почве в некоторых регионах страны начали появляться разнообразные денежные суррогаты: денежные жетоны Республики Татарстан, потребительские казначейские билеты Нижегородской области (они же немцовки), пенсионные боны Республики Хакасия… Однако все попытки выпуска собственных платежных средств носили, как правило, ограниченный и местечковый характер. Хотя было все же одно исключение.
В 1991 году в Свердловской области чуть не появились собственные деньги – «уральские франки». Почему франки, а не пиастры? Рискнем предположить, что название было выбрано по аналогии со швейцарским франком, как своеобразным символом стабильности и надёжности. Широко известной эта финансовая экзотика стала после нашумевших публикаций в центральной прессе о «наполеоновских» планах уральцев – внедрить данные ценные бумаги в качестве денежных суррогатов для обеспечения платежей в Уральской республике. Злые языки утверждали, что даже в далекой Швейцарии вздрогнули банкиры, но гораздо больше испугались, конечно же, в Москве, усмотрев в этом шаге акт сепаратизма.
