Год Черной Обезьяны
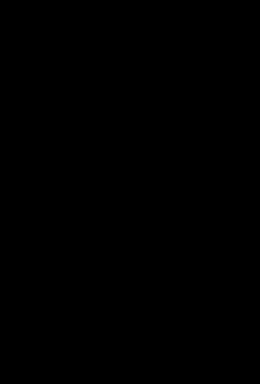
Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)
Издание подготовлено при содействии литературного агентства «Флобериум»
Редактор: Анастасия Шевченко
Издатель: Павел Подкосов
Главный редактор: Татьяна Соловьёва
Руководитель проекта: Ирина Серёгина
Художественное оформление и макет: Юрий Буга
Корректоры: Елена Воеводина, Ольга Смирнова
Верстка: Андрей Ларионов
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Е. Ракова, 2025
© Художественное оформление, макет. ООО «Альпина нон-фикшн», 2025
Посвящается маме
Часть первая
Река черного дракона
ЛЕОНИД ЗАВАЛЬНЮК
- Затянулось бабье лето на Амуре…
- За судьбой мне возвращаться не к нему ли?
- Будут годы, будет горе, будет старость…
- Но навеки моя юность здесь осталась.
1 (Марта)
В краеведческом музее города Б стоит одинокий розовый фламинго. Залетную птицу еще в девяностых нашел егерь в Тамбовке. С первым октябрьским снегом фламинго умер, и его чучело гордо выставили в комнате «Фауна южной части Амурской области», как будто целые стаи сказочных розовых птиц разгуливают по болотам и силосным ямам региона. Марте всегда казалось, что она в городе Б – как вот этот сбившийся с пути фламинго, которого бог весть какими ветрами по ошибке занесло в эти края. А быть может, экзотическими розовыми птицами, выбивавшимися из общего серого пейзажа, были все женщины в роду Пеговых.
Ангелина Пегова сидела за небольшим кухонным столом и курила одну за одной. Бычки она складывала в гипсовую пепельницу, выполненную в виде рулетки казино. Для Марты эта пепельница была неразрывно связана с образом матери: женственной, опасной, принадлежащей ко взрослому волнующему миру. Ангелина поправила короткий халат в маках и убрала за уши тяжелые русые пряди. Локоны матери переливались золотом на висках, постепенно темнея к концам. Больше ни у кого на свете не было таких красивых волос.
– Мартышка, слушай внимательно.
Марта кивнула. Ангелина затянулась и выпустила дым в потолок.
– В жизни за все нужно платить. И есть человек, который нам должен, мне и тебе. А когда человек должен, Мартышка, запомни, нет ничего стыдного в том, чтобы у этого человека свое забрать. Понятно тебе?
Марта ковыряла край стола, от которого отходил верхний клеенчатый слой, обнажая спрессованные опилки. Ей было все понятно.
– Завтра ты пойдешь в первый класс, и там будет много ребят. С тобой станут знакомиться. Заводить дружбу с кем попало не надо ни в школе, ни когда-либо по жизни. Когда ты с кем-то дружишь, ты отдаешь часть себя, отщипываешь от себя что-то, что не видно глазу, но это тем не менее существует. И если ты выбираешь себе в друзья не того человека, то он тебя как бы обкрадывает, потому что ему нечего дать тебе взамен. Понятен ход мысли, м? Да прекрати ты ковырять стол!
– Да, мам, прости, мам.
– Так вот, с тобой в классе будет учиться девочка, Маша Данилова. Отец этой девочки нам должен, тебе и мне. Задолжал он нам очень много. Поэтому тебе не будет стыдно принимать от нее, ее отца или еще от кого-либо в их семье подарки. Потому что, если он долги возвращать не будет, за ним придет призрак дедушки.
Ангелина грозно посмотрела на Марту. Внутри у девочки все похолодело.
– Тебе не нужно бояться этого призрака, он не причинит нам вред, наоборот, он нас оберегает. А вот отец Маши, напротив, его боится, и правильно, ведь он сильно подвел дедушку.
Дальнейший рассказ Марта помнила лишь в общих чертах.
Следующим утром Марта сидела на тахте в своей комнате, собранная для первого дня в начальной школе. На стене напротив висел портрет молодой Ангелины, выполненный угольным карандашом. Девушка на портрете была не слишком похожа на мать, но вот глаза очень удались. Крупные черные горошины зрачков, обрамленные серым, внимательно изучали Марту, в каком бы углу комнаты она ни находилась. Марта никогда не могла слишком долго выдерживать на себе этот взгляд. Иногда она начинала слегка расшатывать кнопки, которыми сердитый портрет был прикреплен к стене, как будто собиралась его снять. Однако каждый раз, когда шляпки уже заметно отходили от листа бумаги и острие гуляло в стене, Марта пугалась и вдавливала кнопки обратно.
– Мартышка, в школу тебя отведет дядя Толя.
В дверном проеме появилась Ангелина: она наклонилась, чтобы волосы полностью закрыли ее лицо, потом резко откинула голову, и так несколько раз. Благодаря этому нехитрому способу прическа матери приобретала впечатляющий объем, как у актрис в американском кино. Марта слышала, как незадолго до этого в дверь позвонили, и по низкому мужскому голосу поняла, что сегодня у мамы, видимо, работа. Она была не против, чтобы дружелюбный сосед сопроводил ее на линейку. Тогда Марта в любом случае не до конца понимала смысл того дня.
Во время линейки в честь Первого сентября, как и заведено в городе Б, моросил мелкий липкий дождь. Решетчатый забор вокруг школы только покрасили в зеленый, и, если сильно надавить пальцем, можно было оставить свой отпечаток на прутьях или слегка сколупнуть краску. Взрослые придерживали за плечи своих первоклассников.
Сосед дядя Толя оставил Марту около классной руководительницы с шевелюрой пуделя и сказал, что заберет девочку через пару часов. Марта оценивающе оглядела детей, высматривая Машу. У большинства одноклассниц в тот год в волосах были фантазийные розы на прищепках, видимо, такие завезли на китайский рынок тем летом, а челки делились надвое разноцветными заколками. У Марты же были обычные ленты, завязанные бантами, и больше ничего, из-за чего она ощущала себя несколько блеклой. Эта блеклость, однако, не была свойством Марты, она скорее ощущалась как временное внешнее неудобство, недоразумение, которое стоит устранить.
Марта начала со своих ближайших соседок: поинтересовалась, как их зовут. Девочек звали Лена и Юля, и Марта удивилась: они были абсолютно одинаковые. Затем она познакомилась с большеглазой Светой, которая постоянно дергала висящие кисточки своих заколок, и азиаткой Соней, которая без конца шмыгала носом и была готова вот-вот заплакать. Марта продолжала высматривать Машу. Наконец она встретилась взглядом с девочкой, чье лицо показалось ей добрым. Что-то в повороте головы, в ямочках на щеках и в медном пуху волос надо лбом было неуловимо знакомо, как будто они уже дружили.
– Меня зовут Марта, а тебя как зовут?
Марта протянула девочке ладошку. Та вопросительно обернулась на родителей. Ее мать, похожая на Белоснежку из мультика ярким контрастом белого лица и черного каре, кивнула.
– Маша, – тихо сказала девочка и некрепко сжала пальцы Марты.
За спиной Маши маячил невысокий квадратный мужчина. Он покосился на девочек, ненадолго задержал взгляд, а потом развернулся всем телом куда-то в сторону, как будто дети были ему совершенно неинтересны. Хвостик Машиных волос, отливавших медью, был украшен розой. Эта заколка – самая красивая из всех, что Марта видела на линейке: на ее белых по краям и розовеющих к сердцевине лепестках как будто блестели капли росы. Тут Марта вспомнила, что говорила ей мать насчет долга.
– Мне нравится твоя заколка.
Без каких-либо просьб Маша стянула заколку с волос и подала Марте. Заиграла музыка. «Это любимый наш дом, в нем подружились навек с тобой… помни, гагаринцы мы… счастливы этой судьбой!»
Пока Марта развязывала свои банты и крепила к волосам трофейную розу, что-то привлекло ее внимание в дальнем углу школьного двора. За забором, протиснув лицо между прутьев, топтался пожилой мужчина в каких-то лохмотьях. Волосы невнятно-серого цвета скатались в сосульки, а вот борода была снежно-белая и как будто очень ухоженная. Постепенно делаясь все прозрачнее, она доходила почти до пояса. Старик улыбался широкой, искренней улыбкой, и, что удивительно, все его зубы были на месте.
«Дедушка!» – сразу догадалась Марта, и по телу разлилось тепло. На черно-белой фотографии, что стояла дома на подоконнике, дед был моложе и борода была гораздо короче. Но Марта не сомневалась: это он. Она поняла, что дедушка пришел проводить ее в первый класс. Вот он словно превратился в дым и просочился сквозь прутья. Потирая щеку, испачканную зеленой краской, дедушка направился к Марте. В этот момент она почувствовала какое-то движение сзади и обернулась. Отец Маши с трудом проталкивается через ряды старшеклассников к выходу со школьного двора: «Извините, пропустите». «Испугался дедушку», – поняла Марта.
Раздался короткий, как будто случайный звон – это кто-то из взрослых вручил стоявшей справа Свете большой золотой колокольчик, перевязанный красной лентой. В следующую секунду Света взмыла вверх к ватным тучам – это смуглый одиннадцатиклассник, гордый обладатель почти взрослых по густоте усов, поднял белокурую первоклассницу на плечо, чтобы пронести к школьному крыльцу, давая первый звонок учебного года.
Но то ли едва ощутимый дождь сделал пиджак одиннадцатиклассника скользким, то ли Света слишком вертелась, но полетела она вниз так же быстро, как и вознеслась. Неожиданно дедушка оказался рядом и попытался поймать Свету, но бесплотные руки приведения прошли насквозь. Усатый старшеклассник только и успел вцепиться в Светин рукав, который с почти театральным треском оторвался по шву на плече.
– Это жакет из Франции!
Можно было подумать, что женщину с детским лицом, издавшую этот крик, импортная вещь волновала больше, чем сама ее дочь, которая скривилась, готовясь заплакать. Вся эта суета спугнула приведение, дедушка как будто просочился сквозь прутья обратно за территорию школы и проворно нырнул в один из спусков к реке.
Сначала плач был тихим, но постепенно нарастал, как будто прибавляли громкости на проигрывателе. Ангельское лицо Светы впечаталось прямо в асфальт.
В ушах у Марты звенело. Падение одноклассницы выбило ее из равновесия, внутри расползался леденящий ужас, несоразмерный произошедшему, как будто она сама приняла удар асфальта.
Света подняла лицо. С ее щеки, как слеза, стекала ярко-рубиновая капля.
– Я не боюсь крови.
Этим замечанием Маша вернула Марту в действительность. Марта с трудом оторвала взгляд от запятнанного красным платка, с которым кукольная женщина хлопотала вокруг пострадавшей. Квадратным носом лакированной туфли Маша пинала траву, проросшую сквозь трещину в асфальте площадки перед школой. Марта чувствовала, что Маша сейчас испытывает почти то же самое, что и она, но хочет казаться храброй.
2 (Ангелина)
Виктория Пегова выжидательно сверлила взглядом заламывающего руки электрика Путилина, облокотившись на кассу.
– В сотый раз тебе говорю, алкоголь в долг не отпускаю, проваливай отсюда.
– Ну что тебе стоит, ну ты же добрая! Я обязательно с первой же получки верну! Ну возьми меня на карандаш!
– Ты у меня, Путилин, еще с прошлого года на карандаше. Но алкашку я продаю только за наличку, это принцип.
Тут мужчина изменился в лице и от заискиваний перешел к угрозам.
– Какая принцесса, посмотрите на нее! С генералом спишь, все, возомнила о себе? Да только не нужна ему ты, выкинет он тебя, как шавку, на обочину! Он женатый человек, прошмандовка ты эдакая! Что глаза таращишь, думаешь, не знает никто? Да все село обсуждает! Тьфу!
И электрик вышел из магазина, громко хлопнув дверью. Вика отерла пот со лба и села на табурет. Уже вторую неделю ее мутило, голова раскалывалась. Внутри бушевали разные чувства: уверенность в собственной правоте и вина перед Путилиным, а заодно и перед всем селом. Она всегда плохо разбиралась в себе: страшно желала денег и мечтала вырваться из Возжаевки и вместе с тем всегда шла навстречу, когда односельчанам нужны были продукты в долг. Толстая амбарная книга разбухла от записей карандашом. Еще Вика встречалась с двумя мужчинами одновременно: женатым генералом-красавцем Сергеем Семеновичем Полуэктовым из ближайшей воинской части и с непутевым шуганым доцентом Гришей из города Б. Гриша приезжал раз в пару месяцев навестить свою мать, которая жила в соседнем с Викиным доме.
Генерал был, конечно, предпочтительнее. Он ездил на автомобиле с водителем, получал путевки на лучшие курорты Союза, преподносил ей дорогие подарки да и в любовных делах был искуснее соперника. Только вот его обещаниям развестись Вика особо не верила. Гриша же почти ничего не имел за душой, в любви не признавался, все время нес не интересовавшую ее ахинею про «историю языкознания» и еще что-то такое академичное, а в постели приходил в щенячий восторг от происходящего: только и мог что напряженно пыхтеть, пропитывая одеяло по́том минуты четыре, а потом долго-долго ее благодарить. Зато Вика знала, что, надави она немного на Гришу, тот непременно на ней женится.
Прикинув по дням, Вика поняла, что забеременела совершенно точно от Гриши, но после некоторых раздумий решила все же сделать ставку на генерала. Подогнав немного срок, она рассказала о своем положении Сергею Семеновичу, который несказанно обрадовался, кружил ее на руках, а на следующий день пропал. Не отвечал на звонки неделю, две, а на третью Вика решила делать аборт. Отговорила ее сестра Марина. У Марины было какое-то редкое врожденное заболевание, но никто в местной больнице толком не мог сказать какое. Одна нога у нее сильно косолапила, глаза были навыкате, веки постоянно красные, а от жирной еды мог начаться эпилептический припадок. Врачи говорили, что долго девочка не протянет, однако Марина всем назло дожила до тридцати и умирать не собиралась.
Через месяц Полуэктов объявился, на коленях умоляя простить и объясняя свое исчезновение тем, что жена сильно заболела, поэтому он пока никак не может ее бросить, к тому же в военной части какие-то жуткие проверки и проблемы. Но Викусика с ребенком он, конечно, не оставит.
Через неделю случились похороны Гришиной мамы. На помпезных поминках, организованных на невесть какие деньги, Вика сказала своему запасному варианту, что они больше не могут быть вместе. Тот принял новость отрешенно, как будто речь шла о каком-то бытовом вопросе, например о продаже пианино или чешского серванта, которые в итоге оказались в доме Вики и Марины. С тех пор Гриша перестал приезжать в село и ни разу не навестил могилу матери.
Когда родилась Ангелина Пегова, безотцовщина по свидетельству о рождении, сразу стало ясно, что никаких теплых чувств ребенок у генерала не вызывает. То ли он подсознательно понимал, что ребенок не его, то ли просто не любил детей. Но деньги и вправду исправно давал. И Вика продолжала на протяжении пяти лет метаться в душе, пилить Сергея Семеновича, работать в своем магазинчике, записывать карандашом долги односельчан в амбарной книге, оставлять дочку на сестру и на что-то надеяться. Иногда она хотела уехать в город к Грише, признаться ему во всем, но похоже, действительно была влюблена в генерала. Поэтому, когда тот неожиданно явился одной ветреной ночью, сопровождаемый скрипом яблонь, и постучал в окно, Вика поняла: что-то произошло и она пойдет за ним на край света.
– Викусик, только тсс – не разбуди соседей… Слушай меня, мы можем уехать, уехать вдвоем, как всегда мечтали, ты готова?
– Мы с тобой? Что произошло? Ты меня пугаешь!
– Долгая история… меня отдают под трибунал, по ложным обвинениям… ладно, это не женское дело, я сам со всем разберусь. Ты, главное, будь готова уезжать в субботу.
– Сережа! А как же Ангелинка? Мы ее возьмем?
– Девочку… девочку мы не можем сейчас взять, пойми, будет слишком много вопросов… она же все равно проводит бо́льшую часть времени с твоей сестрой, вот пусть они пока и поживут вдвоем? А потом мы обязательно за ней вернемся через какое-то время.
Вика не знала, действительно ли была какая-то объективная причина не брать Ангелину, или же генерал просто не хотел. Но, осознавав, что наконец будет с любимым мужчиной, не стала задавать лишних вопросов. И проблема с болезнью жены куда-то испарилась. Сестра Марина в этот момент лежала в больнице с очередным осложнением, и неизвестно было, когда выздоровеет. Поэтому на следующий день Вика собрала небольшую сумку вещей для дочки и села вместе с ней на автобус до города. Дождалась Гришу у кафедры в институте и прямо там вручила ему дочь. Молодой преподаватель настолько опешил, что не задал ни единого вопроса, даже не уточнил, что такое в понимании Вики «скоро вернусь».
Через несколько месяцев их разыскала Марина, неожиданно бодрая и энергичная, и предложила забрать Ангелину в село, но Гриша за это время привязался к дочери. Сказал, что Марина может гостить у них сколько захочет и иногда брать Ангелинку с собой в Возжаевку. Через год на пороге квартиры в городе Б объявилась мать девочки – загорелая, в золотых украшениях, с модным начесом, да еще и в шубе. Но без обручального кольца. Дочка с опаской и восхищением следила из-за угла за плавными движениями рук роскошно одетой элегантной женщины. Целью визита были бумажные формальности – после того как Гриша был записан отцом в свидетельстве о рождении, Вика снова уехала.
Ангелина рано почувствовала, что отец почему-то испытывает по отношению к ней чувство вины, и научилась вить из него веревки. Гриша никому не говорил, но считал: навещай он могилу матери, как и должен был, то знал бы о рождении дочери и все сложилось бы по-другому. Он одевал девочку потеплее и гулял с ней вечерами после института, пока мягкие волосы Ангелины, свисавшие из-под шапки, не покрывались серебристым инеем. Он гладил дочь по локонам, впитывая талую влагу в ладонь, и глаза его становились влажными от умиления.
Марина же была строга и дисциплинированна. Среди прочего тетку, выросшую в голодные военные годы, когда оладьи из картофельных очистков считались деликатесом, раздражала привередливость девочки в еде. Ангелина не ела ничего рыбного, никакой еды с «подливой» или соусом, отказывалась от каш и картофельного пюре, из супов выцеживала только жидкость. Когда Ангелине было шесть лет, Марина, приготовив большую кастрюлю солянки, попробовала в очередной раз перевоспитать племянницу.
– Сейчас ты съешь всю эту тарелку, а после я дам тебе шоколадку.
Девочка с отвращением отодвинула от себя коричневатую жижу.
– И не подумаю.
Марина в сердцах закатила глаза и хлопнула себя по хромой ноге сложенным вдвое кухонным полотенцем.
– Да что такое! Мерзавка, вся в мать! Вот и тебя она отодвинула, как тарелку невкусной еды!
Девочка прищурила глаза и сложила руки на груди.
– Ты мне не мать. И вообще ты уродливая. А мама красивая, как киноактриса.
Веки Марины еще больше, чем обычно, налились красным. В следующий момент она сжала ладонью лицо племянницы, другой рукой зачерпнула полную ложку горячего месива и запихнула ребенку в рот. От удивления Ангелина проглотила, не поморщившись, ненавистное блюдо. Держась за сердце, Марина присела на истрепанный диван. Не отрывая ошарашенного взгляда от тетки, девочка взяла ложку, зачерпнула еще солянки и отправила за щеку. Тщательно пережевывая, Ангелина продолжала есть, пока не прикончила всю порцию. Марина улыбнулась.
– Вот видишь, ничего сложного. А ты вредничала.
В ответ Ангелина молча встала со стула и вышла из кухни. Через минуту Марина услышала, что девочку рвет. Тетка побежала в ванную, громко шлепая тапками. Ангелину тошнило до тех пор, пока в желудке ничего не осталось, но маленькое вспотевшее тельце продолжало содрогаться в конвульсиях. Марина аккуратно перенесла девочку в спальню и уложила на тахту. Ангелина лежала с холодным компрессом на лбу и температурила три дня, едва подпуская к себе тетку, пока Марина, окончательно изведя себя чувством вины, не вызвала врача.
Племянница разрешила доктору приблизиться к кровати только при условии, что тетка выйдет из комнаты. После осмотра врач аккуратно прикрыл дверь и подозвал Марину.
– Девочка говорит, что солянка была отравлена и ей скормили ее насильно.
Марина схватилась за голову.
– Но мы с ее отцом все потом доели и не отравились!
Доктор улыбнулся.
– Вы не ругайте ее. Ребенок у вас очень впечатлительный и своенравный. При желании, если дать своему мозгу установку, можно вызвать какую угодно реакцию: рвоту, температуру, аллергию. Многие дети бессознательно это делают, желая добиться от родителей своего, из протеста, а потом сами начинают верить, что больны. Тут и развивается настоящая болезнь, я с таким сталкивался в своей практике. Пусть ест что хочет.
3 (Ангелина)
Тетка часто говорила «вся в мать», как будто в этом было что-то плохое. Ангелина принимала сравнение скорее за комплимент. В памяти сохранился образ невероятно красивой женщины в искрящихся украшениях и лоснящейся шубе. Успешность матери девочка связывала с ее внешностью, а тетка была болезненная, хромая, с выпученными глазами и именно поэтому жила в пропахшем старым тряпьем домишке и шубы не имела. Где жила мать, Ангелина не знала, но представляла, что это красивый большой особняк с арками и колоннами, окруженный стройными высокими пальмами, на берегу теплого моря. Ангелина очень боялась вырасти похожей на тетку. Иногда ей снилось, как у нее выпучиваются глаза, а нога выворачивается внутрь.
Но опасения Ангелины оказались напрасными. Еще в старших классах она осознала, что, когда входит в комнату, все взгляды автоматически примагничиваются к ней. Ангелина была тонкокостной, не ступала, а как будто пружинила, и одноклассницы пытались копировать ее походку. Но особенно она гордилась своим профилем в нимбе золотых волос. Этот ресурс она не собиралась растрачивать попусту. Постоянные нотации отца о необходимости выбрать специальность и готовиться к поступлению Ангелину только раздражали. В академической или какой-либо иной карьере она не видела особого смысла. Чтобы отделаться от нравоучений, девушка сказала, что хочет поступать в медицинский и для этого будет дополнительно заниматься с репетитором биологией и химией, но вместо этого часами гуляла по набережной. Она представляла, как удачно выйдет замуж и будет жить на роскошной вилле, куда не стыдно пригласить мать, и они станут вместе ходить по магазинам, пока их мужья обсуждают дела.
В начале весны в город приехала Марина, нагруженная закрутками и свитерами для родственников. Тетка заставила Ангелину порешать задачи из учебников по химии и биологии. Почти сразу стало понятно, что никакой медицинский девочке не светит. Но что же теперь делать? Гриша нервничал, а Марина спокойно раскладывала связанные крючком декоративные салфетки на все предметы мебели подряд. Решили узнать, где экзамены попроще. Так Ангелина поступила на лингвистику в пед, к отцу, и английский и китайский давались ей легко, как бы сами собой.
Нельзя сказать, что Гена Данилов понравился ей с первого взгляда. К отцу часто приходили в гости студенты и аспиранты, приносили мягкие игрушки и конфеты в тщетной надежде выпросить оценку, обсуждали дипломы и диссертации. Гена был неуклюж и немногословен, не расставался со своими записями, завернутыми в дурацкий вытершийся пакет. Бросал быстрые смущенные взгляды из-за толстых стекол больших круглых очков. Но со временем Ангелина привыкла, что любимый аспирант отца приносит отдельно для нее конфеты «Ананас» фабрики «Зея» и с неподдельным интересом расспрашивает про учебу, дает советы насчет преподавателей и зачетов, ведь помощи от отца было не дождаться. Гриша боялся, вдруг кто-то подумает, что он тянет дочь и злоупотребляет положением. Еще Генка долго и внимательно смотрел на Ангелину, пока она вязала в кресле в гостиной, а Григорий Витальевич вычитывал очередные главы диссертации. В один такой вечер отец вышел в прихожую поговорить по телефону, висевшему на стене, оставив дочь с аспирантом вдвоем.
– Что ты вяжешь?
Ангелина аккуратно приподняла свой последний проект светло-голубого оттенка:
– Это свитер. На нем будут белые медведи на льдине.
Гена присвистнул.
– А мне свяжешь что-нибудь?
Девушка осторожно отложила спицы, наклонила голову и лукаво улыбнулась.
– А мне что за это будет?
– Десять килограмм конфет «Ананас». А еще в кино тебя свожу.
Ангелина рассмеялась и снова принялась за вязание.
– То есть это мне подарок, в кино с тобой сходить? Высокого же вы о себе мнения, Геннадий!
– Это значит «нет»?
Гена глядел на девушку в упор с каменным лицом.
– Это значит «подумаю». Вот защитишь успешно диссертацию, свяжу тебе что-нибудь в подарок. И в кино, может, сходим, смотря что показывать будут.
На этих словах в комнату вошел отец, и больше Гена про свидания не заикался.
Девяносто первый был странным годом. Вокруг Ангелины всегда вилось много поклонников, и ей нравилось их внимание, но выбирать она не умела. Долго казалось, что на горизонте появится кто-то лучше, богаче, успешнее. В результате к выпуску, когда большинство однокурсниц уже были замужем и беременны, Ангелина оставалась одна, с невнятными перспективами. В тот год в воздухе витало смутное ощущение грядущих перемен, как будто скоро прибудет некий поезд, но точное время прибытия неизвестно, и остановится он буквально на минуту, и нужно будет непременно на него успеть. Гена стал появляться реже. Ангелина слышала, как по телефону отец говорил любимому аспиранту:
– Геночка, дорогой, коммерция – это хорошо, но нужно же диссертацию защитить, мы же на финишной прямой.
В августе отец принес фотографию, которую Ангелина запомнила навсегда.
– Смотри, что Генка наш вытворяет, – с гордостью сказал он, протягивая снимок дочке.
На прямоугольной карточке человек двадцать позировали на темно-зеленом танке на фоне затянутого облаками московского неба и накрененного шпиля высотки. Кто-то держал в руках рупор, кто-то – фотокамеру. Около танкиста в камуфляжной форме в полный рост стоял спортивный мужчина и грозил кулаком в воздух. Ангелина не сразу признала Генку: без очков, рукава рубашки закатаны, густые волосы отливают медью. Он был красив. Ангелина постаралась скрыть свое восхищение.
– С каких это пор Генка не носит очки?
– Сделал коррекцию зрения в Москве. Я его на конференцию отправил, а он вместо этого, негодяй, по танкам около Белого дома скачет.
– Хм, понятно. Диссертацию-то защищать он собирается? Я ему свитер обещала связать, если защитит.
– Ох, должен прийти ко мне в следующую субботу, но чувствую, от науки будет отбрехиваться. – Гриша махнул рукой, будто заранее признавая поражение в споре с аспирантом.
Ангелина готовилась к приходу Генки всю неделю: взяла у подруги кореянки Суны короткое розовое платье с воланами, делавшее ее похожей на фламинго, купила мундштук, чтобы, куря сигарету, выглядеть загадочной. В намеченный вечер она села с книгой в беседке во дворе, чтобы невзначай пересечься с аспирантом без надзора отца. Двор пятиэтажки плотно окружали пахучие кусты сирени. Ангелина уже предавалась мечтам, как целуется с Генкой в загсе. Любимый аспирант, судя по всему, знал, как вскочить на тот поезд, который вот-вот должен приехать. Вдруг из-за кустов донеслось раздражающее женское хихиканье. Через минуту смех, перемежаемый мужским шепотом, раздался опять. Ангелина осторожно вышла из беседки и развела ветви сирени. Худощавая брюнетка с невыразительным лицом, пунцовым от волнения, стояла прислонившись к прутьям забора. К ней вальяжно склонялся парень: широкая спина, рубашка с закатанными рукавами, волосы отливают медью. Вот он нагнулся ниже и поцеловал противно хихикающую девушку в губы. Ангелина была поражена простотой и банальностью открывшейся сцены. Как он мог? Она чувствовала себя оскорбленной женой.
– Давай я закончу тут дела и приду к тебе вечером? – прошептал Генка.
– Только не очень поздно, – кокетливо ответила брюнетка, – завтра у меня утренняя репетиция.
Ангелина швырнула книгу в песочницу и зашагала прочь из двора, гулять по набережной.
Суна знала все про всех, она питалась и дышала сплетнями. Поэтому, дождавшись позднего вечера, чтобы точно разминуться с Геной, Ангелина позвонила подруге с домашнего телефона.
– Привет, дорогая. Не спишь еще?
– Ой куда там, мои, как обычно, на Мухинку вдруг собрались, я должна помочь мясо для шашлыка замочить. А тебе что-то от меня надо.
Суна была проницательна почти до ясновидения, и Ангелина даже не пыталась от нее что-то скрывать.
– Простое любопытство. Аспирант моего отца – Генка Данилов – позвал меня на свидание. Я и не планирую идти, у меня вариантов хватает, но ты не знаешь, он вообще свободен?
Суна поцокала языком.
– You've come to the right place. Простое любопытство, ну-ну. Мам, да сейчас я приду, не будет ничего этой говядине из-за пяти минут! – крикнула она в сторону. – Тут срочное дело, вопрос жизни и смерти!
Ангелина нервно ерзала на табурете в розовом платье Суны, которое теперь казалось ей страшно пошлым. Суна снова приложила трубку к уху.
– Извини, в этом доме нет мне никакого покоя, всегда поручения. А ты что, влюбилась в Генку? Да, он ничего… И говорят, у него есть подвязки для торговли с Китаем, ты же понимаешь, что скоро откроют границу для частников? Ну не суть… Так вот, Генка твой уже полгода встречается с Ларисой Великодной, в четырнадцатой школе училась. Сама по себе – мышь мышью, но, видимо, мышиность свою компенсирует артистической деятельностью. Она и в «Ровесниках» танцевала, и в «Амурских самоцветах» пела, теперь вот окончила училище и в драмтеатре актрисулька. Кстати, ты слышала, они с «Ровесниками» в ГДР на гастроли ездили, и там, говорят, хореограф Ларису… Ну да не суть, я думаю, это неправда, хотя жена хореографа, говорят, потом шла по Ленина и рыдала, все видели, стыдоба такая.
4 (Ангелина)
Амурский областной театр драмы розовел на пересечении Ленина и Комсомольской. Ангелина несколько раз приходила постоять через дорогу от здания. В конце концов она решилась зайти в кассы, где взяла программу на сентябрь. Лариса В. значилась в трех спектаклях: «Мадемуазель Нитуш», «Игроки» и «Заговор чувств», везде на второстепенных ролях. Немного подумав, Ангелина купила билет в партер на «Заговор чувств» по роману Олеши.
К походу в театр Ангелина тоже готовилась тщательно, как будто это было свидание с Геной. Она надеялась, что не пересечется с ним в зрительном зале или буфете, ведь не будет же он ходить на каждый спектакль пассии. Покрутившись в розовом платье Суны перед зеркалом, Ангелина все же предпочла джинсы и черную водолазку. По пути на спектакль она остановилась у цветочного ларька и купила три красные гвоздики. Ангелина не была в драмтеатре со времен школьных культпоходов. Для города Б атмосфера театра была на удивление благородная и величественная – здание сохранилось с тысяча восемьсот восемьдесят девятого года.
Несмотря на скудный выбор продуктов в магазинах, стойка театрального буфета ломилась: поблескивали бутерброды с семгой, красной икрой и колбасой. Посетители заталкивали в себя дефицитные угощения, заливая их армянским коньяком и советским шампанским. Временами казалось, что люди пришли сюда не ради спектакля, а ради того, чтобы поесть. На крошечных круглых столиках не помещались нагруженные пластиковые тарелки, очередь тянулась до самых дверей.
В фойе Ангелина купила черно-белую программку, напечатанную на плохой бумаге, и спешно раскрыла ее в поисках имени соперницы. «Елизавета Ивановна – Лариса Великодная», – значилось двенадцатой строчкой на развороте. Черно-белые портреты актеров на стенах отчего-то казались траурными. Ларисы там не обнаружилось, но Ангелине было неприятно даже представить, что эта мышь однажды глянет на нее из этого ряда. Какое глупое, тщеславное и дутое занятие – быть актрисой. Ангелина прокручивала в голове сюжет давным-давно прочитанного романа Олеши – какая еще Елизавета Ивановна, наверное, одна из соседок по коммуналке Бабичева и Кавалерова, главных героев «Зависти». Ничего не значащая роль, с таким же успехом Лариса могла бы играть дерево.
Когда поднялся занавес, Лариса Великодная уже красовалась на сцене. В шелковом халатике поверх тонкой сорочки, в тапочках с меховыми помпонами, в бигуди. Плоская, неинтересная, не тянущая на отведенную по сценарию роль обольстительницы. Ангелина гораздо лучше сложена, ее лицо эффектнее вылеплено, она вполне смотрелась бы на сцене. Что это, зависть – как в романе? Но ведь она никогда не хотела быть актрисой. Просто мерзко, что эта мышь отобрала у нее Генку, а теперь еще и вертится перед сотнями зрителей в свете софитов. Какого черта Великодная в открывающей сцене, если роль второстепенная? Кто ставил этот дурацкий спектакль? Ангелина покосилась направо и налево, пытаясь оценить впечатление соседей по ряду от мыши в сорочке. Не определила: грузный мужчина справа ерзал, дама в бисерном платье слева осторожно разворачивала конфету. Небольшой скандальчик с мужем, и Лариса исчезает среди декораций коммуналки, предоставляя сцену Бабичеву, который проводит лезвием по намыленной щеке и поет в полный голос. Ангелина засунула измятую программку в сумку и постаралась успокоиться. В конце концов, какие права Лариса имеет на Генку? Просто Ангелина отказала ему тогда, нужно же было парню к кому-то пристроиться на время. Но аспирант прибежит, стоит только Ангелине поманить пальцем. Да, так тому и быть.
К радости Ангелины, больше слов у Ларисы в первом акте не было. Она появлялась пару раз в общих сценах, но все внимание забирали на себя Бабичев и Кавалеров. Прозвенел звонок, начался антракт. Прожорливый зритель снова повалил в буфет. В дамской комнате Ангелина сполоснула лицо холодной водой и оценивающе оглядела себя в зеркале. Нет, все же она определенно красивее. Водолазка льнула к тугому спортивному животу, джинсы плотно облегали женственные бедра.
На ступеньках перед партером царило оживление, и Ангелина вытянула шею, чтобы рассмотреть, что там происходит, а когда увидела, чуть не рассмеялась в голос. Лариса Великодная в запахнутом халатике стояла с подносом нарезанной колбасы и раздавала ее зрителям. Вот эта роль ей удавалась гораздо лучше. Ангелина подошла к сопернице и посмотрела ей прямо в глаза. Актриса натянуто улыбалась под толстым слоем театрального грима, потрескавшимся в уголках глаз и около рта. Ангелина взяла ломтик колбасы, видимо изображавшей ту, которую изобрел Бабичев, и аккуратно положила в рот, не сводя глаз с Ларисы. На вкус колбаса отдавала жареной резиной.
– Возьмите еще, не стесняйтесь.
Ангелина усмехнулась.
– А я свое всегда возьму, вы не переживайте.
Ангелина достала программку, развернула и демонстративно положила в нее несколько сырокопченых ломтей. Лариса продолжала натужно улыбаться, не подозревая, что было на уме у красивой зрительницы. Второй акт Ангелина отсидела во вполне хорошем расположении духа и даже не расстроилась, когда Лариса вышла с еще парой реплик во время проповеди брата Бабичева. Колбасница! Когда труппа вышла на поклон, Ангелина подарила одну гвоздику Кавалерову, одну Бабичеву и одну Ларисе, благодарно принявшей цветок. Спектакль Ангелине действительно понравился. После окончания, чтобы подышать воздухом и помечтать, она выбрала длинный путь мимо жутковатого недостроя – кариозного зуба «Бастилии».
Дома она застала отца в приподнятом настроении: он чистил картошку и напевал себе под нос на китайском песенку о двух гусях. Все-таки Ангелина любила его, хоть и не умела этого выразить. Изредка, когда она думала об отце или наблюдала за ним со стороны, ее сердце сжималось в комок. Григорию Витальевичу было около шестидесяти, он был рассеянным и непрактичным: задумавшись, мог сварить ручку в кастрюльке вместе с яйцами, все время терял документы и квитанции, а в его треугольной бороде непременно застревали крошки, которые он не замечал весь день. Ангелина поражалась, как отцу удалось защитить докторскую, с его-то бардаком на столе, и переживала, что он может попасть в какую-нибудь передрягу.
– Ты сегодня весел.
– Ангелинка, представляешь, я таки уговорил Генку защищаться! Приедет оппонент из Владивостока, я уже с ним созвонился!
– Это замечательно, пап. – Ангелина приобняла отца за плечи. – Но он же не пойдет в науку, к чему все это теперь?
– Пойдет не пойдет, защищаться надо. Работа хорошая, ему только нужно переписать пару глав для отправки рецензентам.
Ангелина стала ждать удобного случая. К счастью, он представился уже на следующий день. Начиналось ее любимое время года – бабье лето. Форточка была открыта, мягкие закатные лучи золотили мебель. Ангелина сидела в кресле с журналом «Бурда» на коленях и рассматривала выкройки. Именно сентябрь всегда ощущался как начало года, первая страница новой главы, а вовсе не сонное, похмельное первое января. Этой осенью Ангелине не нужно было идти ни в школу, ни в институт, но ее не покидало предчувствие волнующих перемен. Она собирала волосы в пучок, закалывая карандашом, потом распускала снова. Трелью пропел звонок. Девушка на пару секунд замерла – не почудилось ли? Но трель раздалась опять, в этот раз более протяжно и настойчиво. Отцу еще рано возвращаться из института, может, кто-то из студентов?
За дверью стоял Гена, такой неожиданно материальный, широкоплечий, умилительно растрепанный. На его лице читалось смущение, которое, впрочем, быстро сменилось нахальной ухмылкой. Ангелина тоже сначала растерялась, и с минуту они простояли молча. Наконец заговорил аспирант.
– Отец дома? Я тут книжки принес ему вернуть.
– Он еще в институте. Да ты проходи, что стоишь, как неродной. Чаю выпьешь?
Ангелина вынула карандаш из пучка, высвободив волны золотистых волос, и жестом пригласила гостя на кухню.
– Да я буквально ненадолго, мне нужно еще в кооператив забежать…
– Ох уж эти кооперативы, все сейчас состоят в кооперативах, а я ничего в этом не смыслю.
Гена шагнул в коридор и положил стопку книг на тумбочку в прихожей.
– А вот это ты зря! Если у тебя есть свободные деньги, мы можем их сейчас вложить…
– Ха! Какие деньги, Ген, не смеши меня, ну откуда они у меня возьмутся? Ты какой чай будешь, зеленый или черный?
Некоторое время они просидели друг напротив друга за кухонным столом, от которого отходил верхний клеенчатый слой, обнажая спрессованные опилки. Гена рассказывал о своих коммерческих проектах и что собирается наконец купить автомобиль, подержанный москвич. Потом разговор иссяк и аспирант стал поглядывать на часы. Ангелина запаниковала: вот сейчас он уйдет и отправится к Колбаснице и та наверняка вопьется в него как клещ. Свой шанс нельзя упускать. И тут Ангелина сделала то, чего сама от себя не ожидала: пересела на табурет поближе к гостю, взяла руку Гены и положила себе на бедро чуть выше колена. Сердце готово было выпрыгнуть из груди. Аспирант молча смотрел на тыльную сторону своей ладони, как будто на ней было что-то написано или словно она вовсе ему не принадлежала. Но не убирал. Тишина стояла невыносимая, звенящая, слышно было только, как тикают старые настенные часы в отцовской спальне. И как он спит по ночам с этим жестяным тиканьем? Гена, кажется, не дышал. Тогда, не понимая, откуда в ней взялся этот импульс, Ангелина пошла еще дальше: быстро наклонилась и чмокнула Гену в губы, но неловко, так, что попала только в уголок его рта. Аспирант подался было вперед, чтобы ответить на поцелуй, но Ангелина уже вскочила как ошпаренная, схватила со стола кружки, брякнула их в раковину, включила воду на полный напор. Через пару мгновений почувствовала спиной, что Гена встал со стула.
– Ну, я, наверное, пойду…
– Да-да, я скажу отцу, что ты заходил, про книжки отчитаюсь, – наигранно-непринужденно ответила она.
Ангелина тщательно намыливала и без того чистые кружки. Гена неспешно обулся в прихожей и аккуратно закрыл за собой дверь. Девушка достала карандаш из кармана домашних брюк, сломала его пополам и швырнула в угол.
5 (Ангелина)
Ночью Ангелина не могла спать. Было совершенно очевидно, что она все испортила. Какая же дура, господи, с таким же успехом она могла просто раздеться перед ним догола. Живот скручивали болезненные спазмы, хотелось стереть из памяти произошедшее, но унижение только сильнее жгло, разъедало изнутри, как серная кислота. Ангелина провалилась в забытье только к утру, а когда проснулась, поняла, что успокоилась. Что ж, с Геной вышел очевидный прокол, Акела промахнулся, но она все еще достаточно молода и несомненно хороша собой, а на аспиранте свет клином не сошелся. Просто надо больше выходить в люди, возможно, устроиться на работу, и личная жизнь еще сложится. Но после полудня неожиданно зазвонил телефон.
– Привет, это Гена.
– А, Гена, привет. Позвать отца?
– Нет-нет, я тебе звоню.
Ангелина зажмурилась, не веря своим ушам.
– Я слушаю.
– Не хочешь прокатиться? Я выкупил машину, как насчет на смотровую заехать?
– Ну можно.
– Тогда я заеду через двадцать минут.
Ангелина побежала собираться, на бегу чмокнув сидевшего над бумагами ничего не подозревавшего отца.
– Ты куда такая довольная намылилась?
– Да так, пап, с другом увижусь.
Розовое платье-фламинго наконец дождалось своего часа. Оборки соблазнительно играли под расстегнутым тренчем. По дороге на смотровую несколько раз повисало неловкое молчание. Но неловкость скорее забавляла Ангелину. Ее тактика была верна, крепость пала. Гена, неопытный водитель, старался концентрироваться на дороге, но москвич все равно заносило и дергало. Ангелина представляла, как Лариса расстроится, когда Гена перестанет отвечать на ее звонки, и в итоге состарится, всю жизнь играя второстепенные роли и раздавая колбасу в антракте. Ангелина чувствовала, что контролирует ситуацию. Всем было известно, чем обычно занимаются парочки, приезжающие на смотровую, но ей автомобильная прогулка казалась какой-то игрой. Она отпускала колкости насчет гоночных навыков Гены, шутила, что без очков у него вид несколько пролетарский, пародировала отца, восторженно нахваливающего диссертацию любимого аспиранта. Поздно заметила, что под конец поездки Гена сделался мрачным.
На смотровой площадке прямо возле стелы, обозначавшей въезд в город, уже стоял один автомобиль, тоже москвич, цвета морской волны. Привалившись к капоту, обжималась молодая пара: рыжая девушка и невысокий пухлый парень. Гена припарковался поодаль и выключил зажигание. Ангелина заметила, что аспирант смотрит в упор на пухлого и ноздри его раздуваются.
– Ген, все в порядке?
– Это Левашов. – Гена вцепился в руль так, что костяшки пальцев побелели. – Месяц назад он взял деньги на покупку японских холодильников и пропал. А теперь у него новый автомобиль, посмотрите-ка. Жди меня здесь.
Аспирант вышел из машины и направился к парочке. Парень стоял спиной и до последнего не видел Гену, пока рыжая не показала на него пальцем. Аспирант подошел вплотную к Левашову, задал какой-то вопрос, а в следующую секунду замахнулся и въехал кулаком тому в переносицу. Ангелина вскрикнула. Левашов сложился пополам, зажимая нос руками, рыжая громко запричитала. Сквозь пальцы Левашова сочилась темная жидкость, пока он на ощупь открывал водительскую дверь. Гена уже шагал обратно, встряхивая правой рукой в воздухе. Ангелина постаралась успокоить дыхание. Вдруг захотелось запереться в машине изнутри и не пускать Гену, но это была, конечно, глупая идея. Новенький москвич Левашова промчался мимо, прочь от смотровой площадки, выбивая из-под колес шумный фонтан гравия. Гена плюхнулся на сиденье, тяжело сопя. Кожа на костяшках была сорвана, из ранок сочилась, поблескивая, розоватая жижа.
– Болит?
Гена отдернул руку.
– Да ерунда. – Аспирант не смотрел в сторону спутницы. – Дай свой плащ.
Ангелина стянула бежевый тренч, который сшила сама, и подала Гене. Аспирант вышел из машины, распахнул заднюю дверь и аккуратно накрыл сиденье плащом. Встал выжидательно, ничего не говоря. Ангелина все поняла, одернула рюши и залезла на подготовленное место. Гена нырнул следом и сразу же поцеловал ее, горячо, крепко, но почему-то этот поцелуй ощущался как первый удар в драке, а вовсе не как прелюдия к любви. Дальше все произошло грубо и механически. Для Ангелины это был не первый раз, чем она не гордилась, но особо и не стыдилась. На обратном пути она пыталась поддернуть сквозь платье криво сидевшие трусики, оглаживала помятый плащ и не проронила не слова.
– Ну, давай, до скорого.
Гена поцеловал ее в щеку, как младшеклассник, и остался за рулем. Ангелина неловко выползла на дорожку перед подъездом, едва не сломав каблук. Оказавшись в своей спальне, разрыдалась. В произошедшем опять виновата целиком и полностью сама. Это она вывела из себя Гену шуточками, из-за нее он ударил Левашова, а потом был с ней груб, точно с интердевочкой. И конечно, теперь она больше его не увидит.
Но на следующий вечер раздался дверной звонок. На пороге стоял Гена с видом провинившейся собаки и с букетом белых хризантем. Ангелина поплотнее укуталась в шаль и кивком пригласила его войти.
– Слушай, ты извини за вчера… Как-то неловко вышло, я был не в духе…
Казалось, перед ней совершенно другой человек, не тот, кто отвез ее на смотровую площадку накануне, и только засохшая кровяная корочка на костяшках пальцев напоминала о произошедшем.
– Я вот тут тебе еще принес…
Гена извлек из кармана горсть конфет «Ананас» и высыпал на стол. В этот момент Ангелина снова почувствовала контроль над ситуацией, улыбнулась и пошла ставить чайник.
С тех пор они стали видеться два-три раза в неделю. В зависимости от настроения Гены эмоциональные качели то подбрасывали Ангелину в эйфорию, то погружали в страх и неуверенность по поводу будущего. Иногда ей представлялось, что она встречается с двумя разными мужчинами: с застенчивым, мягким аспирантом и молчаливым, жестоким «коммерсом», как прозвала его Суна. Когда Гена бывал не в духе, Ангелине казалось, что она провоцирует проявление не лучших его черт. Иной раз она думала, что они плохо друг на друга влияют. После неудачного свидания с аспирантом она могла целый день пролежать в кровати, как будто из нее высосали все силы. От отца отношения держались в строжайшей тайне. Встречались либо дома у Ангелины, пока отца не было, либо ездили на смотровую. По словам аспиранта, к нему в гости нельзя, так как его мать все время дома.
Межсезонье закончилось быстро, как всегда бывало в городе Б. В октябре уже выпал первый снег, но было понятно, что эта нежная пелена не растает до весны. Ангелина в тот белый день опять поссорилась с Геной и пребывала в скверном настроении. Зазвонил телефон.
– Как ты там, ангел мой? – спросила хозяйка розового платья.
– Да так, опять повздорили с коммерсом, сама знаешь, каким он может быть невыносимым…
Суна ненадолго замолчала, трубку заполнило ее тяжелое дыхание.
– Как раз по поводу него я и хотела с тобой поговорить.
Ангелина напряглась и покрепче прижала трубку к уху.
– Выкладывай. – Ангелину вдруг начало мутить.
– Мы тут с племянником ходили в драмтеатр, на детскую постановку, им в школе давали бесплатные билеты, так бы я никогда не стала тратить время…
– Сун, давай ближе к делу.
Тошнота подло ползла к горлу, но Ангелина подавила рвотный позыв.
– В общем, этот твой был там, я сначала его и не узнала толком, сидел передо мной на втором ряду. Ты же говорила, с Ларисой они расстались?
На самом деле ничего подобного аспирант Ангелине не обещал. После того первого раза на смотровой девушка просто решила, что с Колбасницей покончено, а как могло быть иначе? Они с Геной регулярно видятся, он много крутится в кооперативе и переписывает диссертацию, когда бы ему еще было встречаться с этой актрисулькой? Может, он просто давно купил билет?
– И что?
Если бы они находились в одной комнате, Ангелина отвесила бы Суне подзатыльник, только чтобы та перестала уже нагонять интригу.
– Великодная тоже играла в этой постановке. На поклон актеры выходили дважды невесть почему, спектакль-то на редкость убогий. На втором Гена преподнес этой мыши букет белых хризантем. После спектакля я не уходила от театра, ждала, хотя племянник и ныл нестерпимо. В общем, выкатились они вместе, держась за ручки, она довольная, висла на нем… Ох, не люблю быть гонцом с дурными вестями!
После того звонка Ангелина стала избегать Гену. Не вскакивала на дверные звонки и не подходила к телефону. Аспирант звонил часто. Отец говорил с ним подолгу. Но попросить Ангелину к трубке Гена, должно быть, не решался.
– Вот зачастил мне трезвонить с вопросами! – радостно сообщал отец. – Кажется, Генка снова взялся за ум, не бросит диссертацию!
– Это отлично, пап.
Через пару недель аспирант оставил попытки выйти на связь. Ангелина практически не покидала дом, разве что бегала пару раз в ближайший магазин тканей. Ей всегда нравилось шить и вязать, она даже подумывала пойти на курсы, чтобы стать профессиональной закройщицей или даже «дизайнером». Она уже взяла несколько заказов от подруг. Но в первый день календарной зимы вдруг поняла, что, увлекшись шитьем, забыла про свой «женский календарик», который ее еще в школьные годы научила вести тетка. Задержка была уже больше двух недель. Еще неделю Ангелина провела в отрицании, ничего не предпринимая. Но после похода к врачу сомнений не осталось. Ангелина решила, что, собственно, это не должно быть только ее проблемой, и позвонила Гене. Аспирант долго не подходил к телефону, а когда взял трубку, Ангелине показалось, будто тот только проснулся, хотя и вечер еще толком не начался.
– Алло, кто это? – в трубке фоном слышались еще какие-то голоса.
– Привет, это Ангелина. Нам нужно… Есть, в общем, разговор.
– Прямо сейчас? Не лучшее время. И куда ты пропала на целый месяц?
– Чем скорее, тем лучше. Желательно лично. Неважно, где я была.
На другом конце провода Гену окликнул сахаристый женский голосок. В ответ тот шикнул.
– Ладно, я заеду через час, – буркнул он. – Жди внизу.
Ангелина долго стояла перед зеркалом. Казалось, зарождающаяся внутри жизнь уже забирает ее красоту и молодость – цвет лица был тусклым, лоб прорезала напряженная продольная морщина. Впрочем, сейчас она и не хотела выглядеть свежей, пусть он видит, на что ее обрек. Намеренно не стала краситься. Повязав серый платок вокруг головы, она стала почти похожа на святую мученицу.
Двор слабо освещался одним покосившимся фонарем, холод стоял зверский, а Гена все не ехал. Медленно падали серебристые снежинки, где-то выла собака. Наконец вдали показались желтые фары его машины, как сверкающие в темноте глаза какого-то хищника. Подъехав, аспирант открыл пассажирскую дверцу.
– Привет, садись.
Вид у него был растерянный. Он протянул Ангелине три красные гвоздики и целлофановый пакет конфет «Ананас».
– Привет, спасибо.
– Как ты?
– Давай отъедем куда-нибудь, отец может скоро вернуться.
До площадки на набережной они доехали молча, так же молча просидели в машине еще минуты две. Ангелина все терла колени ладошками, язык ощущался шершавым камнем во рту. Хэйхэ мигал рядами редких огней за темными водами Амура, такой близкий и далекий одновременно. Гена усмехнулся и попробовал начать разговор.
– Все не знаю, как сказать твоему отцу, что не буду защищаться. Кормлю его завтраками, мол переписываю две главы, и так уже второй месяц. Я вообще забыл, если честно, о чем моя диссертация и для чего я ее писал.
Ангелина молча смотрела перед собой. Она достала один «Ананас» из пакетика и осмотрела, как будто видела такие конфеты впервые. Тогда аспирант попытался поцеловать ее в губы.
– Я беременна, – сказала Ангелина, резко отвернувшись.
Гена отпрянул и схватился за лоб. Выдержал паузу. Потом сказал холодным, саркастичным тоном:
– И что прикажешь мне с этим делать?
Ответ разозлил Ангелину. Она сощурилась на аспиранта.
– Как что? Жениться на мне, конечно, – отрезала она, сама не до конца понимая, говорит в шутку или всерьез.
– Ангелин… Я уже сделал предложение своей девушке.
Ангелина не поверила своим ушам. Рассмеялась злобным, безумным смехом.
– С девушкой? С этой Колбасницей из драмтеатра? А я тебе кто? Приятель дядя Ваня из соседнего подъезда?
– Ангелин… Не начинай, пожалуйста.
– Не начинай? Я беременна, беременна от тебя, тебе как еще это сказать – на китайском?
Гена водил рукой по рулю и рассеянно вглядывался в огни Китая, как будто оттуда могли прийти какие-то подсказки.
– Ты хочешь оставить ребенка?
Ангелина не была готова к этому вопросу. В голове звенело, живот крутило, никакого плана у нее не было. Но она не собиралась упрощать задачу этому засранцу.
– Отвези меня домой.
– Ангелин…
Гена попытался взять девушку за руку, но та отдернула ее так резко, что ударилась локтем о приборную доску.
– Я сказала, отвези.
Аспирант молча завел машину и медленно двинулся обратно к дому Ангелины. Высадив ее у подъезда, он опустил стекло с пассажирской стороны, наклонился и сказал сухо, формально, как будто объявлял приговор в суде:
– Лариса тоже беременна. Я женюсь на ней. А твой ребенок, вероятно, вообще не от меня.
И уехал, оставив Ангелину, сжимавшую в руках платок, три гвоздики и пакет конфет, на холоде у подъездного крыльца. Какое-то время она вслушивалась в звуки проезжавших за домом машин, почему-то ожидая, что Генка вернется, потом пошатываясь побрела к себе.
6 (Ангелина)
В тот день Ангелина легла в кровать и практически не вставала семь недель. На третий день у нее уже не оставалось сил регулярно преодолевать путь до туалета, поэтому она поставила рядом с кроватью ведро и вытаскивала его ночью, пока отец спал. Отца Ангелина не пускала в комнату, объявив, что болеет «по женской части», но лечится в соответствии с указаниями врача и ей нужен покой. Первое время девушка питалась только конфетами «Ананас», но на вторую неделю стала брать по ночам немного еды с подноса, который отец регулярно оставлял для нее за дверью. Так Ангелина пропустила развал Советского Союза, встречу нового, девяносто второго года, открытие границ с Китаем и новость, что тетка в реанимации. Конечно, она думала об аборте, но одна мысль, что придется одеться, сесть на автобус и доехать до женской консультации, где нужно что-то рассказывать и лежать в холодном гинекологическом кресле, приводила ее в ужас. Она представляла, что сможет избавиться от ребенка сама, не физически, а силой мысли, как в детстве вызывала рвоту после съеденного невкусного блюда. Воображение рисовало мокрый матрас, кровь, которая вылилась бы из нее, очищая нутро, исторгая инородное тело. Ангелина часто откидывала одеяло в надежде увидеть багровую лужу, но постель оставалась сухой.
День и ночь смешались в одно, Ангелина проваливалась в сон на несколько часов, когда придется, а по ночам прислушивалась к ощущениям в животе, напрягала пресс, скрещивала ноги, давая мышцам команду задушить плод. Ей казалось, что она уже ощущает какое-то шевеление внутри, как будто проглотила червяка, и тот пытается устроиться поудобнее. Иногда включала телевизор, когда шла «Санта-Барбара» на «России». Однажды краем уха услышала, что, согласно новым исследованиям, клубника содержит некий токсин, который крайне вреден для беременных и может вызвать негативные последствия для плода, вплоть до остановки сердца. В тот же день она отправила отца на поиски редкой ягоды, и к вечеру Григорий Витальевич, обрадованный тем, что дочь снова проявляет интерес к еде, вернулся нагруженный невесть каким образом найденными посреди зимы полутора килограммами китайской клубники. Ягоды были безвкусные, будто пластиковые, и Ангелина давилась ими, не всегда успевая оторвать черенок. После ее начало тошнить красной кашей, и она была рада скрючиться у унитаза. Ангелине казалось, что сейчас жизнь внутри нее непременно замрет.
Исторгнув из желудка все без остатка, она лежала, вспотев и откинув одеяло, с салфеткой в руке, и не то бредила, не то видела сон. У нее родится дочь. Вот они стоят за домом в Возжаевке, дует легкий ветерок, дочь оборачивается и смотрит на нее зло. Почему-то девочка родилась сразу подростком, она красивая, у нее золотистые локоны, как у матери, на ней зеленое летящее платье. Дочка обижена на Ангелину за что-то, она это чувствует. Ядовитое ощущение вины внутри… Ну конечно, она не стала хорошей матерью, а еще пыталась убить ее в утробе. Прости меня, доченька, дуру такую! Ангелина хочет броситься к девочке, приобнять ее, но та ускользает из рук, растворяется как дым. Вот они уже в другом месте, незнакомом, на какой-то длинной витиеватой улице, вокруг проплывают, мигая огоньками, вывески на китайском. Ангелина понимает, что это Хэйхэ, хотя ни разу там не была. Они с дочкой куда-то идут, кажется, повидаться с Геной. Это Ангелину радует, Гена обязательно поможет. Почему они все в Китае?
Краем глаза Ангелина замечает, что теперь рядом с ней идет мальчик-китаец. Он ведет за руку ее дочь, только цвет волос у нее поменялся, он стал огненно-рыжим. Ангелина пытается отодвинуть незнакомого мальчика, но тот упирается, и они с ее дочкой ускользают в темный вход какой-то лавки. Ангелина бросается за ними и оказывается внутри просторного пустынного рынка. Сколько хватает глаз тянутся торговые ряды. Ангелина заглядывает в корзинки на прилавках – там везде клубника. Сжимает в кулаке салфетку, бежит между рядами в поисках китайца, хочет позвать дочь, но не может вспомнить, как ее зовут. В груди разливается холодный ужас – как она могла забыть имя дочери? Ангелина добегает до крайнего прилавка – и вдруг оказывается на стадионе около первой школы в городе Б. Класс занимается физкультурой. Ангелина знает, что где-то там ее дочь, им нужно поговорить. Вот она, ее девочка, последняя в шеренге, только она теперь брюнетка. Она о чем-то шепчется с подругой, девочки показывают пальцами на Ангелину и смеются. Как неловко… Вот обе поворачиваются к Ангелине, и та сдавленно вскрикивает во сне от ужаса: девочки похожи, как близнецы… У них лица Ларисы Великодной, покрытые актерским гримом. Одна точно ее дочь, а другая – самозванка. Ангелина не знает, как их различить. На поле выходит женщина-физрук и направляется к Ангелине. Сейчас ее выгонят со стадиона, и она так и не сможет поговорить, объясниться со своей девочкой. Женщина в спортивной форме приближается, и Ангелина понимает, что физрук – ее тетка. Но как она может быть физруком, она же хромая?
– Ну и вонища у тебя тут, конечно.
Ангелина открывает глаза, щурится на свет и видит нависшее лицо реальной Марины. Наверное, запашок в комнате и правда стоит тот еще.
– Отец сказал, что ты второй месяц с постели не встаешь. А тут еще и отравилась. Давай выкладывай, что у тебя. Что врач говорит?
Марина споро наводит порядок в комнате: кидает три засохшие гвоздики в мусорный пакет, выметает из-под кровати гору фантиков, выносит ведро, тянет из-под Ангелины простыню, чтобы поменять постельное белье. Марина всегда вдруг становится очень энергичной, когда кому-то нужна ее помощь. Даже если лежит в реанимации, но слышит, что кто-то заболел и требует ухода, может хоть пешком дойти до города Б наперевес с капельницей.
Ангелина молчала, отвечать тетке не хотелось.
– Ну что ты отца опять терроризируешь? Лежишь тут хандришь? Мальчик, что ли, бросил какой? Температуры у тебя нет. – Марина приложилась горячими губами к сырому лбу Ангелины. – Давай одевайся, пойдем воздухом хоть немного подышим.
Ангелина встала и медленно открыла протяжно проскрипевшие створы платяного шкафа. Начала механически доставать с полок вещи, которые не надевала уже семь недель. Одежда выглядела чужой, как будто Ангелина забралась в чью-то спальню и ищет там наряд. Марина шаркала хромой ногой, бормотала что-то себе под нос. Дотянулась, открыла форточку.
– Что тебе врач прописал? Ты что-то принимаешь?
Ангелина натянула любимые облегающие джинсы и поняла, что не может застегнуть пуговицу. Девушка стояла посреди комнаты, с удивлением рассматривая свою слегка оплывшую талию. Марина обернулась и прищурилась. Щеки у Ангелины впали, руки стали похожи на палочки, но живот… Тетка рухнула в кресло.
– Боже мой, боже мой… – запричитала она, отстукивая какой-то ритм косолапой ступней.
Ангелина упала на кровать и завыла как раненое животное. Марина тут же собралась, встала и подошла к племяннице, почти не хромая.
– Ну-ну, девочка моя, не плачь… Тсс, ну ничего. – Марина гладила свернувшуюся в позе эмбриона Ангелину. – Какой срок? Отец в курсе?
Ангелина обратила набрякшее от рыданий лицо к тетке и сверкнула на нее безумным взглядом. Марина перекрестилась и отшатнулась от постели.
– Мне не нужен этот ребенок! Я его отравила, а если еще живой, то убью! – прошипела Ангелина.
Марина схватила племянницу за запястья.
– Никогда, слышишь меня, никогда не говори так! Это грех! Ребенок не виноват, он ничего тебе не сделал! – Голос Марины загудел, она крепко стояла на ногах, глаза покраснели.
Под тяжелым взглядом тетки Ангелина опомнилась, скривилась и опять начала тихонько всхлипывать.
– Рин, Рина, мне просто очень страшно…
Так Ангелина называла тетку только в детстве, еще до того, как у них испортились отношения. Услышав свое давно забытое прозвище, Марина смягчилась, взяла Ангелину в охапку, как младенца, и начала слегка покачивать.
– Мы со всем справимся, со всем справимся вместе. – Марина вытерла племяннице нос платком. – Сейчас я тебе свитерок дам, и в больницу, там тебя посмотрят.
До областной доехали молча. Добродушный усатый дядечка крутился в своем кресле и молниеносно что-то писал в новенькой, только что заведенной карте. Ангелина не моргая смотрела в одну точку, туда, где сходились углами настенные кафельные плитки. Она была почти уверена, что убила ребенка.
– Абсолютно здоровый плод, никаких нареканий. А вот будущей мамочке стоит побольше гулять на свежем воздухе и получше кушать. – Доктор цокнул языком и подмигнул пациентке, и Ангелина подумала, что ему больше подошло бы быть педиатром, а не гинекологом.
– Но клубника… Я вчера съела очень много клубники…
Доктор рассмеялся.
– Вы уже третья пациентка за сегодня с этой клубникой, поменьше телевизор смотреть надо! Они там такое придумают! Каждую неделю что-то новое! А ко мне потом очередь на два этажа из дамочек ломится на успокоительную сессию со своими страхами! А я меж тем не психотерапевт, образования соответствующего не имею! – Усатый переглянулся с Мариной, будто они вдвоем учили уму-разуму нашкодившего ребенка, но несерьезно, а так, в шутку.
Прерывать беременность на таком сроке было опасно, да и Ангелине после случая с клубникой перехотелось вмешиваться в естественный и загадочный процесс создания жизни. Что-то внутри переключилось, и она, наоборот, стала вести себя очень осторожно. Не поднимала тяжестей, регулярно ела, выходила на прогулки строго по расписанию, садилась и ложилась аккуратно, как будто боялась расплескать наполненный до краев стакан воды.
Душной июльской ночью Ангелина родила абсолютно здоровую девочку. В какой-то момент сквозь тягучую боль схваток она расслышала, как врач потусторонним голосом позвал медсестру: «Пуповина обвилась вокруг шеи. Быстро, сюда». В ту минуту Ангелина подумала, как было бы хорошо, если бы ребенок сейчас умер. Но тотчас же испугалась и отогнала от себя ужасную мысль. Марина всю беременность племянницы ходила молиться за нее и ребенка в сельскую церковь, и тамошний батюшка наказал Марине назвать девочку Марфой. Ангелина еле уговорила тетку хотя бы на Марту.
На выписке из роддома Ангелину встречал Гена с огромной охапкой белых хризантем. Сунул букет, чмокнул в щеку, на дочь не посмотрел и умчался по делам.
7 (Джинггуо)
Ван Джинггуо родился ровно в полдень, тридцатого декабря, в год Черной Водяной Обезьяны. Когда его матери, двадцатидевятилетней Ван Минчжу, положили на грудь младенца, она заметила, что кулачки у мальчика белые, как мел, по контрасту с красновато-синюшной кожей на всем остальном теле. Как будто ребенок появился на свет в белых перчатках. «Сяо Юй – "мой джентльмен"», – ласково прошептала Минчжу. «Возможно, это витилиго», – сердито отчеканила старая акушерка с очень глубокой продольной морщиной на лбу, похожей на шрам от удара топором, и унесла ребенка. Но через три дня цвет кожи мальчика выровнялся, и, не имея никаких иных нареканий к состоянию новорожденного, врачи отпустили мать с ребенком восвояси.
Минчжу так и продолжала называть сына Сяо Юй. Джинггуо и правда рос джентльменом: почти не плакал, послушно брал грудь, аккуратно приподнимал ножки, когда Минчжу меняла ему пеленки, подавал руку, когда нужно было вдеть ее в рукав – Сяо Юй все делал так, чтобы матери было удобнее. Детская была обустроена там же, где жила мать: за фанерной перегородкой в большом складском помещении, которое в хорошие годы также превратилось в рынок. После того как отец Джинггуо оставил Минчжу это помещение в качестве отступного, она усердно работала день и ночь, чтобы превратить промерзлую коробку на берегу реки Черного Дракона в процветающий бизнес. Мать Джинггуо никогда не была привередливой: единственная дочь крестьян из далеко не самой богатой провинции Хэйлунцзян, она с семи лет была приучена к подъему с первыми петухами, тяжелому труду и непритязательному жилищу.
Перебравшись в восемнадцать лет в Хэйхэ, Минчжу бралась за любую работу, которая подворачивалась. Она исправно отсылала деньги родителям с почтительной просьбой отцу не играть на них в карты, понимая, что он все равно ее не послушает. Должность на складе Минчжу получила случайно: у ее соседки Тедань уже был опыт работы, но ее отцу-диабетику сделалось плохо и Тедань пришлось срочно уехать в деревню. За несколько лет Минчжу стала фактически управляющей складом: владелец, обладатель самых толстых пальцев из всех, что Минчжу когда-либо видела в жизни, пятидесятилетний Ли Ян, уже давно жил в Харбине и доверял Минчжу устанавливать цены, собирать деньги, ремонтировать склад и прочее.
Бум торговли девяносто первого – девяносто второго с городом Б пришелся на время, когда Минчжу уже пять лет как управляла складом. Большинство местных воспринимали бизнес с русскими как противостояние, а это значило, что с круглоглазых «лаоваев» надо брать как минимум двойную цену за товар или услугу. Если существует в природе ген обостренного чувства справедливости, то он точно достался Ван Минчжу. По непонятным для окружающих причинам Минчжу отказывалась как-то обманывать русских и устанавливала для всех равные цены, в то время как ее собратья по бизнесу завышали цены на триста процентов и агрессивно торговались за каждый юань. Из-за отсутствия солидарности со своими Минчжу сыскала себе немало проблем и дурную славу среди местных торговцев, но хорошую репутацию среди предпринимателей из-за реки. Когда бизнесмен-лаовай выкупил склад, Минчжу легко с ним сработалась: к этому времени она подучила русский до вполне беглого разговорного. Помимо этого, она была на своем складе эффективна и органична, погрузкой и отгрузкой командовала, как бывалый русский старшина. Ее профессионализмом и практичностью нельзя было не восхититься.
Однажды новый хозяин помещения опоздал на последний вечерний паром в город Б и решил проконтролировать приемку мелкой бытовой техники на складе. Тедань тогда только открыла свою чуфаньку, небольшой ресторанчик неподалеку, он назывался «У Наташи», и Минчжу предложила боссу там поужинать. Стол ломился от огромных порций дымящихся побегов чеснока, хэйхэйской закуски, чисанчи и габаджоу. Заливалось это все пивом «Харбин», а к яйцам в карамели пошла местная водка.
Минчжу нельзя было назвать красивой: грузная, коротконогая, с простым, грубоватым лицом. Но была у нее одна привлекательная черта: удивительного нефритово-зеленого цвета глаза, которые при определенном освещении становились медово-желтыми, а когда Минчжу уставала, походили на затянутое тиной болотце. Правда, необычный цвет глаз доставлял неудобства: суеверные деревенские называли Минчжу ведьмой. Соседские мальчишки каждый раз, завидев зеленоглазую, изображали ужас, наигранно отпрыгивали в стороны, тыча в нее пальцами. Словно дурнота, подступала ярость, у Минчжу кружилась голова, она с трудом загоняла внутрь злые пожелания, которых, по правде говоря, мальчишки заслуживали. Что-то подсказывало Минчжу, что эта ярость, усиленная словом, однажды обернется горем и гибелью. Она чувствовала, как где-то в душе зреет потусторонняя сила. Иногда ей казалось, что ее желания, не только злые, но и вообще все, сбудутся, стоит только захотеть. Минчжу боялась сама себя. И в конце концов научилась не хотеть ничего для себя. Только делать тяжелую работу. Только служить родителям.
Еще Минчжу была тактична, вежлива и дружелюбна. Ее ненавязчивое очарование проникало в сознание медленно. После нескольких стопок семидесятиградусной водки русский это очарование ощутил и оказался в закутке у Минчжу на складе. Так и повелось, что время от времени круглоглазый босс опаздывал на последний паром и оставался ночевать за перегородкой у Минчжу.
Бизнес босса развивался быстро, и вскоре он уже оформлял поставки товара напрямую из Гуанчжоу, все меньше нуждаясь в складе в Хэйхэ. Когда Минчжу забеременела, он переписал на нее помещение и сказал, что, вероятно, теперь будет появляться нечасто. Минчжу кольнула чисто женская обида – за рекой у русского, конечно, кто-то был, она, такая невзрачная, и не рассчитывала ни на что, но все равно стало неприятно. Однако не в деятельном характере Минчжу было долго хандрить. Вскоре легкая обида сменилась растущей день за днем благодарностью – ведь русский, по сути, подарил ей целый бизнес, который можно было продать, а на вырученные деньги купить в родной деревне новый дом родителям и себе коттедж отстроить. Но после на удивление легких родов Минчжу решила пока что оставить склад и не возвращаться в деревню и вообще какое-то время не посвящать родителей в обстоятельства своей жизни в городе.
Любовь к сыну была всепоглощающая, обескураживающая, единственная любовь, которую было суждено испытать сердцу Минчжу. Образ русского, не появлявшегося с шестого месяца беременности, начал постепенно затуманиваться в памяти. Бизнесмен из-за реки превращался в абстрактного благодетеля, подарившего собственное дело и удивительное чудо материнства, ее маленького джентльмена. У Минчжу сохранилась одна фотография босса, с его адресом и номером телефона на обороте, но в связи с ним не было особой необходимости. Переоборудовав склад под торговый центр и одновременно оптовую базу, Минчжу не без труда, но все же за три года заработала на первый взнос на светлую двухкомнатную квартиру недалеко от строящегося на набережной парка, куда они перебрались с Джинггуо еще до окончания ремонта.
На складе всегда кто-то мог присмотреть за сыном: уборщица Бинбин, арендаторы и клиенты Минчжу из категории «любимых», ночной сторож Чжинмин, антиквар Ливэй. Когда Сяо Юю было шесть лет, Минчжу решила, что нужно как-то подружить мальчика со сверстниками перед началом школы, и отвела его на ближнюю футбольную площадку, где под присмотром бабушек играли дошколята и младшеклассники. Когда Минчжу вернулась за сыном спустя пару часов, она с удивлением обнаружила, что мальчик сидит в углу за воротами один и раскладывает какие-то узоры из камней.
– Почему ты не играешь с остальными детьми?
– Я им не нравлюсь.
– Это кто сказал?
Джинггуо не дал ответа. Но мать почувствовала, что мальчик был прав. Конечно, ее маленький джентльмен не мог быть таким же, как и все вокруг. Он особенный, это было ясно с первой минуты его жизни. С того дня Минчжу стала часто заставать Джинггуо перед узким зеркалом, висевшим в слабо освещенной ванной комнате. Сяо Юй медленно поднимал пальцами верхние веки к бровям, морщил нос, поджимал губы, таращился на свое отражение. Минчжу знала, каково это, когда тебя не принимают сверстники: из-за цвета глаз в родной деревне ее называли «ребенком злых духов», не приглашали на праздники и обходили стороной.
В школе со сверстниками у Джинггуо тоже не заладилось. Зато он стабильно приносил домой, на радость матери, красочные, не по возрасту искусные рисунки. Художественный талант был первым, который выявился у Сяо Юя. По всем остальным предметам учителя тоже хвалили Джинггуо, но отмечали, что он держится отдельно от других детей. Второй талант сына Минчжу, талант переговорщика, выявился постепенно.
Компенсируя отсутствие общения с одноклассниками, Джинггуо водил дружбу с продавцами торговых рядов на складе матери. Больше всего мальчику нравилось проводить время за прилавком у Ливэя. Глаза старика, поблескивающие из-под невероятно длинных седых бровей, всегда как будто смеялись, пока он раскладывал на столе статуэтки из нефрита, крупные эмалированные браслеты, брелоки, инкрустированные камнями, резные карманные зеркальца. Ливэй иногда доверял Джинггуо упаковку статуэток в коробки и пупырчатую пленку, наклеивание ценников и пересчет нового товара. По утрам Ливэй практиковал гимнастику тай-чи на площадке перед складом вместе с несколькими другими стариками из округи. Иногда Сяо Юй подражал плавным неторопливым движениям их рук. Еще было очень уютно сидеть на картонке под прилавком Ливэя у обогревателя, рассматривать при свете пыльного ночника переливы каменьев на затейливых безделушках, пока за стеной склада выла метель и лежал метровый слой пухового снега. В один холодный декабрьский день старенький обогреватель похрустел-похрустел и выключился. Джинггуо тогда было одиннадцать лет. Ливэй потряс старый агрегат, убедился, что возвращаться к жизни он не желает, потер свои мохнатые брови большим и средним пальцами и сказал мальчику:
– Сходи до хромого Дзюто в конце третьего ряда, спроси, почем он отдаст обогреватель.
Джинггуо был очень рад получить важное взрослое поручение. Побежал вприпрыжку до торговавшего мелкой бытовой техникой Дзюто, у которого одна нога была короче другой. Продавец встретил сына хозяйки слегка настороженно.
– Зачем тебе обогреватель?
– Ливэю нужен.
– Я могу отдать подержанный за два браслета от Ливэя для дочерей и резное зеркало для жены. Только браслеты должны быть красивые.
Джинггуо поскакал обратно до прилавка Ливэя.
– Ишь ты, подержанный за два браслета и зеркало! Скажи ему, что за мои изделия полагается новый обогреватель!
Мальчик отправился обратно к продавцу техники. В этот раз он шел неторопливо, продумывая речь, которая убедит Дзюто дать хороший новый обогреватель. Он чувствовал, что может договориться о выгодной сделке, чтобы Ливэй был доволен.
– Ну что сказал старик по поводу браслетов и зеркала?
Джинггуо подумал пару секунд.
– Он сказал, что даст лучшие свои браслеты, но хочет за них новый обогреватель.
– Старик не дурак! – Дзюто похлопал по своему лысеющему плоской лужицей темечку. – Слушай, пацан, твоя мать говорила, что будет перестановка рядов… Я тут сижу в самом конце – непроходное место, мне бы поближе ко входу, где народ больше кучкуется, можешь за меня попросить? И будет тогда тебе новый обогреватель.
Джинггуо побежал в их с матерью бывшее жилище, которое к тому времени уже было переоборудовано под кабинет, – мать сидела за широким столом, на котором с двух сторон стояли кадки с искусственными цветами, и перебирала чеки. В кабинете Минчжу обычно был кто-то из арендаторов, поставщиков или рабочих – на складе все время нужно было что-то чинить. Со всеми мать разговаривала командным тоном, и не всем это нравилось, и они начинали угрожать матери в ответ. Но в этот раз хозяйка склада была одна.
– Чего тебе, Сяо Юй?
– Мама, ты будешь переставлять прилавки местами?
– А тебе какой в этом интерес?
– Дело есть одно. И для этого дела нужно дать Дзюто прилавок поближе ко входу.
Минчжу оценила серьезный настрой мальчика, увидев в его поведении деловую хватку, доставшуюся ему, видимо, по наследству. Она подошла к Джинггуо и потрепала его мягким, слегка отливавшим медью темным волосам.
– Ну хорошо. Не знаю, какое у тебя там дело, но можешь пообещать Дзюто, что мы что-нибудь придумаем.
Таким образом Джинггуо провернул свою первую сделку. С тех пор, почувствовав вкус к переговорам, Сяо Юй постепенно стал кем-то вроде теневого администратора торгового центра – он собирал пожелания арендаторов и передавал их матери, получая от клиентуры в подарок безделушки, которые потом продавал в школе или обменивал на ответы на контрольные.
К четырнадцати годам Джинггуо вытянулся и возмужал лицом: крупные миндалевидные карие глаза с изумрудным отливом смотрели прямо, с хитрецой. На фоне одноклассников Сяо Юй выгодно отличался прямым тонким носом, какой обычно рекламируют в качестве идеального результата пластической хирургии, и четко очерченным подбородком. Как минимум три одноклассницы, по прикидкам Джинггуо, были влюблены в него по уши. Девочки чуть ли не до драки спорили, у которой из них Сяо Юй возьмет тетрадку, чтобы списать. За пару лет у Джинггуо сложились отточенные схемы получения ответов на контрольные для дальнейшей продажи. Ночной сторож Джинмин со склада подрабатывал в школе. Однажды Джинггуо застал Джинмина поздно вечером в торговых рядах за мелким воровством сухофруктов и конфет. За то, что Джинггуо сохранил секрет, Джинмин ранними утрами приходил в учительскую и переписывал на небольшие листки ответы к тестам. Помимо этого, у Джинггуо были прикормленные шпионы из параллельных классов, которые сливали информацию, если контрольная проводилась в несколько заходов.
Джинггуо хранил свои источники в строжайшей тайне, а еще продавал ответы выборочно, чтоб махинации не стали очевидны для учителей. Но не одного Сяо Юя привлекало прибыльное дело торговли ответами. В школе промышляли «Тигры», группировка старшеклассников, которые действовали более топорными методами: вскрывали кабинеты и один раз даже выбили стекло на двери в учительскую часть, из-за чего все варианты контрольных в ту неделю были переделаны, и Джинггуо лишился своей выручки. «Тигры» не помнили, что начали травить его еще на футбольной площадке в девяносто восьмом, зато помнил Джинггуо. Для них он был занозой в заднице, «белоручкой»: отказался вступать в их ряды, делиться деньгами и источниками, переходить на их методы.
Предводитель «Тигров», Джэминг, занимался единоборствами. Его переломанные уши напоминали грецкие орехи, а рот был постоянно открыт, так как нос не дышал, опять-таки, из-за многочисленных переломов. В сентябре две тысячи пятого предводитель «Тигров» остановил Джинггуо в коридоре.
– Красавчик, куда спешишь?
– Не твое дело.
– Как дерзко сын потаскухи выражается, ребята, посмотрите-ка! – Джэминг оскалился в ухмылке, остальные «Тигры» послушно закивали, скривив рожи.
– Что тебе нужно, Джэминг?
– Химия к концу следующей недели. Я знаю, ты можешь достать. И не отнекивайся, иначе твоя смазливая рожа будет разукрашена так, что бабы надолго перестанут по тебе сохнуть.
С химией было сложно во всех отношениях, примерно как Джэмингу с его рожей заполучить девчонку, не прибегая к угрозам. Учитель химии носил ответы на свои контрольные в буром кожаном портфеле, с которым не расставался. Минчжу расценила мрачное настроение сына как признак начала пубертата.
– Это пройдет, мальчик мой. Не обращай внимания на бездарей в своей школе, если они травят тебя из зависти, – ты красив, ты талантлив, и тебя ждет большое будущее. И вообще, может, переведем тебя в другую школу?
– Не надо, мама.
– В любом случае я выпишу тебе хорошего учителя русского из города Б. Однажды ты поедешь туда и выразишь свое уважение отцу. Возможно, ты даже станешь управляющим в его большом бизнесе.
Отношение к фантомному русскому отцу менялось по мере взросления. Джинггуо то вместе с матерью предавался мечтаниям о некоем прекрасном мистическом благодетеле, встреча с которым однажды внесет в их жизнь полную гармонию, то был на него страшно зол за свою судьбу бастарда смешанной крови, вынужденного наблюдать, как мать гробит себя, работая за четверых. В последнее время ему было все равно – мужчина из-за реки не знал его, никак не влиял на его дела и планы, только создавал дополнительный повод раздражаться на мать. Минчжу никогда не уделяла слишком много внимания своей внешности, но в последние годы резко состарилась и загрубела от тяжелой работы в торговом центре. Ее глаза все реже бывали нефритово-зелеными и все чаще – блеклыми.
В том сентябре Джинггуо принципиально не стал доставать Джэмингу ответы по химии. «Тигры» поджидали его на поросшей травой футбольной площадке, где восемь лет назад Сяо Юй раскладывал узоры из камней. Стояло прекрасное запоздалое, как говорят русские, бабье лето, дул теплый ветерок. Мягкие предзакатные лучи подсвечивали проволочное ограждение площадки.
Джэминг стоял в боевой стойке посреди поля.
– Он мой, не трогай! – гаркнул он, щурясь, развалившимся на траве «Тиграм», которые, впрочем, и не особо рвались в бой.
До того дня Сяо Юй ни разу не дрался, впрочем, назвать дракой то, что произошло дальше, можно было только с очень большой натяжкой. Перед лицом Джинггуо блеснул, будто солнечный зайчик, кастет. Сяо Юй потянулся схватить рукой что-то в воздухе, как будто срывая простыню с сушилки или совершая движение тай-чи, чем вызвал гогот «Тигров». Пара ударов – и кусок железа окрасился багровым, с него закапало. Сяо Юй сглотнул кровь вместе с осколком переднего зуба. Следующий удар его ослепил – на месте носа вспух шар боли. Джэминг схватил Джинггуо за волосы, задрал ему голову, прокричал в лицо, брызжа слюной:
– Ну как, сын потаскухи, нравится, как разукрасили твою сладкую мордочку?
Джинггуо хотелось скрежетать зубами, но не получалось. Почему-то в этот момент он вдруг вспомнил об отце, которого видел только на одной-единственной зернистой фотографии. Снимок был нечеткий, но Джинггуо представилось, что отец высокий и широкоплечий, что он стоит на этой площадке и не отводя глаз смотрит на избиение сына. Не двигаясь с места. Джинггуо попробовал плюнуть в лицо своему мучителю, но смешанная с кровью слюна лишь растеклась по подбородку.
На следующей неделе Минчжу, не переставая причитать, организовала перевод Джинггуо в частную школу. В декабре приезжала большая делегация школьников из города Б, и многие пришли в торговый центр матери перед обратным паромом, чтобы накупить безделушек. Все еще немного помятый Джинггуо прятался в кабинете матери, но Ливэй рассказал, что было много красивых девушек. Когда лицо Сяо Юя зажило, оно вдруг стало ему больше нравиться. Как будто до этого его черты принадлежали кому-то другому, а теперь он отвоевал их себе, заслужил и вылепил собственноручно. Кожа на скулах загрубела, на носу образовалась едва заметная горбинка, которая тем не менее неуловимо добавляла Джинггуо мужественности.
В выходные из города Б приезжала тучная Светлана Викторовна – преподавательница русского языка, от которой всегда пахло молоком и выпечкой. Язык давался Джинггуо сам собой, без особых усилий, и в этом был, пожалуй, его третий талант. Тем временем Сяо Юй продумывал дальнейшие варианты зарабатывания денег. По рассказам арендаторов матери, с тем же товаром в городе Б можно было рубить в несколько раз больше, если заполучить козырную точку.
8 (Лариса)
Лариса Великодная очень боялась не восстановить фигуру после родов. Иногда ей хотелось иметь профессию, никак не связанную с внешним видом, офисную работу, как у сводной сестры Любы. Хочешь – толстей на двадцать килограммов, хочешь – худей на столько же. Пока влезаешь в офисное кресло, всем все равно. Да даже если перестанешь влезать, всего-то придется купить кресло побольше. Но Лариса выбрала актерское ремесло. Здесь твое тело все время рассматривают, оценивают, помещают в жесткие рамки.
Близких отношений со сводной сестрой у Ларисы так и не сложилось, они не очень ладили с самого детства. Слишком непохожие во всем они получились, будто не от разных отцов, а с разных планет. Словно и ДНК у них общей не было: Люба светленькая, долговязая, Лариса – черноволосая, невысокого роста. Прямые брови Любы всегда были слегка нахмурены, как полагается серьезной девушке, круглой отличнице. Брови Ларисы, с резким изломом, всегда будто бы выражали изумление. Младшая сестра часто теряла нить объяснения на уроках, витала в облаках и блистала во всей без разбору самодеятельности: танцы, вокал, театр. Старшая всегда шарахалась от мальчиков. А у Ларисы уже в средних классах появлялись поклонники, как правило парни постарше, с которыми она тайком от родителей убегала по вечерам в кино и целовалась на набережной. Люба при этом никогда не упускала возможности заложить родителям младшенькую, по поводу и без.
Хорошо, что Люба сразу после выпускного улетела в Москву и там обосновалась. Само присутствие старшей сестры в городе Б мешало бы Ларисе даже просто выходить на сцену. Лариса верила в свой актерский талант, но пока ее задвигали на глупые второстепенные роли, ставили раздавать колбасу в антракте… Правда, унизительную обязанность окупила встреча с будущим мужем. Именно благодаря шутливой сценке в антракте у Генаши появился повод рассмотреть ее поближе, заговорить, спросить, что она делает после спектакля. Так что все сложилось не так уж и плохо.
Генаша… С ним Лариса вытянула счастливый билет. Гена был для всех в ту пору олицетворением нового времени – бизнесмен, скорее персонаж «Санта-Барбары», чем вчерашний аспирант, еще недавно сдававший, как и все, основы марксизма-ленинизма. Нет, за Генашей и такими, как он, несомненно, было будущее: муж будто по запаху определял, куда скоро рекой потекут деньги, какая ниша не занята, где будет спрос, с кем и о чем нужно договориться для сделки. Он не боялся бандюков, везде имел влиятельных друзей. Не жалел себя, начинал с того, что на своих плечах таскал баулы с китайским товаром через границу. Такие, как Генаша, поднимали регион. Челнокам вроде него обязательно когда-нибудь поставят памятник в центре города, думала Лариса.
Вообще-то Лариса не то чтобы нуждалась в деньгах. Она жила с родителями, квартира была стометровая, в престижном доме. Отец – главный редактор «Амурской правды» и заслуженный гражданин города, мать – заведующая акушерским отделением горбольницы. Дочке они подарили двушку в том же доме. Генаша помог Ларисе удачно обменять квартиру на жилплощадь попросторнее в доме попроще и на новенький москвич: «Возить вас с детьми за город». В начале отношений Генаша одолжил у Ларисиных родителей солидную сумму для стартового капитала. Казалось, он и камень смог бы расположить к себе: родители поверили в него безоговорочно. Буквально через год он вернул деньги с большим процентом, и дальше молодая пара уже ни в чем себе не отказывала.
Генаша модно одевался, удачно шутил, баловал Ларису импортными шмотками, нравился всем ее подругам и был серьезно настроен на создание семьи. Было только одно но: Лариса ему не доверяла. Она не помнила, когда впервые ощутила эту легкую тревогу из-за его возможной неверности. Гену ни разу не уличили ни в чем подобном. Но он как будто не был с ней на сто процентов, в его жизни всегда оставалось много воздуха для других людей. Он принадлежал всем сразу: прежде всего этому странному времени, девяностым, только что открывшемуся Китаю, городу Б. И будто всем женщинам в нем. Лариса боялась, что Гена слишком талантлив, в нем слишком много природного топлива. А она казалась себе недостаточно требовательной, недостаточно красивой и яркой, чтобы поглотить всю эту энергию. В ресторанах Гена окидывал взглядом столики как свои владения и все женщины оборачивались, чтобы наградить успешного бизнесмена одобрительным кивком или игривой улыбкой. В такие моменты Лариса чувствовала себя невидимкой. Она мечтала получить главную роль в каком-нибудь знаковом спектакле, допустим в «Бесприданнице», чтобы ее сфотографировали крупным планом на афишу, которую бы развесили по всему городу. Тогда ее напечатанное на глянцевой бумаге лицо напоминало бы всем, что место жены преуспевающего бизнесмена занято, и занято не абы кем. Еще лучше было бы сняться в кино или сериале, чтобы в каждом ящике страны сияла Лариса Великодная, чтобы она ощущалась вездесущей силой, с которой никто не сможет соревноваться за Гену.
За ежедневным расписанием Генаши невозможно было уследить – постоянные встречи, звонки, поездки в Китай, задержки в Китае. На безобидный вопрос «Когда будешь?» стандартным ответом было сухое «Не знаю, как дела пойдут». Со временем Лариса и вовсе перестала допытываться, понимала, что муж весь в бизнесе. Старалась гнать от себя мысли о сопутствующих возможностях супруга. Все же он всегда возвращался, строил совместные планы на долгие годы вперед, водил ее в рестораны и кино. Просто время сейчас такое, он старается для нашего будущего, успокаивала себя Лариса. Но единственные минуты, когда она ощущала, что Генаша на сто процентов принадлежит ей, случались в постели. Когда он придавливал ее своим весом, был внутри, Лариса жадно впивалась ногтями в его спину, осознавая, что в эти мгновения наконец-то ни с кем его не делит.
Ребенок был еще одним способом привязать мужа к себе. У самой Ларисы не было острого желания становиться матерью, слишком много личных амбиций еще не реализовано, слишком многое придется поставить на кон. Но Гена детей хотел, и она не решилась отказать. Первый год после рождения дочки, которую назвали Машей в честь Генашиной бабушки, прошел тяжело: девочка плохо спала и много плакала, Гена часто пропадал, Лариса чувствовала себя измученной и некрасивой. Жизнь превратилась в адское колесо повторяющихся неинтересных дел: постирать пеленки, нагреть бутылочку, протереть пол, одеть, раздеть, покачать, помыть. Время и летело, и тянулось как смола. Помимо сна Гена проводил дома в среднем, кажется, около часа в сутки: увлеченно играл с дочкой, мог даже поменять пеленки, но потом сразу пропадал «по делам». Как на женщину на Ларису он почти не смотрел, будто она была нянька для его ребенка, а не жена. Поэтому фигуру нужно было вернуть не только для театра. Нужно было снова стать желанной и интересной для мужа.
