Цитадель
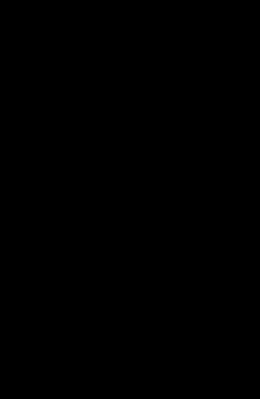
Fumiko Enchi
ONNAZAKA
Copyright © 1957, The Heirs of Fumiko Enchi + All rights reserved
© Дуткина Г., перевод на русский язык, 2025
© Издание на русском языке. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Такая неженская «женская проза» Фумико Энти…
Роман японской писательницы Фумико Энти «Цитадель» (в оригинале «Оннадзака») столь многослоен и монументален, что может претендовать на солидное научное исследование. Но если все-таки попытаться выразить кратко впечатление от этого не по-женски мощного произведения, можно выделить несколько параллельных пластов: профессиональная историческая точность, неженская, даже жестокая эротика, страстный феминизм, почти классическая изысканность и утонченность слога и ошеломляющая, совершенно не японская открытость и откровенность.
Роман считается одним из наиболее значительных исследований женской психологии в японской послевоенной литературе и по праву удостоен самой престижной японской литературной премии Номы.
Это абсолютно достоверный и точный слепок Японии конца XIX в. – и доподлинная история жизни бабушки писательницы по материнской линии. Это семейная тайна, о которой несколько поколений женщин семьи Фумико Энти осмеливались говорить разве что шепотом и полунамеками.
Действие разворачивается в начале эпохи Мэйдзи. Эпоха Мэйдзи, особенно ее начало, – одна из самых драматичных и пассионарных в истории Японии. С 1603 г. Японией правили сёгуны – военные правители, стоявшие во главе военной ставки «бакуфу». Сёгуны обладали верховной властью в стране, император же был полностью изолирован от политической жизни, имел функцию верховного жреца и не «осквернял себя делами земными». Но в 1867 году сёгунат пал. В оппозицию сёгунату встали самые разные социальные слои: и придворная аристократия, и крупные князья юго-западных княжеств, и самураи высших и низших рангов, а также верхушка нарождавшейся буржуазии. Императору Мэйдзи было передано официальное право вершить государственные дела. Появление манифеста о восстановлении императорской власти 1868 года и последующие события называют «реставрацией Мэйдзи». Реставрация монархии по своей сути носила характер незавершенной буржуазной революции, так как события 1868–1869 гг. открыли путь к капиталистическому развитию и ускоренной модернизации Японии. Реформы, осуществленные новой властью, радикально изменили структуру японского общества, заложили основы процветания Японии в современном мире.
Начало же эпохи Мэйдзи – это особый, переломный момент в истории страны, неистовый водоворот страстей, в котором переплелись воедино отживающее старое и нарождающееся новое. Особенно драматичны, а порой даже трагичны были психологические и бытовые перемены, перемалывавшие, словно в мясорубке, судьбы людей. Старый уклад упорно цеплялся корнями, не желая уступать революционным нововведениям. Япония начала эпохи Мэйдзи являла собой многоцветную и причудливую картинку калейдоскопа, в которой сочеталось самое несочетаемое. Замужние женщины по-прежнему чернили зубы, бесправные жены неукоснительно подчинялись прихотям мужей, следуя канонам неоконфуцианской морали, девочек из бедных семей все еще продавали в веселые дома – но на фоне этого в роскошных особняках аристократия устраивала «европейские» балы и благотворительные базары, студентки выстригали себе «европейские» челки, рикши сменялись трамваями, молодые политики-реформаторы наводнили Европу, изучая западное право и систему образования, строились новые школы, в том числе частные школы, для освоения западных знаний, а женщины получили равные с мужчинами возможности для получения образования… В Японию, открывшуюся для мира, лавиной хлынула западная культура: знания, литература, которые самым непостижимым образом сплавлялись с традиционным наследием. Все это существовало рядом, бок о бок, ибо во всех переменах присутствовал некий неявный компромисс между консервативным и новым. В романе Фумико Энти «Цитадель» с удивительной яркостью отображена именно эта особенность эпохи.
…Влиятельный чиновник Юкитомо Сиракава, олицетворяющий в романе осколок старой, традиционной Японии, отправляет свою безоговорочно послушную и преданную жену в Токио для того, чтобы та сама, по своему вкусу, нашла для него молоденькую и невинную любовницу, которую он намерен взять в семью. За первой наложницей появляется вторая, затем следует бурный адюльтер с собственной невесткой – второй женой сына. Все эти женщины довольно мирно уживаются в доме, где уже есть законная супруга, образуя странную большую семью. Но жизнелюбивый Юкитомо не ограничивается главными «привязанностями». Как бы вторым планом через роман проходят его интрижки с гейшами, танцовщицами, служанками – словом, женщинами «второго сорта». В принципе, ситуация вполне обычная и даже нормальная для феодальной Японии, особенно для выходца из самурайского клана, однако на фоне разворачивающихся в стране преобразований подобная ситуация, скажем, в Европе выглядела бы диким анахронизмом. Но в Японии все иначе. И усадьба Юкитомо Сиракавы многие годы высится несокрушимой цитаделью среди подступающих бурных волн прилива новой жизни. Усадьба стоит на холме. Образ дома на вершине холма отнюдь не случаен. В доме Сиракава время словно остановило свой бег. В его стенах страдают, ревнуют, радуются, плачут и стареют соперничающие, но по-своему привязанные друг к другу женщины, сменяются поколения, вырастают дети и внуки, а новая жизнь только глухо плещется где-то вдали, внизу, за глухими стенами особняка, стоящего на вершине холма посреди фруктового сада…
Центральной фигурой, стержнем романа является законная жена Томо – удивительный женский образ, созданный гениальным пером Фумико Энти. Конфуцианская мораль требует от еще молодой и по-женски привлекательной Томо безоговорочного подчинения унизительным прихотям мужа… Она привыкла, она приучена подчинять свою жизнь интересам семьи и супруга. Но Томо – не обычная женщина, она намного превосходит своего деспотичного мужа силой духа. Долгие сорок лет она проводит в бесконечной, скрытой за внешней невозмутимостью борьбе с окружающим ее миром за право быть человеком, за независимость и внутреннюю свободу – с мужем, любовницами мужа, с постоянно выходящими из повиновения домочадцами, с общественным мнением, а главное – с опутывающими ее догмами и устоями конфуцианской морали.
Образ «цитадели», «крепости» красной нитью проходит через весь роман. Цитаделью является не только сама усадьба Юкитомо, не желающего признавать новую жизнь. Незыблемой крепостью является для Томо ее дом, ее большая семья, чьи интересы превыше ревности и обиды. Собственно говоря, именно в бесконечной борьбе за благопристойный образ семьи в глазах окружающих, в заботе о ее финансовом благополучии она и черпает силы жить и сопротивляться. Своего рода «цитаделью», несокрушимой, не поддающейся недугам и жизненным невзгодам воспринимается и сама Томо, которую домочадцы эгоистично привыкли считать едва ли не «бессмертной» и вечной… Но жизнь вносит свои коррективы – и все «цитадели» рушатся одна за другой. Умирает и Томо, успев осознать, что все то, за что она так неистово боролась, во имя чего жила – ее богатый и чопорный дом, ее большая и внешне безупречная семья, ее первенство, с таким трудом отвоеванное ею, – не стоит маленького, но искреннего и бесхитростного человеческого счастья, живущего в скромной лачуге бедняка. Ее внутренний бунт на смертном одре, взрыв десятилетиями подавляемых эмоций в конце повествования носит столь сокрушительный, почти брутальный характер, что буквально разрывает на части кажущийся несокрушимым мир мужского эгоизма. Однако писательница слишком честна, чтобы рисовать эту картину только черной и белой красками. Юкитомо – порождение своей эпохи, системы большой патриархальной семьи «иэ», самого государства – но ведь и Томо тоже…
Героиня Фумико Энти столь же неординарна, страстна и не по-женски сильна, как и сама писательница. В образ Томо Сиракава она вложила себя, свои мысли и чувства. Не случайно писательница отдала роману восемь лет жизни. Она сумела преодолеть барьер между мужской и женской прозой и встать вровень с такими классиками двадцатого века, как Ясуси Иноуэ и Масудзи Ибусэ. Фумико Энти родилась в 1905 г. и начала свою литературную карьеру очень рано и успешно, когда ей едва исполнился 21 год. Однако затем последовало неудачное замужество, рождение ребенка, долгая тяжелая болезнь (рак матки) и война. Только после 40 лет Энти смогла вернуться к литературе, но упустила время и была вынуждена зарабатывать на жизнь, сотрудничая с мелкими журналами. И лишь когда ей исполнилось пятьдесят два, она сумела закончить свой монументальный роман «Цитадель» («Оннадзака»), который был удостоен высшей награды – премии Номы.
Фумико Энти серьезно увлекалась классической литературой (впоследствии перевела на современный японский язык шедевр японской классики «Повесть о принце Гэндзи»). И это не могло не сказаться на стилистике «Цитадели». Язык романа изумителен по своей красоте, описания женских лиц, красочных кимоно, старинных причесок воспринимаются как поэтические вставки. Семья Сиракава живет в своей усадьбе-цитадели как аристократы эпохи Хэйан – утонченно наслаждаясь природой, поэзией, музыкой, всецело отдавая себя страстям. Аморальные по сути любовные связи мужа с любовницами описаны столь изысканно, что напоминают прелестные эротические новеллы Сайкаку, а распущенность нравов кажется нормой жизни. Но ведь и в самом деле в феодальной Японии женщина рассматривалась исключительно как объект любовного приключения! Так что Томо испытывает к наложницам мужа даже симпатию и человеческое сочувствие – в традициях морали эпохи Хэйан. Даже в уродстве таких отношений писательница умеет находить скрытую красоту, «очарование вещей». Что характерно, каждая глава романа посвящена возлюбленным мужа, а предпоследняя глава – возлюбленной внука Томо, его сводной сестре. Все героини наделены особыми чертами, своим неповторимым обликом и характером, – точно так же, как в «Повести о принце Гэндзи». Но между Фумико Энти и Мурасаки Сикибу, написавшей «Повесть о принце Гэндзи», огромная пропасть. Мурасаки не признает за женщиной право на самостоятельный выбор, женщина должна быть покорной и верной, несмотря на измены мужчины. Героиня Фумико Энти другая, она борется за свое достоинство и независимость, по существу олицетворяя зарождающийся феминизм в Японии. Одна Томо предстает в романе современной и практичной, сумевшей приспособиться не только к своей горькой судьбе, но и к новой жизни. Она в одиночку ведет огромное хозяйство и занимается финансами семьи, контролируя многочисленные доходные дома, принадлежащие дому Сиракава.
Роман «Цитадель» напоминает водоворот, бурлящий под внешне спокойной водной гладью. Неистовые, временами почти безумные нотки звучат словно под сурдинку, порок исполнен очарования, а очарование способно вызывать омерзение. Галерея красавиц, словно сошедших со средневековых гравюр, поражает воображение. Но главное достоинство романа – это запредельная честность писательницы, открывающей без ложной скромности и притворства самые потаенные уголки женской души. Прочитав «Цитадель», даже самый искушенный ценитель Востока, скорее всего, удивится – и посмотрит на Японию совершенно иными глазами. И поймет, что, как же мы, в сущности, мало знаем об этой стране и ее обитателях…
Фумико Энти скончалась в 1986 году. Незадолго до смерти ее избрали в Академию Искусств. Помимо премии Номы награждена премией Танидзаки и Орденом культуры.
Г. Дуткина
Часть первая
Глава 1
Раннее цветение
Лето только вступало в свои права. Был тихий солнечный полдень.
Кин Кусуми хлопотала по хозяйству с раннего утра. Дом ее стоял на берегу реки Сумидагава в богатом квартале Ханакавадо токийского района Асакуса. Срезав в маленьком садике несколько белых вьющихся клематисов, Кин долго возилась с цветами, любовно устраивая их в токонома[1]. До этого она вылизала до зеркального блеска две смежные комнаты на втором этаже. Окинув удовлетворенным взглядом результаты своего труда, Кин похлопала себя по натруженной пояснице и спустилась вниз по темной лестнице.
В тесной, примыкавшей к прихожей комнатке, подле зарешеченного окна сидела за шитьем ее дочь Тоси. Тоси как раз пыталась вдеть нитку в ушко, держа иглу против света. В комнате плясали отражавшиеся от поверхности реки солнечные блики. Тоси подняла глаза на мать: Кин держала в руках сверток плотной, пропитанной лаком бумаги, в которой она принесла в дом клематисы.
– Часы у соседей уже пробили три… Что-то гости запаздывают… Да, матушка?
– Ох, неужели уже так поздно?.. Впрочем… Они же едут от самой Уцуномии, меняя по дороге рикш… Писали, что прибудут пополудни, но, похоже, раньше вечера не поспеют…
Кин присела к длинной жаровне-хибати[2] и раскурила тонкую серебряную трубочку с бамбуковым черенком.
– Вы, матушка, с самого утра в заботах… Устали, поди, – заметила Тоси, поправляя иголкой слегка растрепавшийся пучок. Затем воткнула иглу в красную подушечку, лежавшую на станке для шитья, завернула в оберточную бумагу кусок пунцового шелкового крепа и подошла к матери, слегка подволакивая изуродованную болезнью ногу. Видимо, тоже решила дать себе отдых.
– Наводи порядок, не наводи… Хоть каждый день убирайся, все равно грязь! – Кин развязала тесемки, прихватывавшие во время работы длинные рукава кимоно, и брезгливо выбила пыль из черного атласного воротника. Она даже не обмолвилась о том, каких чудовищных усилий ей стоило протереть притолоку и щель в поперечной декоративной балке, – для чего пришлось взгромоздиться на специальную подставочку, – однако ее буквально распирало от гордости. Работа была поистине безупречной.
– Интересно, с чего это госпожа Сиракава решила пожаловать в Токио?.. – задумчиво протянула Тоси, потирая кончиками пальцев утомленные глаза. Проблемы уборки явно не волновали ее.
– Что ты хочешь этим сказать? – подозрительно покосилась на нее мать. Кин была молода душой, а Тоси из-за болезни упустила шанс выйти замуж, так что они общались друг с другом скорее как сестры, нежели как мать и дочь. Порой Тоси выказывала даже большую зрелость в суждениях, чем сама Кин.
– Они же писали, что хотят осмотреть Токио… Что ж в этом особенного? – пожала плечами Кин.
– Не знаю, не знаю… – с сомнением пробормотала Тоси, задумчиво склонив голову. – С чего это такой важной даме попусту тратить время, глазея на столичные достопримечательности? Ее супруг – главный секретарь в префектуральной управе. Второй человек после губернатора…
– Да, верно. Весьма влиятельный человек. – Кин выбила трубку о край жаровни. – Высоко взлетел… Даже не думала, что так вознесется. Когда они жили по соседству с нами, господин Сиракава служил в Токийской управе. Впрочем, он и в те времена отличался недюжинным умом и хваткой. Было видно, что далеко пойдет.
– То-то и оно, – с нажимом сказала Тоси. – Ну посудите сами: бросить занятого делами супруга и укатить с дочерью и служанкой любоваться видами Токио… Удивительное легкомыслие! Я бы еще поняла, если она приехала навестить родителей… Но они же живут на Кюсю?
– Ну да… Госпожа Сиракава родом из Кумамото, как и ее супруг. Но что из того? Что ты имеешь в виду?.. – Кин пристально всмотрелась в лицо дочери. – Ты хочешь сказать, что они собрались разводиться?.. Не может быть! В письме и намека не было на такое…
– Да-да, разумеется… – прошептала Тоси, облокотившись о накрытый ватным одеялом край жаровни. Взгляд у нее был какой-то блуждающий, отрешенный, словно устремленный за пределы земного.
Кин всякий раз мороз пробирал по коже от странных предвидений дочери, сбывавшихся непостижимым образом. Она завороженно смотрела на Тоси, словно на всесильную прорицательницу, но Тоси вдруг резко отняла от лица руку и вздохнула.
– Нет… Ничего не могу понять.
Не прошло и часа, как к воротам дома Кусуми подлетели рикши. Из двух колясок вышли госпожа Томо Сиракава, ее дочь – девятилетняя Эцуко – и служанка Ёси.
Первым делом гости смыли в загодя приготовленном фуро[3] дорожную пыль и грязь. Вскоре Томо Сиракава сидела в гостиной, преподнося подарки хозяйкам дома: сушеные персимоны, лаковую утварь из провинции Айдзу, – словом, то, чем издревле славилась Фукусима. Кроме того, она вручила Кин и Тоси красиво завернутые отрезы дорогих тканей, каждой с соответствующим возрасту узором.
На Томо Сиракава было строгое кимоно в полоску. Поверх кимоно на горделиво выпрямленных плечах ладно сидела накидка хаори[4] с фамильным гербом. Вообще весь ее облик дышал невероятным достоинством, которого не было в те времена, когда она жила по соседству с Кин. За прошедшие пять лет Томо Сиракава обрела новый лоск жены высокопоставленного чиновника. Ее глянцево-смуглое лицо было, пожалуй, излишне широковато, так что небольшие глаза, рот и довольно мясистый нос размещались на нем слишком свободно. В ней не было и намека на нервную утонченность натуры, однако в полуприкрытых набухшими веками узких глазах, призванных скрывать любые эмоции, сквозило странное раздражение. Именно этот тяжелый взгляд, а также чопорность жестов и неестественная правильность речи всякий раз внушали Кин странное смущение при встречах с Томо на протяжении двух лет соседства, несмотря на сердечную теплоту отношений. В Томо никогда не было ни заносчивости, ни высокомерной неприязненности – словом, ничего, что можно было поставить в упрек. Пожалуй, разве что слишком закрыта – и только. Однако в теперешней Томо появилась особая церемонная горделивость.
Эцуко была сущим ребенком, непосредственным и живым, с короткими волосами, собранными в детский пучок «табакобон». Она не отрывала восторженного взгляда от решетчатого окна, за которым плескалась диковинная река – Сумидагава.
– Да она обещает стать настоящей красавицей! – искренне восхитилась Кин, разглядывая белое личико Эцуко с правильными, словно выточенными чертами и изящным, с горбинкой носиком.
– Дочь пошла в своего отца, – проронила Томо.
Действительно, в изящном овале лица Эцуко и длинной, гордо поставленной шее было куда больше сходства с отцом, нежели с матерью.
– Эцу! – негромко окликнула Томо, и Эцуко, втянув голову в плечи и вся сжавшись, тут же вернулась на место и села подле матери.
– Как славно, что вы решились оставить хозяйство и навестить нас! – щебетала Кин, подавая гостям чай. – Я слышала, господин очень поднялся по службе… Теперь он почти такая же важная птица, как сам губернатор… Наверное, трудно быть супругой столь влиятельного чиновника?
– Я мало что знаю о его служебных делах, – бесцветным голосом проронила Томо. В ответе не было даже намека на чванство, хотя Кин частенько слышала сплетни о том, что чета Сиракава живет с роскошью и размахом семьи настоящего даймё[5].
Некоторое время разговор вертелся вокруг ничего не значащих тем: главным образом, о жизни в столице – о новых веселых кварталах, во множестве появившихся в Токио, о новых модах в женских прическах, разительно переменившихся после отъезда Томо в Фукусиму, о пьесах в театре «Синтоми»… Вдруг гостья, оборвав себя на полуслове, сказала:
– В сущности, мы можем жить в Токио и развлекаться, сколько душе угодно. Хотя… по правде сказать, есть одно небольшое дельце… – В этот момент она отвернулась, чтобы поправить красный гребень в волосах Эцуко. Тон у нее был самый невыразительный, Кин даже внимания не обратила, однако Тоси будто кто-то толкнул. Дело, что привело госпожу Сиракава в Токио, было невероятной важности! Томо держалась сдержанно и невозмутимо, но ее словно тянул ко дну немыслимо тяжкий груз…
На другой день Тоси, обычно не выходившая из дому, в благодарность за подарки пригласила Эцуко посетить храм богини Каннон[6]. Вскоре веселая компания – Тоси, Эцуко и служанка Ёси – радостно отправилась на прогулку.
– Купи ей книжку с картинками в торговом квартале у ворот храма, – посоветовала Кин.
Проводив дочь с гостями до ворот, она сразу же поднялась на второй этаж, к Томо. Сидя на коленях, Томо складывала дорожные кимоно в плетеный короб с крышкой и доставала чистые. По небу плыли белые облака, отражаясь в зеркальной глади воды, и отсвет их наполнял комнату ярким светом.
– О-о… Уже за работой… В столь ранний час?.. – покачала головой Кин, опускаясь на колени на веранде, перед входом в комнату Томо.
– Эцуко стала совсем большая… То это требует взять, то другое… С ней стало трудно путешествовать. – Томо помедлила. – Госпожа Кусуми… Вы сейчас не слишком заняты?
Тут она привстала с колен, чтобы уложить поглубже в короб детское авасэ[7] из желтого шелка с черно-коричневым узором, так что Кин не разглядела ее выражения лица. Вообще-то Кин поднялась на второй этаж просто так, поболтать, но что-то в голосе гостьи заставило ее раскаяться в содеянном.
– Да нет… Я могу вам чем-то помочь?..
– Ну… если вы очень заняты, то разговор можно отложить на потом… Хотя лучше покончить с этим сейчас, пока Эцуко нет дома… – неторопливо проговорила Томо и положила дзабутон[8] на циновку рядом со входом. – По правде сказать, у меня к вам просьба. Не могли бы вы оказать мне любезность?
– О-о… Ну разумеется… Для вас я сделаю все, что в моих силах! – с наигранным воодушевлением отозвалась Кин, отчаянно пытаясь угадать, к чему клонит Томо. Та сидела, потупившись и благочинно сложив на коленях руки. В уголках рта прорезались тонкие складочки – словно Томо слегка улыбалась.
– Видите ли, у меня не совсем обычная просьба… – Томо подняла руку, чтобы поправить боковой локон. Она была немыслимо педантична в вопросах внешности и терпеть не могла, когда из прически выбивался хотя бы волосок. У нее даже в привычку вошло время от времени проводить по волосам ладонью, словно проверяя, все ли в порядке, – хотя прическа всегда была безупречна.
И тут на Кин словно озарение снизошло: вон оно что… Похоже, дельце-то связано с женщиной… Когда чета Сиракава жила в Токио, посторонние дамы частенько захаживали на половину супруга, и Кин было известно, что это страшно нервировало Томо. Теперь же, когда Сиракава взлетел до таких служебных высот, его легкомыслие, видимо, обрело иные масштабы. Однако Кин постаралась хранить на лице недоуменное выражение: дело-то слишком щекотливое. В таких ситуациях не пристало выказывать чрезмерную проницательность, такого благовоспитанные городские дамы не должны себе позволять.
– Не стесняйтесь. Вы можете попросить меня о чем угодно, – улыбнулась она.
– Ну… Раз я вынуждена прибегнуть к вашей помощи, то… – Неуловимая улыбка, как на маске театра Но, застыла в уголках губ Томо. – Дело в том, что мой муж повелел привезти ему из Токио девочку-служанку лет пятнадцати-семнадцати. Во всяком случае, не старше восемнадцати. По возможности, из добропорядочной семьи. Главное, чтобы она была хороша собой.
Улыбка в уголках губ обозначилась отчетливее, но глаза, прикрытые тяжелыми веками, вспыхнули мрачным огнем.
– О-о… Вот оно что… Понимаю, – протянула Кин. Она сама ощутила, как фальшиво звучит ее голос, и от смущения даже глаза опустила. Одной фразы Томо было достаточно, чтобы понять, – ее дочь опять не ошиблась в предчувствиях.
Кин перевела дух и заметила:
– Когда мужчина достигает столь высокого положения… Наверное, это диктуется необходимостью, верно?..
– Да… Так принято. И окружающие постоянно будут напоминать мне о моем долге… – сдержанно отозвалась Томо.
То была заведомая ложь. Томо из последних сил боролась с собой, пытаясь обуздать бушевавшие в ее груди страсти.
Идея взять в дом наложницу пришла мужу в голову примерно год назад. Его подчиненные в неуемном стремлении угодить господину доводили Томо до белого каления, на все лады муссируя эту тему на банкетах и пирушках.
«Госпожа… У вас такой большой дом, вам просто не обойтись без помощницы!»
«У господина секретаря столько забот, столько работы… Нужно позволить ему развлекаться на стороне, ему нужно разнообразие! Сделайте снисхождение…» – то и дело раздавались их льстивые речи. Вообще-то Сиракава терпеть не мог подхалимства и лизоблюдства, однако сейчас даже не делал попыток осадить наглецов, дерзивших законной супруге. Из чего следовало, что он просто использовал подчиненных, чтобы довести до сведения Томо свои скрытые намерения. Томо достаточно хорошо изучила повадки мужа, прекрасно знала его распущенность и уже не питала той незамутненной, чистой любви, что в первые годы замужества, однако все еще была во власти мужского обаяния Сиракавы. Она родилась в семье самурая невысокого ранга, принадлежавшего к прежде могущественному, но теперь захиревшему клану Хосокава. Молодость ее пришлась на смутные годы перед Реставрацией Мэйдзи[9], так что у нее было мало шансов получить приличествующее образование и уж тем более совершенствоваться в искусствах. Томо выдали замуж юной девочкой, и исполнять роль супруги большого чиновника было для нее нелегким делом. Огромное хозяйство, светские обязанности… Но Томо возвела в принцип жизни заботу о муже и доме. Она неусыпно пеклась о семье, не упуская ни мелочи, – чтобы никто не смог упрекнуть ее даже в малейшей оплошности. Всю свою нерастраченную любовь и ум она фанатично дарила семье Сиракава, – в первую очередь, супругу и господину.
Потому-то, наверное, Томо выглядела немолодой, многоопытной и умудренной, хотя ей только-только исполнилось тридцать. Не красавица, но вполне привлекательная Томо истово заботилась о своей наружности, так что вряд ли можно было сказать, что она увяла до срока. Однако нечто неуловимое – то ли врожденная сдержанность, то ли тяжкое бремя долга, – погасило в ней дразнящую зрелую чувственность, присущую женщинам ее возраста, так что сам Сиракава не раз поражался житейской мудрости женщины на добрый десяток лет моложе его. Временами жена казалась ему старшей сестрой. Впрочем, ему-то было прекрасно известно, какая горячая, обжигающая, словно горящее масло, кровь течет в жилах Томо. Внешняя холодная невозмутимость только скрывала это. О, он знал ее сдержанный жар, столь похожий на раскаленное солнце их родного Центрального Кюсю. Однажды ночью, когда Сиракава еще служил в Ямагате, к ним на ложе пробралась под москитную сетку змея. Проснувшись от внутреннего толчка, Сиракава ощутил прикосновение к голой коже чего-то влажного и холодного. В недоумении он провел по груди рукой – и липкая струйка вдруг потекла через пальцы.
Сиракава вскочил с диким криком. Томо тоже проснулась и резко села. Поднеся к постели стоявшую в изголовье лампу, она увидела на плече у мужа тонкий черный шнурок, отливавший жирным, маслянистым блеском.
– Змея! – успел выдохнуть Сиракава, – и в то же мгновенье рука Томо непроизвольно метнулась вперед. Она перевалилась через Сиракаву, спотыкаясь, выбежала на веранду и вышвырнула скользкую гадину в темный сад. Ее била крупная дрожь, однако от обнаженной груди, белевшей в распахнутом вороте кимоно, от обнаженной руки исходила поистине животная мощь, которую Томо обычно скрывала от окружающих.
– Зачем ты выбросила ее? – недовольно пробурчал Сиракава, лишенный мужской прерогативы проявить силу. – Нужно было убить эту тварь!
Жар, исходивший от Томо, буквально ошеломил его, раздавил своей силой, – и с той ночи все было кончено между ними. Сиракава просто не мог заставить себя смотреть на жену как на объект сексуального вожделения. Сила Томо превосходила его и потому рождала чувство неловкости и смущения.
– Люди станут говорить о нас дурно, если мы открыто объявим девчонку наложницей, – заявил он Томо. – Пусть она будет у нас служанкой. Хотя бы для вида… И тебе пусть прислуживает тоже… В самом деле, мысль недурна – взять в дом девушку, которая будет присматривать за хозяйством, когда ты делаешь визиты. Ты же можешь вышколить ее, как тебе надо. Я не желаю портить репутацию семьи, поэтому решил не брать в дом гейшу. Так что полагаюсь на твой выбор. Ты прекрасно все устроишь сама. Найди и привези мне юную, по возможности, невинную девочку. У тебя прекрасный вкус. Вот, возьми, это тебе на расходы.
И Сиракава положил перед Томо такую толстенную пачку денег, что у нее округлились глаза.
До сих пор, слыша подобные речи от подчиненных мужа, она умудрялась делать вид, что ничего не происходит. Но теперь муж сам поднял тему, и уклониться от разговора было решительно невозможно. Откажись она – и муж сам приведет в дом избранницу. Во фразе «Полагаюсь на твой выбор» заключалось косвенное признание главенства Томо в семье Сиракава. Это странное доверие терзало душу Томо всю дорогу до Токио, до самого дома Кусуми, пока Эцуко и Ёси беззаботно радовались жизни, покачиваясь в коляске рикши, и предвкушали столичные развлечения.
– Я поняла, – сказала Кин. – У меня есть одна знакомая женщина… Она держит галантерейную лавочку и частенько посредничает в подобных делах… Я попрошу ее заняться вашим вопросом без отлагательств.
Кин перевела разговор в деловое русло, искусно избегая болезненных для Томо душевных нюансов. Она родилась в семье купцов фудасаси[10] и неплохо знала нравы, царившие в семьях дворян и богатых торговцев в конце Сёгуната[11], так что отнюдь не была шокирована услышанным. Мужчина, достигший успеха, был вправе взять в дом наложницу или даже двух. Это добавляло веса всему семейству, возвышало в глазах окружающих, так что к ревности законной супруги частенько примешивалась толика чванливого самодовольства.
Ночью, когда мать и дочь уже лежали в постели, Кин поведала Тоси обо всем этом, понизив голос и бросая опасливые взгляды на потолок, отделявший ее от гостей. Она была так уверена в правоте своих представлений, что удивилась, когда дочь с печальным вздохом проговорила:
– Бедная женщина… Вот вы, матушка, заметили, что за прошедшие годы в госпоже прибавилось достоинства… Что она стала просто великолепна. А мне отчего-то кажется, что это достоинство страдания. Я вся просто похолодела, когда госпожа вошла в дом…
– Страдания всегда сопутствуют богатству, так уж заведено в этом мире, – беспечно заметила Кин. – Как бы то ни было, я помогу ей найти хорошую девочку с добрым сердцем. Господин Сиракава сказал, что предпочел бы совсем неопытную… Но сойдет и хангёку[12], если она еще не потеряла невинность…
В резиденции Сиракавы комнаты были большие, стылые, как в огромном храме, и в них всегда царила гробовая тишина. Маленькая Эцуко пришла в восторг от своей веселой комнатушки на втором этаже в доме Кин: перед ее глазами без устали катила вольные воды широкая Сумидагава, и целый день оттуда несся скрип весел и неумолчный плеск волн. Когда Ёси бывала занята, Эцуко проворно выскальзывала через заднюю дверь на улицу и мчалась к причалу. Она зачарованно смотрела на неспешное движение вод; лизавших сваи под ее ногами, вслушивалась в гортанные крики лодочников на проплывавших баржах. Время от времени в перекрестьях закрывавшей окно деревянной решетки возникало бледное лицо Тоси:
– Осторожнее, барышня, не упадите в воду! – кричала она.
В тот день Кин, как обычно, вместе с Томо отправилась в город.
– Не извольте беспокоиться! – смеялась Эцуко. – Не упаду!
Правильные, четкие черты лица и изящно очерченный овал придавали ей до странности взрослый вид. Маленький пучок, повязанный пунцовой лентой, разительно контрастировал с недетским выражением лица и выглядел просто обворожительно.
– Подойдите сюда, – позвала Тоси. – У меня для вас кое-что есть!
– Иду! – послушно откликнулась Эцуко, направляясь к окну. Ее длинные рукава в алую полоску развевались на бегу. На маленьком клочке земли под окном росли вьюнки «асагао». Кин ухаживала за ними, как за детьми, и пять-шесть тонких стеблей тянулись вверх, обвиваясь вокруг бамбуковых колышков. Сейчас, когда Эцуко заглядывала в комнату с улицы, все казалось совершенно иным – и сама комната, и лицо Тоси, и шитье, разложенное у нее на коленях… Тоси продела через решетку худую руку и повертела перед Эцуко сшитой из красного шелка маленькой обезьянкой. Обезьянка была набита ватой.
– Какая прелесть! – Эцуко вцепилась пальчиками в прутья решетки. Она не отрывала глаз от плясавшего на шнурке игрушечного зверька. На ее лице сияла такая беспечная улыбка, что Тоси невольно отметила, что ребенок совсем не скучает по матери.
– А куда ушла ваша матушка? – поинтересовалась она у Эцуко, продолжавшей дергать обезьянку за шнурок.
– По каким-то делам… – ясным голоском отозвалась Эцуко.
– Вы, верно, скучаете, когда ее нет дома?
– Да-а, скучаю, – вежливо протянула Эцуко, но глаза у нее оставались такими же безмятежными. – Но у меня же есть Ёси!
– Ах да, ну конечно, – кивнула Тоси. – У вас же есть Ёси… А матушка всегда занята в Фукусиме?
– Да, – таким же чистым и звонким голоском сказала Эцуко. – У нас много посетителей…
– Хлопотно, наверное… А батюшка часто в отлучках?
– Да. Целый день сидит в канцелярии, а вечером его приглашают в разные места. Бывает, и домой гости приходят, так что я частенько вообще не вижу его весь день! Ни разочка!
– О-о… А сколько у вас служанок?
– Три… Ёси, Сэки и Кими. А еще есть мальчик-слуга и конюх.
– Большое хозяйство! Матушка, должно быть, целый день в заботах.
Тоси отложила иголку и улыбнулась. Она вспомнила о девице, которую Томо должна найти в Токио и привезти домой. Интересно, какие перемены принесет она в жизнь Эцуко?
Примерно в это же время Томо и Кин встречались в чайном павильоне с мужчиной-гейшей[13] по имени Сакурагава Дзэнко. Они сидели на втором этаже заведения, дававшего напрокат лодки. Оно называлось «Удзуки» и стояло на берегу Сумидагавы в районе Янагибаси.
Предоставив Томо роль хозяйки встречи, Кин предпочла скромно держаться в тени. Настоящая фамилия Дзэнко была Хосои, он происходил из семьи хатамото[14], однако жизненные обстоятельства вынудили его опуститься до нынешнего занятия. Тем не менее при всей его несколько чрезмерной общительности Дзэнко нельзя было назвать назойливым или вульгарным, вид он имел изысканно-щеголеватый и разговаривал со старой знакомой Кин непринужденно и естественно, без слащавой манерности, свойственной людям его профессии.
– М-м… Из того, что вы мне рассказали, могу заключить, что все будет не так просто… – Впрочем, есть у нас несколько очень красивых девушек, они скоро появятся здесь.
Дзэнко повертел в пальцах тонкую серебряную трубку, словно не зная, что с нею делать. В глубине души он испытывал сейчас нечто сродни отвращению. Интересно, откуда берутся подобные выродки, что не стесняются посылать законных жен на поиски любовниц? Да, провинция есть провинция, не зря он терпеть не может деревню. Однако в сидевшей напротив него Томо было нечто сродни фамильной гордости самого Дзэнко. Не надменное высокомерие и не заискивающая любезность, – просто особого рода изысканная церемонность, над которой немыслимо насмехаться.
– Если девушка нравится нам, женщинам, – это одно. Но мужчины – это совсем другое, У них свой взгляд, ведь так? – заметила Кин, возвращая Дзэнко чашечку для саке. Она была любительница выпить.
– Ну уж, – запротестовал Дзэнко. – Не следует чересчур полагаться на мой вкус! Возьмем, к примеру, современных студенток. Эти девицы с выстриженными челками, да еще одетые на европейский манер, – это же просто кошмар! Увольте!
– Хосои-сан, мы же не ищем любовницу для иностранца. Среди здешних хангёку наверняка найдутся писаные красавицы в вашем вкусе, – улыбнулась Кин.
– У меня злой язык. Девушки меня боятся.
Не успел он закончить фразу, как на лестнице, ведущей на второй этаж, послышался топот легких ножек, защебетали голоса. В гостиную вошли несколько девушек – ярких, как цветы. Их сопровождала наставница.
– Мы не опоздали? – спросила пожилая гейша, с порога начиная настраивать сямисэн.
Предлог для встречи был найден вполне благовидный: супруга высокопоставленного чиновника из провинции осматривает Токио и хочет увидеть красочный танец в исполнении юных гейш, чтобы остались яркие воспоминания. Поэтому девушки были пышно разукрашены и походили на цветущие пионы. Кимоно на них тоже были чересчур ярких расцветок, – не такие, что принято надевать на дневные банкеты.
После вступительной части девушки начали танцевать, меняясь парами. Те, кто в данный момент не был занят танцем, прислуживали за столом: расставляли блюда, подливали саке. Томо саке не любила, но время от времени подносила чарку к губам, чтобы чем-то занять руки. При этом она пристально наблюдала за танцем и рассматривала девушек, беседовавших с Дзэнко и Кин.
Всем им было лет по четырнадцать-пятнадцать. Две девушки являли собой изумительную по красоте пару – точь-в-точь цветущие сакура и слива. Но когда во время танца одна из них подняла руку, обнажилась костлявая и чересчур смуглая рука. Жалкое зрелище! У второй при ближайшем рассмотрении обнаружились глубокие носогубные складки, расходившиеся от острого, как клюв, носа, и в улыбке сквозило что-то хищное. Весь ее облик неуловимо напоминал серую цаплю. При одной только мысли о том, что такое «сокровище» войдет в их семью и будет расти, превращаясь в зрелую женщину, у Томо даже озноб пробежал по спине. И тут она в первый раз ощутила прилив благодарности к мужу, доверившему выбор наложницы именно ей.
Когда юные гейши ушли, Томо поведала о своих впечатлениях Кин.
– О-о, у госпожи острый глаз, – заметил Дзэнко.
За последние дни, сопровождая Томо на смотрины, Кин и сама убедилась в проницательности Томо. Это внушало скорее страх, нежели восхищение. Ей становилось как-то не по себе оттого, что женщина, никогда не позволявшая себе малейшей критики в адрес другой женщины, способна на столь беспристрастную и нелицеприятную оценку достоинств и недостатков кандидаток в любовницы мужа.
Поразительный случай произошел при смотринах девицы, которую привела Осигэ, владелица галантерейной лавочки. Девица приходилась младшей сестрой местному золотых дел мастеру и отличалась весьма миловидной наружностью, что-то трогательно лепетала, так что Кин была совершенно очарована. Однако Томо лишь головой покачала.
– Они говорили, что ей шестнадцать… На самом деле ей все восемнадцать. К тому же не верится, что она сохранила невинность, – смущаясь, проговорила она.
Кин тогда усомнилась в правоте Томо. Но когда они навели справки, выяснилось, что у девушки и в самом деле была интрижка с мужем старшей сестры.
– Не понимаю, как госпоже удается видеть подобные вещи? – округляя глаза, воскликнула Кин.
Томо удрученно опустила глаза в пол.
– Прежде я не была такой… Я этого не умела.
Она печально вздохнула. По-видимому, Томо научилась замечать подобные вещи, наблюдая за многочисленными похождениями супруга. Плотские страсти других людей мало заботили Кин, однако теперь, выбирая вместе с Томо любовницу для Сиракавы, она начала постигать смысл брошенной Тоси фразы о «достоинстве страдания».
Томо, сидя у низкого столика, просматривала пачку фотографий, когда к ней бесшумно подошла Эцуко и заглянула ей через плечо.
– Какие красавицы! Мамочка, кто они? – спросила она, вопросительно наклонив головку, украшенную красной лентой. Томо ничего не ответила, просто молча протянула Эцуко несколько фотографий.
– Эцу… Скажи… Которая тебе по вкусу?
Разложив веером фотографии, Эцуко некоторое время разглядывала изображения, потом ткнула пальчик в среднюю.
– Вот эта, мам! – с детским восхищением воскликнула она.
Это был полупортрет. На белом фоне сидела совсем юная девушка, почти девочка – лет четырнадцати-пятнадцати. Девичья прическа «момоварэ», руки крепко сжаты и чинно сложены на коленях. Волосы на лбу, росшие классическим мысиком, подчеркивали красоту сияющих, словно черные агаты, глаз. Эцуко была сражена.
– Вот как? Значит, и тебе тоже… – несколько удивленно протянула Томо, еще раз вглядываясь в фотографию.
– Да кто же это, мамочка?
Томо молча сложила фотографии в пачку.
– Неважно… Скоро узнаешь.
Фотографии доставили от Дзэнко пару дней назад.
Томо провела в доме Кусуми уже более месяца, но все еще так и не нашла подходящей для Сиракавы кандидатуры. Несколько раз она нетвердым почерком писала мужу в провинцию письма, принося извинения за проволочки, и всякий раз муж отвечал, что нужды торопиться нет, пусть Томо выбирает спокойно, слушая свое сердце. Тем не менее, когда подошел к концу сезон «сливовых дождей»[15] и приблизился праздник О-Бон[16], Томо занервничала. В Фукусиме ждал не только муж, но и брошенный на произвол судьбы дом. Сознание этого факта начало угнетать Томо.
В тот момент и поступило новое предложение от Дзэнко.
На сей раз госпожа Сиракава, несомненно, будет довольна, передал он Кин.
Девушку звали Суга, ей едва исполнилось пятнадцать. Она была дочерью хозяина лавочки, торговавшего упаковочными материалами из бамбука в квартале Кокутё. Девочку с малых лет обучали классическим танцам в стиле Нисикава[17] и Токивадзу[18]. Она была писаной красавицей и вызывала всеобщее восхищение, выступая на публике с танцами своей школы. Ее мать и старший брат, принявший дела в лавке, считались весьма добропорядочными людьми, однако несколько лет назад в лавку пришел вороватый работник, и для семьи начались тяжелые времена. Все пришло к логическому концу – либо разорение и нищета, либо… Да, настало время продать Сугу в веселый квартал. Мать Суги даже не помышляла о том, чтобы отдать дочь в наложницы богатому господину, но учительница танцев, прослышав о планах Томо в приватной беседе с Дзэнко, с которым была на дружеской ноге, переговорила с матерью Суги, сочтя, что для девочки это будет менее жалкая участь. Пусть лучше ребенок попадет в приличную семью, нежели в жестокий и грязный мир профессиональных гейш…
– Суга – очень тихая, скромная девочка, с мягким нравом, – сказала она, – и для уроженки Токио у нее поразительно светлая кожа… Когда Суга приходит в общественную баню, все дети толпятся вокруг и глазеют…
Через несколько дней ожидалась ежемесячная репетиция школы Нисикава, на которой Суге предстояло исполнить танец «Цветущая слива весной». В тот день Кин и Томо в сопровождении Дзэнко направились в дом учительницы, чтобы взглянуть на Сугу под предлогом посещения репетиции.
Дом учительницы стоял в квартале Кокутё, на узком клочке крестьянской земли, зажатом между домами и складами оптовых торговцев. С улицы дом казался совсем крохотным, однако на втором этаже умещалась сцена. Когда Томо поднялась наверх, учительница аккомпанировала на сямисэне маленькой девочке, исполнявшей танец под названием «Горо».
При виде Дзэнко учительница, не прерывая игры, сделала знак рукой и коротко улыбнулась. Зубы у нее были вычернены[19], но это только подчеркивало живой блеск молодых глаз.
Томо и Кин нарочно подгадали время, чтобы увидеть Сугу, и теперь с беспокойством озирались по сторонам, разглядывая девушек в тесно набитой комнате. Все они были похожи друг на друга, в легких летних юката[20] с поясами красных оттенков, но одна держалась особняком и не отрывала глаз от сцены. Она была совершенно поглощена танцем. По ее поразительной красоте Томо сразу же догадалась, что это и есть Суга. Суга сидела неподвижно, замерев в чинной позе, словно не ощущала жары и тесноты, хотя остальные усердно обмахивались веерами. Девушка оказалась довольно высокой для своего возраста, однако лицо ее было таким же прекрасным, как на фотографии. Ее кожа, своей белизной напоминавшая драгоценную бумагу ручной работы, резко контрастировала с обрамлявшими лицо тяжелыми, с глянцевым отливом иссиня-черными волосами, и потому поразительно четко очерченные глаза и брови казались вызывающе яркими, словно подведенными тушью, как будто на девушке был сценический грим.
Томо взирала на Сугу в какой-то странной растерянности. Суга была олицетворением физической красоты – и только, в ней не ощущалось ни малейшего движения души. Однако она действительно была девственно непорочна, это не вызывало сомнения. Когда Суга разговаривала с подругами, голос ее понижался до шепота, глаза опускались в пол. Выслушивая ответ, Суга, напротив, широко распахивала глаза. Словом, вела себя очень скромно и естественно.
Танец «Горо» закончился, и учительница, протянув сямисэн аккомпаниаторше, скомандовала:
– Твоя очередь, Суга-сан!
Потом встала и подошла к Томо с компанией.
Действительно, это была та самая девушка, на которую сразу упал взгляд Томо. Она поднялась, придерживая полы кимоно, и, немного сутулясь, направилась к сцене.
– Это Суга, – прокомментировала учительница непринужденным тоном. Раздались первые звуки сямисэна. – Очень милая и тихая девочка. Думаю, у вас не будет с ней проблем. Ее легко воспитать…
Пока Суга танцевала, учительница время от времени вставляла короткие реплики:
– У нее очень яркая красота, при этом Суга чрезвычайно замкнута, сдержанна. Она очень способная ученица, но ее танцу не хватает живости, «изюминки». Суга и сама говорит, что учится танцам только для того, чтобы радовать родителей, и не любит выставлять себя на публике. Так что профессия гейши – это не для нее. Девочка знает, что никогда не добьется успеха в их ветреном мире. И вообще, большой, шумный город не подходит ее нежной натуре, она говорит, что ей будет гораздо вольготней где-нибудь в тишине, среди зеленых полей и чистых ручьев… Мать до безумия любит Сугу. Узнав, что дочка уедет в далекую Фукусиму, она залилась слезами. Если ее девочка понравится госпоже и та решит взять ее с собой, мать непременно хотела бы встретиться и обстоятельно побеседовать, ведь отныне жизнь и судьба ее дочери будут всецело зависеть от отношения к ней хозяйки дома…
Беседа шла главным образом между учительницей и Кин с Дзэнко, Томо молча наблюдала за танцующей Сугой. Слушая краем уха рассказ о матери Суги, она подумала: у такой женщины просто не может быть испорченного ребенка. Так что Суга будет слушаться Томо беспрекословно и не доставит особых хлопот.
Томо была не слишком искушена в танцах, но даже ее неопытный взгляд уловил в движениях рук и даже глаз танцующей Суги некую скованность, пожалуй, тяжеловесность, лишавшую танец блеска, несмотря на такую яркую, поразительную красоту исполнительницы. Но это только обрадовало Томо. Инстинктивно она страшилась силы той женщины, что должна вторгнуться в жизнь ее семьи. Изумительно красивая и юная, но тихая и застенчивая, почти боязливая… Почти идеальный тип «второй жены».
– По-моему, это именно то, что вам нужно, – сказал Дзэнко, когда они вышли из узкого проулка и направились к дому Кин. – Девочка не создана быть гейшей. Она не будет пользоваться успехом у мужчин. Слишком зажата и скромна.
Дзэнко обращался к Томо с достоинством сына хатамото, избегая напыщенных оборотов. Томо тоже почтительно величала его «господин Хосои».
– Вы так полагаете? – с сомнением протянула Кин. – Такая красотка…
– Одной красоты для профессии гейши мало, – пояснил Дзэнко. – И вообще, у таких девочек, как Суга, характер формируется поздно. Пройдет лет десять, и она станет совсем другой. Так что имейте это в виду.
– Да, наверное, вы правы… – По спине Томо снова пробежала дрожь, словно ее коснулось обнаженное лезвие меча. Ее просто трясло, когда она наблюдала за танцем. Томо смотрела на полудетское тело Суги, пытавшейся изображать на сцене страсть и томление, – она соблазнительно наклоняла головку, принимала фривольные позы – и пыталась представить, что произойдет, когда она привезет это полудитя домой, в Фукусиму. Как переменится этот ребенок, попав в многоопытные руки ее супруга, каким образом муж приручит Сугу?.. Томо даже невольно зажмурилась и задержала дыхание, представив себе переплетенные тела Суги и Сиракавы. Кровь бросилась ей в голову, и Томо нарочно раскрыла глаза пошире, словно отгоняя ночной кошмар. Ее вдруг затопила острая жалость к Суге, трепетавшей на сцене, словно огромная бабочка. Однако к жалости примешивалась обжигающая женская ревность.
Томо оставалась безжизненно-холодной все это время – в нервных, изматывающих поисках подходящей кандидатуры, но тут в глубине ее сердца пробудился голод желания, словно закончился пост. Томо пронзила острая боль: ей придется публично признать, что она уступает супруга сопернице. Добровольно. «Человек, который столь хладнокровно ввергает жену в геенну нечеловеческих мук, – это исчадие ада!» – подумалось Томо. Но она подчинила всю жизнь служению. И восстать против мужа и господина – значит разрушить себя самоё. К тому же Томо еще любила этого человека, и любовь была даже сильней, чем привычка служить и подчиняться. Мучительная, безответная, иссушающая любовь… Томо даже не помышляла о разводе. Да, положение и деньги Сиракавы, судьба ее дочери Эцуко и старшего сына Митимасы, жившего у родственников в глухой провинции, – все это имело большое значение. Но гораздо важнее было другое: ее обуревало неистовое желание объяснить супругу, какие чувства бушуют в ее груди. Никто, кроме мужа, не мог утолить ее голод.
Теперь между нею и мужем встанет другая – эта девочка Суга, а значит, супруг, давно охладевший к Томо, отдалится еще сильней…
Томо послала фотографию Суги на одобрение Сиракаве и получила одобрительный ответ. В ту ночь она проснулась от собственного крика: ей приснилось, будто она душит мужа. Томо лежала с широко открытыми глазами, все еще ощущая чудовищную силу в своих крепко стиснутых пальцах. Ей стало страшно. Томо села на постели и обхватила плечи руками, пытаясь унять бешеное биение сердца. Рядом безмятежно спала Эцуко. Ее лицо смутно белело в тусклом свете ночника. Днем оно казалось на удивление взрослым, но во сне было совсем невинным и беззащитным, как у младенца. Томо вдруг захлестнуло чувство щемящей любви. Она так страшилась избаловать дочь, что не позволяла себе ни малейшего проявления нежности. И потому девочка тянулась к кому угодно, только не к матери: к служанкам, к знакомым и посторонним, – ко всем, кто был мил и добр с ней. Она и представить себе не могла такую картину – мать, очнувшуюся от ночного кошмара в липком поту, мать, взирающую на нее тоскливым и жадным взглядом, словно путник в пустыне, чудом набредший на животворный источник…
Когда Суга в сопровождении Томо впервые пришла в дом Кусуми, Эцуко запрыгала от восторга, узнав, что красавица едет вместе с ними в Фукусиму. Ее детское сердечко трепетало от счастья.
– Какая красивая… Ведь это та самая девушка с фотографии, да, матушка? А что она будет делать в нашем доме?
– Она будет помогать твоему отцу, – пряча глаза, ответила Томо.
– Так же, как Сэки?
– Ну-у… Пожалуй…
Почувствовав, что дальше расспрашивать небезопасно, Эцуко отступилась. Томо строго-настрого приказала Ёси молчать, и та держала рот на замке.
Беседуя с матерью Суги, Томо терзалась противоречивыми чувствами. Коротышка-мать с круглым личиком и приплюснутым носом была совсем не похожа на красавицу дочь. Ее явно терзали раскаяние и стыд – ведь она отдавала Сугу ради денег. Мать уповала на Томо, как на единственную опору. От Томо зависело благополучие Суги, а потому она без конца повторяла, что Суга слаба здоровьем, что она нежна и хрупка, и даже поведала, что ее дочь «пока еще не совсем женщина».
– Но госпожа такая великодушная, добрая и хорошая, что теперь мне стало гораздо спокойней, – заключила она в конце разговора. – Даже если Суга не понравится господину, госпожа не позволит ее обидеть, так все говорят…
Все это она умоляющим тоном выложила Кин прямо в присутствии Томо, с такой наивной верой в ее справедливость, что Томо в душе поклялась себе никогда не обидеть Сугу и оградить ее от несчастий, что бы там ни случилось. Она должна, она просто обязана быть в ответе за все – даже за счастье соперницы, которая отберет у нее супруга… При мысли о собственной странной, противоречивой судьбе губы Томо кривились в лишь одной ей понятной усмешке. Только в такие моменты ей удавалось забыться. Только в такие минуты она могла смотреть на все холодно и беспристрастно – на мужа, на Сугу и даже на Эцуко… Вскоре после праздника О-Бон Томо, Эцуко, Ёси и Суга покинули дом Кусуми и отбыли в Фукусиму на четырех рикшах. Суга, в легком летнем кимоно из шелкового газа с лиловым тканым узором и поясом-оби из тяжелого, с блеском, шелка «хаката», первую половину пути проехала в одной коляске с Эцуко, которая нипочем не желала расстаться с новой «игрушкой». Проводив глазами удаляющуюся коляску с девочками, похожими на два прелестных цветка – один побольше, другой поменьше, – Кин и Тоси вернулись в гостиную.
– Она понравилась юной госпоже… Благодарение богу, – сказала Кин, распуская тесемки, поддерживавшие длинные рукава кимоно. Дочь, прихрамывая, подошла к окну и принялась раскладывать шитье.
– Этот господин Сиракава… Он очень дурной человек, – проронила она. – Мне было так жалко всех трех – госпожу, Эцуко и Сугу, – что я не могла сдержать слез…
Тоси промокнула кончиками пальцев уголки глаз и придвинула к себе подставку для шитья.
Глава 2
Зеленый виноград
В давние времена здесь был постоялый двор для заезжих даймё и прочих важных господ. Даже теперь гостиница «Дзёсюя» оставалась лучшей во всей округе. Здесь всегда останавливались видные люди. Сейчас в комнате на втором этаже за доской для игры в го[21] сидели два постояльца. Шторы из зеленого бамбука были подняты, и в комнату врывался прохладный ветерок. На почетном месте восседал главный секретарь префектуральной управы Фукусимы господин Юкитомо Сиракава, напротив – его помощник и подчиненный Оно.
Сиракава считался правой рукой губернатора Митиаки Кавасимы, прозванного в народе Дьяволом. Кавасима был одним из самых влиятельных людей, что стояли за правительством «бакуфу»[22]. В родной префектуре он вызывал такой ужас, что при одном его имени умолкали плачущие дети. В последнее время он возглавил жестокую борьбу с поднимавшим голову Движением за свободу и народные права – «Дзию минкэн ундо»[23].
Сиракава был худ, настолько худ, что его длинная шея буквально болталась в свободно распахнутом вороте летнего полотняного кимоно. Породистый, с горбинкой нос рельефно выделялся на тонком удлиненном лице. Притворно-добродушные глаза временами вспыхивали огнем такого неукротимого бешенства, что становилось ясно – Сиракава маниакально одержим и опасен. И все же сторонний человек вряд ли бы смог распознать в сем импозантном немолодом господине ближайшего соратника дьявола-губернатора.
– Запаздывают… – заметил Оно, сгребая к себе черные шашки. Партия закончилась. Сиракава глубоко затянулся, пыхнув тонкой серебряной трубкой, потом ленивым жестом, не торопясь, вытащил из-за оби золотые часы и пробормотал себе под нос:
– Уже пять… Скоро должны подъехать. Я послал конюха, тот будет ждать на самом въезде в город, так что разминуться не должны…
Однако он не предложил Оно сыграть вторую партию, что говорило о владевшем им чудовищном напряжении. Оно послушно убрал доску для игры в го и придирчиво осмотрел татами[24] – нет ли под доской пыли: он прекрасно знал маниакальную чистоплотность своего господина.
Сиракава приехал в город накануне под предлогом делового визита в управу префектуры Тотиги, соседствовавшей с Фукусимой. На самом же деле цель поездки была совершенно иная – встретить жену и дочь, отсутствовавших больше трех месяцев. Оно уже наслушался от сопровождавшего Сиракаву конюха, что дело тут не только в старой жене и малолетней дочери. Сиракава не поленился доехать до «Уцуномии» еще по одной причине.
– Говорят, она просто изумительная красавица! – возбужденно тараторил конюх. – Вообще-то… наш господин… он странный… Послать жену в Токио с подобным поручением… – Лицо у конюха было совершенно потрясенное.
До Оно и прежде доходили разные слухи о похождениях Сиракавы. Например, говорили, что сам губернатор посоветовал Сиракаве официально взять в дом наложницу или даже двух, если он «намерен продолжать в том же духе», что Сиракава собирается выкупить некую гейшу в каком-то городе Фукусимы, и многое другое. Однако отправить в столицу жену и поручить ей найти любовницу по своему вкусу… Это как-то чересчур. Трусоватый и малодушный Оно придерживался традиционных устоев, так что новость потрясла его до глубины души. У него просто не укладывалось в голове, как могла чопорная госпожа Сиракава пойти на такое – и каково ей было бродить по огромному Токио, подыскивая мужу наложницу! Наверное, жены таких великих людей, как господин Сиракава, тоже способны развить в себе необычайные дарования…
Под окном послышались крики подъехавших рикш. Потом раздался нестройный хор голосов, приветствовавших прибывших гостей. Топот ног по коридору…
– Кажется, они! – вскликнул Оно и трусцой направился к ведущей вниз лестнице.
Только спустя час Томо представила Сиракаве свежую, как бутон нетронутой розы, девушку. Ее волосы были тщательно собраны в девичий пучок «тодзинмагэ».
– Позвольте представить Сугу. Я привезла ее из Токио. Она будет помогать вам в работе, – церемонно произнесла Томо.
До этого Томо и Эцуко лишь коротко поприветствовали Сиракаву, после чего вернулись к ожидавшей их в коридоре Суге. Томо тотчас же отправила обеих девочек мыться. Потом усадила Сугу перед зеркалом и лично поправила растрепавшийся пучок и боковые локоны. Волосы Суги после ванны блестели, как лак. Гребень с трудом продирался сквозь густые пряди, и Томо вновь была ослеплена непорочной белизной чистого, без косметики лица в обрамлении блестящих, отливающих синевой волос. Это она выбрала Сугу, к тому же уплатила за нее изрядный выкуп родителям. А значит, она должна убедить супруга, который хорошо знает толк в женских прелестях, что совершила хорошую сделку и потратила деньги не зря. Прихорашивая и без того красивую Сугу, Томо с каким-то странным, непонятным ей самой чувством наблюдала за Эцуко, которая вертелась у зеркала, любуясь Сугой, как большой куклой, и беззаботно щебетала:
– Какие красивые украшения для волос, мамочка! Право же, они просто прелесть!
– Я мало на что гожусь, господин… Прошу простить меня за это, – пробормотала Суга слова приветствия, припав к полу в низком поклоне, – точь-в-точь, как наставляла ее в Токио мать. Она съежила плечики, обтянутые лиловым кимоно с подколотыми по росту рукавами. Ее принесли в жертву на благо семьи, не объяснив ничего, кроме того, что отныне ей придется верой и правдой служить дому Сиракава, – главным образом, господину. Вот только как именно, не уточнил никто. Не обмолвился даже словом.
– Помни, что ты должна повиноваться господину и не идти против его воли. Что бы ни случилось, – сурово наставляла ее мать перед отъездом, так что сейчас Сугу больше всего страшила перспектива навлечь на себя гнев хозяина дома. Слава богам, за три дня совместной жизни в Киото она подружилась с дочкой хозяина. Да и сама хозяйка, несмотря на провинциальную сдержанность, оказалась совсем не злой. Так что оставалось главное – сам господин, который, как ей сказали, занимал какой-то очень важный пост в префектуре, – чуть ли не главный секретарь управы, второе лицо после самого губернатора… К тому же он намного старше своей жены… Суга дрожала от страха. Что, если сейчас он бросится на нее с упреками, закричит страшным голосом?! В Токио она могла бы сбежать домой, но здесь Фукусима, до Токио много десятков ри[25], и при одной только мысли об этом у Суги сердце уходило в пятки.
– Значит, тебя зовут Суга? Хорошее имя. А сколько тебе лет?
– Пятнадцать, господин.
Суга старательно выговаривала слова, держась изо всех сил. Но по ее лицу было видно, что она вот-вот расплачется. Широко распахнутые глаза под четко вылепленными веками казались неправдоподобно огромными, а слишком густые, словно подведенные брови разительно противоречили растерянному выражению лица, создавая обманчивое впечатление силы, и лицо Суги, освещенное желтоватым светом лампы, казалось странно контрастным, словно у актера на сцене. Ее красота невольно напомнила Сиракаве лицо прославленной куртизанки Имамурасаки, любовавшейся вечерней цветущей сливой в квартале Ёсивара[26] в окружении столь же прекрасных девушек ее роскошной свиты. Это было яркое воспоминание далекой юности…
– Наверное, тебе скучно в нашей глуши после шумного Токио?
– Нет, господин.
– А театр тебе нравится?
– Да, господин.
Тут Суга вся напряглась, не зная, правильно ли она ответила.
– Ты – как наша Томо, – засмеялся Сиракава. – У нас в Фукусиме тоже есть театр. Сейчас там, кажется, выступает заезжий актер из Киото, Токидзо. Я свожу тебя посмотреть на него, когда мы приедем домой.
Хозяин был, похоже, в добром расположении духа. Однако даже ничего не значащая фраза таила для Суги скрытую угрозу, отдаваясь звоном в ушах.
Наконец господин пожелал доброй ночи и отпустил ее восвояси. Только когда Суга в сопровождении Эцуко вышла в коридор, чудовищное напряжение спало.
– Я боюсь, она немного скрытная… – осторожно заметила Томо, проводив Сугу взглядом, и заглянула мужу в лицо. Глаз его были полуприкрыты, но в них угадывался какой-то темный отсвет, как от движения черного водоворота. Томо прекрасно знала это выражение глаз. Оно появлялось у Сиракавы всегда, когда он начинал подбираться к вожделенной добыче. Выражение это напомнило Томо не только ее безмятежно-счастливую юность, но и бесчисленные горестные моменты, когда она беспомощно наблюдала, как загораются этим темным светом глаза супруга при появлении других женщин. У Томо всегда возникало омерзительное ощущение. У нее было такое чувство, будто ее живую плоть пожирают могильные черви.
– Она тихая и послушная. Но это же хорошо! Вот и для Эцуко нашлась подружка…
В тоне Сиракавы сквозило деланое безразличие, однако его взгляд не отрывался от детских движений бедер Суги, когда та, придерживая длинные рукава кимоно, резко встала и вышла из комнаты. Движения были точно такие же, как давным-давно у четырнадцатилетней Томо, которую мать Юкитомо пригласила «поиграть» к ним в дом. В них сквозило что-то почти мальчишеское, свидетельствующее о том, что Суга еще не сознает своей привлекательности. При этом ее лицо, плечи и грудь были уже по-женски округлы, и это открытие привело Сиракаву в еще большее возбуждение. Он просил жену найти невинную девушку, которая прислуживала бы и хозяйке. Но сейчас ему даже стало неловко: уж слишком ревностно Томо выполнила данное ей поручение и нашла сокровище, превосходившее все ожидания, – бутон с плотно сжатыми лепестками.
– Говоришь, ее родители держат лавочку упаковочных материалов?
– Да, в Кокутё. Прежде дела у них шли весьма недурно, но из-за негодяя работника они почти разорились. Я беседовала с ее матерью. Весьма приличная, добропорядочная женщина. – Тут Томо вдруг подумала, что пора сказать мужу об оставшейся части тех денег, что он вручил ей на расходы. Она потратила пятьсот иен на выкуп и на приданое для Суги. Часть суммы ушла на смотрины многочисленных гейш и учениц гейш, а также девиц из приличных семейств и полупрофессионалок, с которыми ее сводили посредники до появления Суги, но даже при этом она сэкономила половину, если не больше. Сначала Томо намеревалась вручить деньги мужу, как только переступит порог. Теперь она вновь попыталась поговорить об этом, однако по какой-то необъяснимой причине слова точно в горле застряли, – и она опять ничего не сказала. Томо вся вспыхнула. Но Сиракава ничего не заметил и хлопнул в ладоши, подзывая Оно.
– Оно-кун![27] Неси сюда доску, а то мы не доиграли. Томо! Завтра рано вставать, так что тебе лучше выспаться на первом этаже.
Томо бросила косой взгляд на крепкую коротенькую фигуру Оно, который раскладывал посредине комнаты доску для игры в го, и встала. Опасный огонь, вспыхнувший в глазах мужа, придал ему новое, незнакомое обаяние, к тому же они не виделись целых три месяца… Однако супруг не призвал Томо к себе. Томо была еще молода, едва за тридцать, и такое явное небрежение уязвило ее не только морально, но и физически. Она и сама не могла бы сказать, что означает неистовый жар, пылавший в ее груди, – жгучую ненависть или безумную страсть, – однако твердо решила не показывать слабости и медленно прошествовала по коридору с бесстрастным, как маска театра Но, лицом…
Суге, выросшей в шумном Токио, Фукусима показалась почти пустыней, а магазины с полупустыми полками – нищенскими и безлюдными. Резиденция Сиракавы располагалась кварталах в шести от префектуральной управы, на улице Янаги Кодзи. В старину это была самурайская усадьба с длинным крытым въездом и боковыми пристройками, с высокими, как в храмах, верандами и огромными пустынными залами.
Через распахнутые настежь сёдзи[28] гардеробной виднелся сад, где росли персимоны, яблони, груши, виноград. Рядом буйно пестрели всеми оттенками зелени огород и поля.
Дома Томо ждало новое потрясение: за время ее отсутствия к усадьбе пристроили крыло. Это был отдельный флигель с тремя комнатами, выходивший прямо в сад на солнечную, южную сторону, окруженный круговой верандой. Дом источал благоуханный аромат свежесрубленного кипариса. С главной усадьбой флигель соединяла крытая галерея.
– Плотники явились, как только госпожа уехала! – со странным выражением лица сообщила горничная Сэки. С ней Сиракаву тоже связывали не вполне формальные отношения, Сэки даже просила у Томо за это прощения.
Заглянув во флигель, Томо увидела следующую картину: посреди комнаты стояло новое зеркало на подставке из шелковичного дерева, на него была наброшена алая креповая накидка с кремовым узором. В соседней гардеробной в шесть татами красовался новый комод. У Томо даже глаза округлились.
– И постельные принадлежности тоже с иголочки! – негодующе заметила Сэки, раздвигая створки встроенного шкафа. Внутри, на верхней и нижней полках, на подстилках из шелковых фуросики[29] цвета бледно-зеленых, едва распустившихся почек, с изысканным узором из виньеток лежали два пухлых, свеженабитых ватой матраса, одно ватное одеяло и одно стеганое ночное кимоно из тисненого золотисто-желтого шелка в клетку. Рукава кимоно с пунцовым отливом были уютно сложены вместе.
– Это чья комната? – удивленно спросила пришедшая с Томо Эцуко, повернув к матери свое белое удлиненное личико.
– Твой отец построил новый флигель, чтобы работать здесь с деловыми бумагами, – резко ответила Томо. – А теперь ступай, милая!
Она словно гнала Эцуко прочь. Нет, она не должна допустить, чтобы этот кошмар, что угрожал погубить ее жизнь, разрушил еще и жизнь дочери! Однако для Эцуко беспредельное отчаяние матери выглядело иначе. Мать нужно бояться. И девочка вприпрыжку побежала по коридору – прочь от Томо. Она искала компанию поприятнее, например, красивую Сугу, словно источавшую сладостный аромат.
– Прикажете постелить господину здесь прямо сегодня? – спросила Сэки, так и впиваясь глазами в Томо.
– А… Да, пожалуй.
– А Суге-сан? В соседней комнате?
– Пусть постелет себе сама.
Томо постаралась придать лицу безразличное выражение, однако при мысли о том, что в груди Сэки бушует точно такой же пожар, она невольно перевела глаза в сад. Ее затопило чувство стыда.
В саду, в тени зубчатых зеленых листьев, под вьющимися виноградными лозами стояли Эцуко и Суга. Суга была одета в летнее юката с белым узором на темно-синем фоне. Она подняла кверху руку, видимо, по просьбе Эцуко, легонько касаясь свисавшей над ее головой бледно-зеленой грозди. Солнечный свет, просачивавшийся сквозь увитую виноградной лозой шпалеру, придавал коже Суги нежный зеленоватый оттенок.
– Как же их можно есть – ведь они такие зеленые?
– Попробуй, очень вкусно! Это европейский сорт.
Звонкий голосок Эцуко доносился очень четко.
Суга сорвала гроздь и положила в рот похожую на зеленый сапфир ягоду.
– Ну что, сладко?.. Саженцы нам прислали с опытной сельскохозяйственной станции.
– Вправду сладко… Первый раз вижу сладкий зеленый виноград!
Радостно улыбаясь друг другу, девочки отрывали зеленые виноградины и отправляли их в свои коралловые ротики. Сейчас Суга, на людях такая взрослая и сдержанная, казалась невинным ребенком, почти ровесницей Эцуко. Глядя на ее чистое, беззаботно улыбающееся лицо, на расслабленные движения, Томо не могла избавиться от видения: ей мерещились спрятанные за створками фусума[30] желтые постельные принадлежности…
Это было подло. Это было дурно. Отдать девочку, которой впору в куклы играть, многоопытному, познавшему все пороки этого мира мужчине – вдвое старше ее! Родители знали правду и поощрили сделку. Ведь если не Сиракава, то кто-то другой… Все равно пришлось бы продать юную плоть Суги в обмен на благополучие семьи. Суга так непорочна и ослепительно красива, что была обречена с самого начала. Ее все равно продали бы – не сюда, так в другое место. В другие руки. Рано или поздно. Томо испытала невольное чувство вины за то, что пособничала мужу в чудовищном злодеянии. Все ее существо восставало против происходящего, словно желудок отказывался принимать мясо птицы, убитой на ее глазах, – пусть даже убила ее не она… Ну почему, почему ей приходится быть участницей этой жестокости, столь же подлой, как работорговля?!
Рассматривая прохладную кожу Суги, словно излучавшую белизну только что выпавшего снега, глядя в ее черные, огромные, влажные, всегда широко распахнутые, словно от затаенной тревоги глаза, Томо испытывала странное чувство – невольную жалость к великолепному животному, которого ведут на заклание, и в то же время острую ненависть к сопернице, что в один прекрасный момент превратится в чудовище, пожрет ее мужа и ураганом промчится по дому, круша все на своем пути…
На другой же день после их возвращения в Фукусиму в усадьбу зачастили торговцы из мануфактурного дома «Маруя». Почти каждый день они приходили с тюками тканей всех сортов и оттенков и раскладывали их в гостиной. Обычно они заявлялись под вечер, к возвращению Сиракавы из управы и заваливали всю огромную гостиную отрезами, чтобы хозяин мог сам посмотреть и сделать выбор. Сиракава покупал ткани и для Томо с Эцуко тоже, однако главной его заботой была, конечно же, Суга. Он словно подбирал приданое для невесты, предусматривая все, что может понадобиться юной жене. Летние и зимние официальные кимоно с фамильным гербом и пущенным по подолу рисунком, узорчатые двойные пояса на подкладке… Отрезы шелкового газа, жатого шелка… Драгоценное тончайшее полотно, шелковый креп и даже алые нижние длинные кимоно. Суга ужасно смущалась из-за того, что к ней, обычной служанке, которая ничего еще не умеет, относятся, как к почетной гостье. Новые кимоно не радовали ее, она скорее испытывала смутное беспокойство. Однако это лишь еще сильнее разжигало затаенный огонь в глазах Сиракавы.
– Суга! Накинь на плечо вон тот отрез лилового газа и приложи поверх оби в горошек. А теперь отойди и покажись! – командовал он, и его впалые щеки розовели от приливающей крови, как в те минуты, когда он впадал в ярость. Суга повиновалась, робея. Заученным жестом дочери торговца, к тому же профессиональной танцовщицы, привыкшей носить сценические костюмы, она накидывала на плечи недошитое кимоно, потом повязывала оби и принимала соответствующую позу, яркая и ослепительная, как красавица с гравюр Кобаяси Киётики[31]. Сидевшие в зале торговцы из дома «Маруя» и домочадцы невольно вскрикивали от восхищения.
Больше всех восторгалась Эцуко, не отходившая от Суги ни на шаг. Белая и тонкая, изящная, словно юная цапля, Эцуко казалась еще изысканней и утонченней, стоя рядом с нераспустившимся пионом – Сугой.
– Для Эцу возьмем белый отрез с узором из листьев хаги[32]. А к нему алый пояс, – заметил Сиракава, повернувшись к Томо.
Непривычная для Сиракавы оживленность и отсутствие всякой стыдливости у застенчивой от природы Суги сказали Томо все. Ее супруг еще не успел добраться до девочки. Для того чтобы завоевать столь юное существо, даже ему, похоже, требовалась особая тактика – не такая, которую он использовал, соблазняя гейш или служанок. Нарядить в роскошные одежды ребенка из бедной семьи – это, возможно, и впрямь верный способ покорить девичье сердце… Наблюдая за мужем краешком глаза, Томо вдруг вспомнила, как Сиракава во время поездок присылал из провинции ей, тогда совсем юной жене, собственноручно выбранные украшения для причесок и кимоно.
Сиракава слов на ветер не бросал. Пообещал Суге сводить ее в театр – и слово сдержал. Почти каждый вечер в лучших ложах единственного в Фукусиме театра «Титосэ-дза» восседала женская половина семьи Сиракава – Томо, Эцуко, Суга и несколько служанок. Суга в летнем кимоно с пунцово-кремовой в белый горошек жатой лентой поверх оби бросалась в глаза даже среди расфранченных дам, переполнявших зал, и актеры в гримерной только и обсуждали, что ее прелести: «Говорят, это молодая жена господина главного секретаря, он недавно привез ее в Фукусиму. Какая красотка!.. Вы только взгляните на ее лицо – точь-в-точь, как у старинных красавиц с картин “осиэ”![33]»
Активисты Либеральной партии, считавшие Сиракаву своим заклятым врагом, при виде Суги приходили в неистовство. Еще бы, ведь это Сиракава разгонял их подпольные сборища и бросал в тюрьму главарей движения! «Такие подонки лишают народ элементарных человеческих прав, а сами осыпают роскошью продажных девок! Позор для страны!» – бесновались они. Но ни Суга, ни Эцуко, разумеется, не замечали устремленных на них горящих ненавистью глаз. Томо же безоговорочно верила словам собственного мужа и жены губернатора: те, кто бунтует против власти чиновников, которым сам император своим высочайшим указом повелел денно и нощно печься о благе государства, – это подонки; они мутят народ бреднями о «правах человека» и заслуживают такого же строгого наказания, как разбойники и поджигатели. Воля императора и чиновников была для нее законом, точно так же как впитанная с молоком матери мораль: жена да повинуется мужу и господину своему, сколь бы абсурдны ни были его приказания. Томо родилась в глухой провинции Кюсю в конце правления «бакуфу» и едва умела читать и писать, так что этот кодекс был для нее своего рода щитом от житейских бурь и невзгод.
В театре каждый вечер давали новую пьесу. Однажды, как только они вошли в ложу, Эцуко начала хныкать, что ей страшно. На сей раз пьеса была про привидения – «Ужасное происшествие в Ёцуя[34]». На сцене то и дело гас свет и раздавались таинственные скрипы и звуки. Пьеса «Происшествие в Ёцуя» имела бешеный успех у любителей ужасов, и потому ее частенько ставили в летний сезон[35].
– Не бойтесь, госпожа, – успокаивала Эцуко Суга, – как только появится привидение, мы с вами вместе зажмуримся!
Как ни странно, Суга была совершенно спокойна и не отрывала глаз от сцены. «А в Суге есть стержень – подумалось Томо. – Девчонка-то не робкого десятка…»
После пролога и сцены в храме богини Каннон, вслед за убийством отца героини О-Ива начиналась любимая Томо часть спектакля: служанка Иэмона – мужа главной героини – расчесывала О-Ива волосы. Пряди выпадали одна за другой. Томо так увлеклась пьесой, что даже перестала смотреть по сторонам.
На сцене на фоне желтовато-зеленой москитной сетки сидела несчастная О-Ива, прижимавшая к груди младенца. Ее изможденное лицо было все еще прекрасно, хотя недавние роды были слишком тяжелыми. О-Ива жалобно роптала на свою несчастную долю: пошатнулось здоровье и охладел супруг. Она без конца твердила о том, как ей хочется перед смертью увидеться с младшей сестрицей, чтобы отдать ей подарок покойной матушки – гребень. Иэмон увлекся другой девушкой, жившей по соседству, и мечтал поскорее избавиться от надоевшей жены. Родня соседки послала О-Ива якобы чудодейственное снадобье, на самом же деле – отраву. Яд должен был обезобразить ее, чтобы Иэмон не терзался сожалениями, бросив жену. О-Ива доверчиво приняла подарок и, не чуя подвоха, каждый день с благодарностью пила яд. Томо смотрела на сцену с душевной мукой, несколько раз она даже зажмурилась, чтобы унять пульсировавшую в висках кровь. Ей была так понятна и так знакома наивная доверчивость героини, безжалостно преданной самыми близкими людьми… Любовь, достигнув своего апогея, охладевала, катясь к неизбежному концу – к ледяному аду. Как легко угадывалось сходство О-Умэ, укравшей у жены Иэмона, с наложницей Сугой, как был похож холодный, жестокий, но такой привлекательный Иэмон на ее Юкитомо!.. А сама О-Ива, после чудовищного предательства превратившаяся в мстительного духа зла, напоминала Томо… Томо не отрывала от сцены глаз. Жуткие эпизоды мести О-Ива следовали одна за другой. Эцуко все дрожала от страха и словно в шутку закрывала ладошками глаза, а потом отключилась от происходящего и уснула, уткнувшись лицом в колени Суги. Томо пришлось нести на руках ее обмякшее, отяжелевшее тельце до коляски рикши.
Вечерний летний бриз продувал занавески коляски. Томо, не отрываясь, смотрела на безмятежно спавшую дочь, на ее маленькую, словно кукольную, головку с детской прической-пучком, на такие правильные, изящные черты лица. Ей вдруг вспомнился старший сын Митимаса, живший в деревне, в доме родителей Томо. Нет, она не должна пойти по стопам О-Ива! Ей грозит безумие в сотни раз страшнее, чудовищней, – но она еще крепче прижмет к себе Эцуко, прикрываясь ею, словно святыми угодниками. Ибо, если она впадет в безумие, что станет с ее детьми?..
В присутствии Суги Томо, чтобы не уронить достоинства, приняла все как должное и с маниакальным упорством каждый вечер, как и прежде, стелила мужу в собственной комнате – на всякий случай. Стелила сама, отпустив на ночь служанок, и сама же убирала на рассвете постельные принадлежности в шкаф. Однако из ночи в ночь постель мужа оставалась пустой и холодной.
Но однажды Сиракава вернулся домой непривычно поздно и, не заходя в новый флигель, прямиком направился в комнату Томо.
– Отошли служанок спать… И подай мне саке! – рявкнул он.
Глаза у Сиракавы налились кровью, на виске пульсировала синяя жилка. Вообще Сиракава саке не любил, так что такая просьба в столь поздний час была из ряда вон выходящей.
– Посмотри! – сказал он и, приподняв рукав кимоно, обнажил руку. Левое предплечье было обмотано белой тряпкой, сквозь которую проступала алая кровь. Томо, несшая бутылочку с подогретым саке, так и застыла на месте, как вкопанная.
– Что… Что случилось?!
– Мы застали тайную сходку этих подонков из Либеральной партии… Но успели схватить только десятерых, остальные улизнули. А потом они напали на нас по дороге домой… – Сиракава расхохотался. – Хорошо, что это левая рука! – Голос его звенел от напряжения. Лицо перекосила жутковатая улыбка.
Враг оказался достойным. Ему повезло, что он остался в живых. И вот, после смертельной схватки он пришел не к Суге, а к ней, к Томо! При этой мысли рука Томо, сжимавшая бутылочку, дрогнула.
– Какое счастье, что вы… – бессвязно пролепетала она, глядя на мужа расширенными глазами. В его зрачках вспыхнули дикие огоньки. Он залпом выпил саке и здоровой рукой грубо привлек Томо к себе. Ее волосы рассыпались по плечам. Томо уткнулась лицом в грудь Сиракавы, попыталась ухватиться за воздух, потеряла равновесие – и тяжело рухнула в объятия мужа. Саке выплеснулось из бутылочки, облив Сиракаву. Резкий аромат перебродившего вина окутал их тяжелым облаком. Сиракава буквально впился губами в рот Томо.
Он ушел в новый флигель только под утро. О Суге не обмолвился ни словом, но Томо и так было ясно, что он просто-напросто не осмелился выплеснуть на столь юное, еще нетронутое существо брутальную мощь кровавого вожделения. Лежа в своей одинокой постели, Томо кусала губы от унижения. Муж явился к ней лишь потому, что был ранен, а она… она не сумела скрыть свою страсть… и теперь он, наверное, самодовольно глумится над ее глупостью. При этой мысли ей захотелось впиться ногтями в лицо супруга.
На следующее утро все газеты пестрели сообщениями о событиях минувшей ночи: «Главный секретарь Сиракава устроил засаду и выследил тайную сходку приверженцев Либеральной партии, но на обратном пути несколько уцелевших мятежников напали на него, и он получил огнестрельное ранение. К счастью, рана оказалась пустяковой, он выстрелил в ответ и сразил наповал одного из разбойников…» Сиракава ничего не сказал Томо о последней подробности, но теперь ей стало окончательно ясно, что именно привело мужа в ее постель после нескольких месяцев воздержания. Убийство человека! Сиракаве было необходимо выплеснуть на нее свою жажду крови! Сердце Томо пронзила игла чудовищного унижения.
В префектурной управе и в городе только и судачили что об этом событии. Томо, случайно подслушавшая беседу Эцуко с Сугой, не преминула отметить, что голосок Суги звенел не от страха, а от наивного восхищения.
– Знаете, юная госпожа, ваш батюшка – просто герой! Да, настоящий герой!
Девочки сидели на веранде, играя в веревочку. Красный шнурок обвивался вокруг их тоненьких пальчиков.
– С чего ты взяла, Суга-тян?[36]
– Ему грозила смертельная опасность, а он об этом даже не обмолвился! Наутро я видела, как он смешно умывается… левой рукой мочит полотенце в воде… Я спросила его, что случилось – а он… Он только улыбнулся и сказал, что потянул плечо. Насчет раны ни словечка!
– Может, ему не было больно?
– Еще как было! Сегодня я меняла ему повязку и увидела во-от такую дырку! – Суга, сдвинув свои четко очерченные брови, отмерила на шнурке два суна[37] и показала Эцуко.
Эцуко, вероятно, подумала, что такая глубокая рана должна ужасно болеть, и хорошо, что ее папочку не убили.
Но Сугу занимало вовсе не это:
– Верно ведь говорят, что настоящий мужчина никогда не покажет, как ему больно. Господин не издал ни звука. Он просто великолепен!
Трудясь над шитьем в соседней комнате, Томо с тревогой услышала нотку детского восхищения в голосе обычно неразговорчивой Суги. Она расхваливала господина с таким пылом! В ее мечтательных глазах и в грациозно изогнувшейся фигурке не было и намека на ту неестественную скованность, что сквозила в ней в первые дни. В Суге проснулось игривое ребячество, и теперь она походила на Эцуко. У Сиракавы ушел целый месяц на то, чтобы усыпить ее бдительность и сделать открытой и уязвимой. Нет, он пока не тронул ее. Но это скоро случится, вот-вот…
