Одинокая жизнь Веры Николаевны
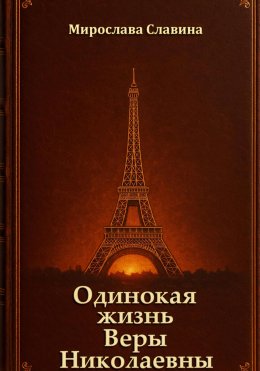
Глава 1
В тусклом свете февральского утра Вера Николаевна рассматривала свое лицо в зеркале туалетного столика. Пятьдесят три года, а морщины уже прочертили свои замысловатые маршруты вокруг глаз – тех самых глаз цвета осеннего неба, которые когда-то воспевал в неуклюжих сонетах студент филологического факультета, имя которого давно стерлось из памяти, как стираются надписи на запотевшем стекле.
Она провела пальцами по холодному фарфору пудреницы, унаследованной от матери. Эта вещица, с потускневшей позолотой и едва различимым вензелем, была, пожалуй, единственным свидетелем того, что некогда в этой квартире, пропахшей книжной пылью и засушенной лавандой, существовала иллюзия счастья.
Вера Николаевна преподавала французскую литературу в университете, где коридоры пахли мелом и несбывшимися надеждами. Студенты уважали ее эрудицию, коллеги – педантичность, с которой она составляла расписание кафедральных заседаний. Никто не замечал, как она замирала, когда в разговоре случайно упоминали Париж – город, который она знала наизусть по романам Пруста, но куда так и не поехала с Сергеем Петровичем, обещавшим ей этот вояж двадцать лет назад, перед тем как исчезнуть из ее жизни с той же непринужденностью, с какой исчезает с тарелки последний кусочек торта.
Ее дни текли по расписанию, точному, как швейцарские часы: лекции, библиотека, прогулка по набережной, где она считала шаги между фонарями, чай с соседкой Маргаритой Львовной, обсуждавшей сериалы с тем же пылом, с каким средневековые схоласты обсуждали природу божественного. И книги – бесконечная вереница книг, в которых чужие страсти и чужое счастье просвечивали сквозь строки, как солнце сквозь листву.
Иногда, в особенно тихие вечера, когда за окном шелестел дождь, а в чашке остывал чай, Вера Николаевна позволяла себе думать о том, что, возможно, она прожила не свою жизнь. Что где-то, в каком-то параллельном мире, существует другая Вера, которая не побоялась уехать с тем аспирантом-искусствоведом, звавшим ее в Венецию. Или та Вера, что ответила "да" застенчивому вдовцу с двумя детьми, предложившему ей разделить его одиночество.
Но эти мысли она отгоняла, как назойливых мух, возвращаясь к статье о символизме в поэзии Бодлера, которую обещала сдать в журнал к концу месяца.
В ее гардеробе преобладали оттенки серого и коричневого – цвета, не привлекающие внимания, позволяющие слиться с фоном городских улиц. Единственным ярким пятном был шелковый шарф цвета граната, подаренный когда-то матерью. Вера Николаевна надевала его только по особым случаям, которые случались все реже.
Сегодня, однако, она достала этот шарф из ящика комода. Сегодня был день ее рождения, и она решила пойти в театр одна – посмотреть "Трех сестер". Билет лежал на столе рядом с нераспечатанной поздравительной открыткой от бывших студентов.
Вера Николаевна повязала шарф вокруг шеи, и на мгновение ей показалось, что из зеркала на нее смотрит другая женщина – та, чья жизнь могла бы быть наполнена иным содержанием, кроме тишины и запаха книжной пыли.
Но это была всего лишь игра света. Вера Николаевна поправила прическу, взяла сумочку и вышла из квартиры, аккуратно заперев дверь. В подъезде пахло жареной рыбой и чужим счастьем.
Театр встретил Веру Николаевну гулом голосов и запахом духов, смешанным с ароматом свежего кофе из буфета. Она купила программку у девушки с неестественно рыжими волосами и прошла в зал, где бархатные кресла хранили отпечатки тысяч судеб, приходивших сюда за катарсисом или просто убить вечер.
Ее место оказалось в середине ряда, между полной дамой, шуршащей конфетной оберткой, и пустующим креслом. Вера Николаевна испытала мимолетное облегчение от этой пустоты справа – маленькая роскошь одиночества в толпе.
Когда погас свет и занавес дрогнул, она почувствовала, как кто-то торопливо пробирается к соседнему месту. Мужчина средних лет, пахнущий табаком и чем-то неуловимо знакомым, извинился шепотом и сел рядом. В темноте его профиль казался вырезанным из черной бумаги – четкий, с горбинкой на носу и упрямым подбородком.
Три сестры на сцене мечтали о Москве с тем же отчаянием, с каким Вера Николаевна когда-то мечтала о Париже. Она знала пьесу наизусть, но сегодня слова Чехова звучали иначе, словно обращенные лично к ней. "В Москву! В Москву!" – эхом отдавалось в ее сознании, превращаясь в "В Париж! В Париж!" – мечту, похороненную под слоем лет и несбывшихся возможностей.
В антракте сосед неожиданно заговорил с ней:
– Простите, но мне кажется, мы встречались раньше.
Вера Николаевна повернулась к нему, готовая вежливо отрицать это предположение, как делала всегда, когда незнакомцы пытались завязать разговор. Но слова застыли на губах. В тусклом свете фойе она узнала эти глаза – серые, с золотистыми крапинками, как галька, омытая морем.
– Леонид? Леонид Аркадьевич?
Это был ее бывший студент, защитивший под ее руководством диплом о влиянии Бодлера на русский символизм пятнадцать лет назад. Тот самый, который однажды оставил на ее столе томик Верлена с засушенным цветком жасмина между страницами.
– Вера Николаевна! Невероятно! Я только вчера вернулся из Франции и подумал, что должен сходить в театр, прежде чем снова погрузиться в работу.
Они говорили в буфете, где Леонид настоял на бокале шампанского – "В честь встречи и вашего дня рождения". Он помнил дату, и это поразило ее больше, чем седина на его висках и морщинки в уголках глаз, делавшие его похожим на постаревшего мальчишку.
Он рассказывал о своей жизни – о работе переводчиком, о маленькой квартире в Марэ, о книге, которую пишет о французских поэтах-символистах. Вера Николаевна слушала, и ей казалось, что он говорит о той жизни, которая могла бы быть ее собственной.
– А вы? – спросил он наконец. – Все так же влюбляете студентов в Бодлера и Рембо?
Она улыбнулась, чувствуя, как краснеет – впервые за много лет.
– Все так же. Только студенты теперь другие. Им Бодлер кажется старомодным, они предпочитают постмодернистов.
– Бедные дети, – рассмеялся он. – Не знают, что пропускают.
Второе действие они смотрели иначе – словно соучастники тайного заговора. Когда их руки случайно соприкоснулись на подлокотнике, Вера Николаевна не отдернула свою, как сделала бы обычно. Тепло его пальцев казалось якорем, удерживающим ее в настоящем моменте, не позволяя уплыть в привычную отстраненность.
После спектакля он предложил проводить ее домой. Они шли по ночным улицам, где фонари создавали островки света в февральской темноте. Леонид рассказывал о Париже – не туристическом, с Эйфелевой башней и Лувром, а о том, который знают только местные: о маленьких книжных лавках, где продавцы помнят вкусы постоянных покупателей, о кафе, где подают лучший в мире горячий шоколад, о скамейке в Люксембургском саду, где хорошо читать Пруста в дождливые дни.
У подъезда ее дома они остановились. Вера Николаевна понимала, что должна попрощаться, поблагодарить за приятный вечер и вернуться в свою квартиру, к своим книгам и своему одиночеству. Так требовал сценарий ее жизни, отрепетированный годами.
Но вместо этого она услышала свой голос, произносящий:
– Хотите чаю? У меня есть настоящий жасминовый. Из Китая.
В ее квартире, среди книжных полок и старинной мебели, Леонид казался неожиданно уместным, словно недостающий элемент головоломки, который наконец нашел свое место. Он рассматривал корешки книг, узнавая старых знакомых, брал в руки фарфоровые статуэтки, восхищаясь их изяществом.
– Вы совсем не изменились, Вера Николаевна, – сказал он, принимая чашку чая. – Все такая же красивая.
Она хотела возразить, сказать о морщинах и седых волосах, которые она тщательно закрашивает каждый месяц, но промолчала. В его глазах она видела отражение той женщины, которой могла бы быть – женщины, не отказавшейся от возможности жить полной жизнью.
Они говорили до рассвета. О книгах, о Париже, о студентах, о музыке. Он рассказал о своем неудачном браке с француженкой, закончившемся три года назад, о сыне, изучающем архитектуру в Лионе. Она – о своей матери, умершей прошлой весной, о племяннице, уехавшей в Канаду, о коте, которого хотела, но так и не завела из-за аллергии.
Когда за окном начало светать, Леонид посмотрел на часы и виновато улыбнулся:
– Мне пора. Я остановился у сестры, она будет беспокоиться.
У двери он неожиданно взял ее руку и поднес к губам – жест из другой эпохи, странно уместный в этой квартире, наполненной призраками прошлого.
– Я в Москве на месяц. Можно мне увидеть вас снова?
Вера Николаевна кивнула, не доверяя своему голосу. Когда дверь за ним закрылась, она прислонилась к ней спиной и закрыла глаза. Сердце билось часто, как у молодой девушки после первого свидания.
В зеркале прихожей отражалась женщина с раскрасневшимися щеками и блестящими глазами, в гранатовом шарфе, сбившемся на сторону. Женщина, совсем не похожая на ту Веру Николаевну, которая утром смотрела на свое отражение с тихой резиньяцией.
Она медленно сняла шарф и провела пальцами по шее, где еще сохранилось тепло от его прикосновения. Впервые за долгие годы Вера Николаевна подумала о завтрашнем дне не как о неизбежном продолжении вчерашнего, а как о странице, на которой еще ничего не написано.
Следующие дни для Веры Николаевны окрасились в цвета, которых не было в ее жизни уже много лет. Она ловила себя на том, что напевает, готовя утренний кофе, что дольше обычного стоит перед зеркалом, подбирая одежду, что замечает оттенки неба и запахи приближающейся весны.
Они встретились с Леонидом через два дня – в маленьком кафе недалеко от университета, где Вера Николаевна никогда прежде не бывала, опасаясь столкнуться со студентами или коллегами. Теперь эта осторожность казалась ей нелепой. Что страшного в том, что ее увидят пьющей кофе с мужчиной? Разве не имеет она права на этот простой человеческий жест – сидеть напротив кого-то, кто смотрит на нее с интересом?
Леонид принес ей книгу – редкое издание писем Флобера, которое нашел в букинистическом магазине.
– Я подумал о вас, когда увидел ее, – сказал он, и в этих простых словах Вера Николаевна услышала то, что так долго отсутствовало в ее жизни: признание ее существования в мыслях другого человека.
Они гуляли по городу, как туристы, открывая места, которые Вера Николаевна, прожившая здесь всю жизнь, никогда не замечала: маленькую часовню, спрятанную во дворе старинного особняка; антикварную лавку, где продавались механические музыкальные шкатулки; кондитерскую с витражными окнами, где пекли пирожные по рецептам начала прошлого века.
В субботу он пригласил ее в консерваторию на концерт французской музыки. Вера Николаевна надела темно-синее платье, которое годами висело в шкафу, ожидая особого случая, и гранатовый шарф, ставший теперь чем-то вроде талисмана.
– Вы прекрасны, – сказал Леонид, когда увидел ее, и в его глазах было такое искреннее восхищение, что Вера Николаевна поверила ему, хотя зеркало говорило ей о морщинках и седых корнях волос.
После концерта они ужинали в ресторане с видом на реку. Леонид рассказывал о своих путешествиях, о маленьких городках Прованса, о рыбацких деревушках Бретани, о горных тропах Пиренеев. Он говорил так, словно приглашал ее в эти места, словно они могли вместе увидеть лавандовые поля и средиземноморские закаты.
– Почему вы никогда не приехали в Париж? – спросил он вдруг. – Вы так любите французскую литературу, так хорошо знаете язык.
Вера Николаевна опустила глаза. Как объяснить ему, что жизнь состоит из маленьких отказов, которые со временем превращаются в большие непреодолимые стены? Как рассказать о матери, требовавшей постоянного присутствия, о страхе перед неизвестностью, о привычке откладывать счастье на потом, пока это "потом" не превратилось в "никогда"?
– Всегда находились причины остаться, – сказала она наконец. – А потом я привыкла к мысли, что некоторые места лучше знать по книгам. Реальность часто разочаровывает.
– Но иногда она превосходит ожидания, – возразил Леонид, накрывая ее руку своей. – Иногда нужно рискнуть, чтобы узнать.
В его прикосновении не было требовательности, только тепло и обещание. Вера Николаевна не отняла руки.
Когда он провожал ее домой, начался снег – крупные хлопья кружились в свете фонарей, превращая обычную московскую улицу в сказочную декорацию. Они шли медленно, и снежинки таяли на их волосах и одежде.
У подъезда Леонид остановился и посмотрел на нее так, словно хотел запомнить каждую черту ее лица.
