О чем молчит фонендоскоп?
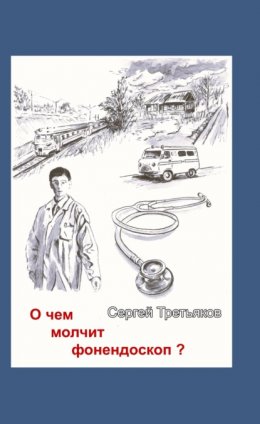
© С. В. Третьяков, 2025
© Оформление ООО «КнигИздат», 2025
Первый день
Нельзя ли будет мне узнать
О медицине ваше слово?
Три года – много ли? А время ведь не ждет,
И – бог мой! – мудрости так необъятно поле!
«Фауст», И.В. Гете
Это было время летних каникул, когда школа, уроки, домашние задания уходят в дальние дали, а до следующего учебного года, кажется, еще целая вечность. Июльское солнце в зените. Знойный покой и лень разлились по всем уголкам. В упоении гудят шмели, периодически затихая, когда пробираются к тычинкам. Не отстают от них и пчелы. Комары спрятались – ждут вечернюю прохладу. В комнате дачного домика открыто окно на теневой стороне. Слегка колышутся занавески от появляющихся время от времени легких дуновений разогретого воздуха. Я достал из шкафа книгу, сел на диван и начал, который раз, листать ее страницы, всматриваясь в картинки. Веду палец по оглавлению: «Охота на лисиц, охота на диких голубей, на зайца и на белку…». Я не любитель охоты. В памяти: жесткая отдача приклада двустволки в плечо, сухой звук выстрела, дымок из ствола, его тревожный запах и камнем рухнувшая птица. Мне интересна другая сторона этого увлечения. Иду дальше по оглавлению: «Календарь охотника, об охотничьих легавых собаках…». Это старая, в темно-зеленом переплете, уже потрепанная «Настольная книга охотникаспортсмена». Открываю раздел «Охотничье собаководство». Собаки мне нравятся. Читаю: «Собака делит с охотником все трудности походной жизни, переносит все невзгоды и лишения и никогда не покинет своего хозяина в беде, никогда не изменит ему… – Как мне тогда хотелось собаку. – Лучшим временем для натаски собаки считается вторая половина июля…».
Я посмотрел в окно: вот эта самая пора. Задумчиво проводил взглядом маленькое рваное облачко и вернулся к странице: «…к этому времени молодая птица значительно подрастает, плотно затаивается и близко подпускает к себе собаку, а поднятая на крыло перемещается медленно и недалеко…», «лучшим временем суток для натаски считается раннее утро – с 5 до 10 часов и вечер – с 4 до 9 часов», «наиболее характерными являются короткие фразы, вроде: «Ух, добери, добери, добери его!», «Ах, буди, буди его!» – сменяющиеся посвистыванием…». Я рассматриваю разноцветные рисунки: английская борзая, среднеазиатская, горская, спаниель, легавые – жесткошерстная, короткошерстная… Читаю: «Короткошерстная легавая выведена в Германии. К концу XIX столетия к короткошерстной легавой была подлита кровь пойнтера, значительно облегчившая сырой и тяжелый тип прежней легавой… Жесткошерстная легавая обладает следующими охотничьими качествами: выносливостью, хорошим чутьем, с наклонностью пользоваться им верхом, свойством к правильному, широкому, страстному и энергичному поиску…». Интересные собаки. Вот бы на них взглянуть. Я внимательно всматривался в их изображение. Через десять лет такой случай мне представился. И вот при каких обстоятельствах.
Я шел от вокзала через небольшую площадь. Слева от нее находился книжный магазин, справа – двухэтажный дом. Стены дома были выбелены в розоватый цвет. Местные жители всегда показывали на него редким заезжим гостям и с уважительными нотками в голосе поясняли: «Местное начальство-о живе-е-ет!».
С площади я направился по длинной асфальтовой дороге. Она спускалась вниз и обрывалась напротив небольшой спортивной площадки, которая постоянно пустовала. С дороги нужно было свернуть направо и идти по глинистой почве мимо потемневших штакетников огородных участков. Летом около них на скудной растительности, и в погоду и в непогоду, паслись две черные козы. Далее тропинка вела до старой водонапорной башни, придававшей местному ландшафту изысканный и таинственный вид. После этого следовал еще один поворот и спуск на дамбу, покрытую слоем крупного гравия. Рядом с ней, как рыбий бок на солнце, посверкивала водная масса. Летом с этой насыпи в водоем местные любители закидывали самодельные удочки и вытягивали то обреченно повисших, то изворачивающихся, борющихся за жизнь небольших чебаков. Иногда появлялась застывшая сгорбленная фигура рыбака на надувной лодке. В небе сновали озерные чайки. Они редко взмахивали своими узкими ломаными крыльями. Создавалась иллюзия морского пейзажа. Не знаю, какая была глубина этого водоема, но время от времени здесь происходили несчастья.
В год моего пребывания в десяти метрах от берега утонул местный повар – полный молодой мужчина, который в клубах кухонного пара ловко орудовал блестящими столовыми принадлежностями. Он то накладывал на тарелку картофельное пюре и добавлял к нему ломтик вареного языка, то к гречневой каше – котлету, то разливал по тарелкам дымящийся борщ.
Желающих отведать его варево было немало. Иногда и я вставал в обеденную очередь.
После летнего дождя или в осеннюю распутицу дорога, идущая вдоль дамбы, становилась малопроходимой. Вязкая сырая глина килограммами липла к подошвам обуви, затрудняя передвижение пешеходов, а крупные куски гравия, которыми дорога была местами засыпана, его еще больше тормозили. За дамбой, с северной стороны, снег после зимы долго не мог растаять, он чернел, ссыхался, но полостью уходил только к концу июня, оставляя большие темные кляксы.
После насыпи нужно было делать резкий поворот направо и идти по проселочной дороге, оживленно петлявшей мимо многочисленных сосен. На взгорке виднелись корпуса больницы. Территория вокруг строений была заасфальтирована, на маленькой площадке стояло несколько автомобилей.
Я наугад зашел в одно из зданий в поисках администрации с намерением известить о своем прибытии и заодно узнать, где можно разместиться. Увидел дверь с табличкой: «Вышнепольский – зам. главного врача». Им оказался молодой рослый незлобивый человек со спокойными манерами. Он не стал вести долгие беседы и через десять минут повез меня на место жительства. Адрес: Почтовый переулок, 3. Вылезли из машины невдалеке от деревянного одноэтажного строения барачного типа. Прошли узкой тропинкой под окнами дома, свернули направо и оказались в маленьком дворике, над которым нависли два большущих деревянных туалета из свежесколоченных досок. В двух метрах от них – разбитое столетнее крыльцо с высокими ступеньками. На нем сидел худой, жилистый пятидесятилетний мужчина с оливковой кожей на блестящем лысом черепе. Его лицо казалось изможденным, а темно-карие глаза выдавали порочную натуру. По двору бегали две собаки. Это были жесткошерстные легавые. Они остановились и навострили носы в нашу строну. Поздоровавшись с их хозяином, мы осторожно поднялись по шатким ступеням и вошли в дом. Сразу оказались в широковатом, длинном, темном коридоре. Пахло сыростью и пылью одновременно. По сторонам шли двери. Первая комната слева скоро должна была освободиться: семейная пара, отработав положенные три года, собиралась уезжать. В следующей комнате жила молодая крупная черноволосая женщина, хирург, с мрачным взглядом небольших карих глаз. Через год она навеки их закроет, после того как ее шею туго затянет суровая веревка под тяжестью дородного тела.
Две комнаты занимала медсестра – низкорослая женщина с гордой осанкой и большущими ягодицами, работающая в больничной лаборатории, и ее рыжий, такого же с ней роста, крикливый и задиристый муж. Справа была квартира патологоанатома (он‐то и сидел на крыльце). В ней он разместился с сожительницей. Звали его Вадимом Игоревичем. Он слыл за заправского охотника. Раньше работал на кафедре судебной медицины, но за пьянку был уволен. Какие‐то ветры задули его в этот угол. Дама патологоанатома – дородная, пышногрудая брюнетка, носила большие очки на вздернутом остреньком носу. Когда я уже стал жить в этом доме, то по выходным частенько слышал из-за стены звуки баяна и нестройный грубоватый ее голос. Ему невпопад вторил голос баяниста. Потом я узнал, что и на этом месте патологоанатом не задержался и отбыл в неизвестном направлении.
Комната, предназначенная мне, находилась в самом дальнем закутке. Ее пока занимал массажист Герман – двадцативосьмилетний шатен низкого роста с благодушным выражением лица. Он должен был перебраться в освобождающуюся комнату, а эту предоставить мне. Днем он работал в больнице, а вечерами ходил по адресам, выполняя платный массаж. В это время Германа можно было увидеть спешащим то по одному проулку, то по другому. Иногда мы вместе с ним возвращались на электричке в город. Он неизменно читал одну и ту же книгу: «Письма Елены Рерих». Мне казалось, не просто одну и ту же книгу, а одну и ту же страницу. Где‐то в городе жила его мать, повторно вышедшая замуж. Она мало интересовалась жизнью сына. Герману приходилось рассчитывать только на себя. Он это понимал и старался упрочить свое положение в бушующем людском море. Его клиенты ценили в нем специалиста и добрый нрав. Как‐то на заработанные деньги Герман купил себе белые кроссовки. По тем временам это было сродни покупке мотоцикла. Оставил их в своей комнате. На выходные уехал в город. Вернувшись, кроссовок не обнаружил. Начал стучать в одни двери, в другие… Отовсюду слышал один ответ: никаких кроссовок не видели. В бессильном отчаянье, чуть не плача, он стал делать разбежки и со всей силы бить ногами о стены. Это был не единичный случай воровства в этом доме.
Итак, мы подошли к двери моего будущего жилища и постучали. Тишина. Еще раз постучали. Тот же эффект. Вышнепольский недолго думая достал имеющиеся у него ключи от комнаты и открыл ее. Взору предстало жилище около десяти квадратных метров с давно не беленными стенами и потолком. Узкое окно было наискосок завешено черным халатом, грязные рукава которого безжизненно свешивались, а полы кокетливо были распахнуты во все стороны. Слева от окна стояла кровать с неубранной постелью, справа – большущий старый шкаф, на одну треть закрывавший окно. На полу разместились четыре разноцветных таза, наполненные водой с плавающим бельем, а также множество пустых бутылок из-под пива. При попытке зайти в комнату Вышнепольский задел одну из них ногой. Бутылка проворно покатилась и звонко ударилась о свою приятельницу, которая как‐то недовольно от нее отстранилась, уткнувшись горлышком в ножку кровати.
– Ну вот, здесь будете жить, – не то ободряя меня, не то внутренне ужасаясь, сказал Вышнепольский.
Ванная комната располагалась за стеной. Когда я заглянул в нее, то мне предстала картина, которую не видел в жизни ни до, ни после. На стенах – громадные плешины отпавшей штукатурки. К одной из стен был прикреплен большой ржавый кран. Чтобы из него пошла вода, нужно было воспользоваться таким же ржавым торчащим рычагом. Доски пола под краном были убраны, обнажая яму двухметровой глубины. В ней, как в горной лощине, струилась вода. Она вся уходила под дом.
Сначала я не обратил особого внимания на легкие уколы сквозь носки. Но когда они стали явственнее – присмотрелся. Весь пол в коридоре был усеян блохами, которые создавали видимость колышущейся вуали, расстеленной до входной двери.
Мы поторопились к выходу. Вышли на крыльцо. Слегка вечерело. Собаки, бегающие по двору, при нашем появлении насторожились, вскинув носы. Их карие глаза с любопытством взирали на нас. Были слышны крики стрижей, которые неутомимо носились в светлом небе, делая по нему свистящие росчерки. Первый день интернатуры постепенно заканчивался.
«Кто на новенького?»
Интернатура началась в солнечные августовские дни в кардиологическом отделении. Корпус больницы, где оно располагалось, был новый: большие окна, светлый широкий коридор, хорошие палаты. Заведовал отделением Даниил Ильич Виткин. Он же представлял в своем лице и весь врачебный состав. Ему шел тридцать четвертый год. Институт он окончил два года назад. Сюда приехал с женой и трехлетним ребенком. Некоторые недоброжелатели за глаза подсмеивались над Виткиным, когда он, выступая на редких собраниях врачебного коллектива, называл себя «молодым специалистом». Даниил Ильич был родом из Киева. Там делал многочисленные, но безуспешные попытки поступить в медицинский институт. Одна из причин неудач: большой конкурс. Одних отличников было пятнадцать человек на место. В паузах между попытками выдержать экзамены он работал медбратом. Отчаявшись, решил попытать счастье в Сибири – и не прогадал. В студенческие годы познакомился со своей будущей женой, которая работала теперь в этой же больнице педиатром. Даниил Ильич был высоковатый брюнет с маленькими черными пытливыми глазами, большим крючковатым носом. Тощая фигура и впалая грудь выдавали имеющееся в нем отвращение к каким‐либо формам спортивной активности, а холеные руки – к трудовой. Появление интернов в отделении было праздником для Виткина. Он собирал вокруг себя начинающих врачей и с апломбом учил, то как надо ставить электроды при записи ЭКГ, при этом ошибаясь в точках их наложения, то рассказывал о схемах лечения, путая одни препараты с другими, показания с противопоказаниями. Если кто‐нибудь в деликатной форме ему указывал на неточность, то Даниил Ильич реагировал на такое замечание как на недоразумение, которое вкралось в справочник, но не в его знания. Всем своим видом он демонстрировал, что его интеллигентная душа вынужденно страдает среди серых обывателей. Особо подчеркивал свой интерес к книгам и живописи. При этом считал свои воззрения на прекрасное как единственно верные, и если кому‐то нравились картины какого‐то художника, а Даниилу Ильичу – нет, то он с нарочитой горячностью доказывал, какой громадный стог невежества застрял у собеседника в голове и неизвестно какими вилами его нужно убирать. Всякий раз, как он начинал что‐то запальчиво объяснять, в углах его рта скапливалась пена. Он, видимо, об этом не догадывался и никогда ее не убирал. А я, в момент ее появления, переставал воспринимать поток его слов, смысл речи стушевывался, и все внимание непроизвольно концентрировал на белых пузырьках. У меня возникало чувство брезгливости и росла неловкость от появлявшегося такого чувства. Даниил Ильич, размахивая белыми руками, поросшими черным волосом, внушал: если человек говорит, что ему не нравится книга «Мастер и Маргарита», то это значит, он просто не дорос до ее понимания. Нужно читать ее второй раз. Второй раз не понял – делай третий заход.
Мы с ним разговорились о книгах. Выяснилось: у меня есть два экземпляра книги одного автора, у Даниила Ильича – другого. Решили провести обмен. Я принес совершенно новый экземпляр, а получил книгу, которую окунали в какую‐то лужу, после чего половина страниц пожелтела и скукожилась. Отменить обмен мне было неудобно, а Даниил Ильич как ни в чем не бывало преподнесенный мной чистенький экземпляр быстренько убрал в портфель.
Как только я оказался под руководством Виткина, он не мешкая решил поэкзаменовать меня. И выбрал, как, видимо, считал Даниил Ильич, особенно каверзный вопрос о действии одного из препаратов. Этот вопрос я знал. Хорошо помнил, как во время студенческих занятий имевшуюся особенность в действии этого препарата нам подчеркивали. Из вежливости, чтобы не смущать экзаменатора указанием на примитивный характер вопроса, я немного помолчал, как бы обдумывая столь сложную заданную головоломку, и потом только дал ответ. Даниил Ильич в эти секунды весь подобрался как пойнтер, почуявший дичь, но, услышав правильный ответ, сразу осклабился и от продолжения экзамена воздержался.
Виткин любил порассуждать о возможных других вариантах своей карьеры. Он говорил: «Мне Дворкин предлагал идти в ординатуру на горбольницу. А я думал: что она дает? Жить в общежитии и еще два года получать стипендию? А что дальше? Где гарантии трудоустройства? Не захотел».
Я с большим, но неприятным удивлением услышал эту фамилию и поразился имевшимся возможностям этого Дворкина. Дворкин работал ассистентом на кафедре патологической физиологии. Он был низкого роста, с большой лысой головой, с черными усами и козлиной бородкой. Его темно-карие глаза с тревожной ненавистью смотрели на окружающее. Во время занятий со студентами он всегда создавал гнетущую атмосферу. Если на заданный вопрос в группе никто не отвечал, Дворкин начинал на повышенных тонах выть, вышагивая своими короткими ногами в больших башмаках между рядов столов, заложив руки за спину, позволяя подробно рассмотреть, насколько несоразмерно росту была длина его халата: «Мне что, руки вам выворачивать? Мне что, на угли горящие вас ставить?». В одно из занятий сидящая на первой парте студентка Плошкина его чуть вообще не довела до состояния психоза. Дворкин обнаружил, что она под партой держит художественную книгу и успевает между записями в тетради прочитывать одну-другую страничку. При таком своем открытии он подскочил на месте как ужаленный и закричал: «Вы что, совсем обнаглели?! Вы что, решили издеваться надо мной?!». Плошкина в ответ смущенно хлопала глазами и беспомощно поправляла указательным пальцем съезжающие с переносицы очки.
У этого Дворкина было трое детей. И, когда наступили девяностые годы, он бросил свою физиологию и ушел в риэлторы.
И вот сейчас, узнав о столь близком знакомстве Виткина с Дворкиным, я поежился. А Даниил Ильич продолжал вещать: «Или вот мне Ярышкина говорила: давай иди на кафедру! А что значит на кафедру? Это защищаться надо. А до защиты копейки получать?!».
Начав общаться с Виткиным, вспомнил, что его уже встречал. Первый раз я его увидел, будучи студентом, когда ехал на занятия в больницу. Я стоял на задней площадке автобуса, а Виткин в проходе, зажатый со всех сторон другими пассажирами. Мне в глаза бросилось худое, бледное лицо с большим носом, которое пыталось спрятаться от окружающего в поднятом воротнике жиденького пальто. Второй раз я Виткина видел уже в самой больнице. Когда преподаватель вел разбор больного вместе со студенческой группой в ординаторской, в нее робко зашел высокий, худой врач, тихонько сел на стул и тоже стал слушать, что говорят о больном. Тогда я отметил бросающееся несоответствие вида не первой молодости мужчины и его робкого, какого‐то заискивающего поведения. И так случилось, что через год меня с ним свела судьба.
Последняя настороженность Виткина по отношению ко мне рухнула, когда он, поинтересовавшись, кто вел у нашей группы занятия по внутренним болезням, услышал ответ: «Карпельман Лия Леопольдовна». Эта фамилия сработала как пропуск в учреждение строгой отчетности. Виткин сказал: «Ну если Лия Леопольдовна, то все в порядке. От нее плохие кадры не выходят!».
В один из обеденных часов, когда перед Даниилом Ильичом и мной стояли тарелки с больничным борщом, я увидел из окна идущую к больнице знакомую пару. Это были мои согруппники, которые тоже получили распределение в Луговое. Фамилия их была Весловские. Будучи иногородними, они жили в общежитии, где и познакомились, а на шестом курсе поженились. Оба были рослые, светло-русые. Ирина, его жена, училась со мной в одной группе с первого курса, а Алексей был переведен в нашу группу уже на шестом курсе. Он был импульсивным, общительным, она – очень сдержанной, замкнутой. В студенческое время, уже поженившись, они частенько ссорились. Причем это происходило всегда внезапно. Как‐то в перерыве занятий Весловские сидели на диване, и Алексей вдруг взорвался, заметив недовольное выражение лица жены. Не обращая внимания на окружающих, он заорал: «Что?! Что опять не так?! Что опять не так сделал?!». Ответом было молчание и недовольно сморщенный нос Ирины. И в последующем с его стороны такие вспышки гнева, не посвященному казавшиеся немотивированными, происходили частенько и подчас приводили к нешуточным конфликтам не только с женой.
Один из инцидентов произошел на цикле по эндокринологии. Преподавательница, которая вела предмет, имела неосторожную привычку тошнотворно-неприятно растягивать при произношении слова, сдабривая производимый этим эффект ехидно-натянутой улыбкой. И я внутренне был солидарен с Весловским, что переносить изо дня в день такой пустячок было действительно трудновато, если начать еще сильно концентрировать на нем внимание. Алексей не выдержал. Сначала он вскакивал со стула, как только объявлялся перерыв и преподавательница исчезала за дверью, начинал нешуточно возмущаться и примерять к ней разные эпитеты. Все сначала над ним дружелюбно подтрунивали, потом на его все усиливающиеся тирады стали удрученно помалкивать, а затем, в ответ на его не прекращающиеся выпады, уже с раздражением стали приводить контраргументы и выговаривать: что мало идиотской улыбочки эндокринологички, еще и он в перерыв не дает расслабится. Весловский перешел в наступление. Он начал на занятиях в раздраженной и грубой форме пускать реплики, невпопад замечания в адрес «эндокринологини» и вскоре вовсе открыто демонстрировать свое раздражение. У преподавательницы, в свою очередь, быстро исчезла с лица улыбочка и вместо нее появилось гневливо-надменное выражение. Началось неравное противостояние от трагического исхода которого спасло только окончание цикла.
Я, зачерпывая алюминиевой ложкой из красной жижи ломтики картошки и капусты, поглядывал на приближающихся к зданию коллег. Доедая хлеб и борщ, вспомнил, как в прошедшую зиму во время одного из занятий студенту было сказано провести у больного пальпацию селезенки и определить ее размеры. Когда он выполнил задание, прозвучало: «Молодец. Пять». И вся группа вслед за преподавателем отправилась на выход. В коридоре я увидел, как Весловский подбежал к преподавателю и недовольным тоном спросил: «А за что вы ему поставили пять?!».
– За пальпацию и перкуссию. Он все правильно сделал.
– И что?! За это пять?! – возмущенно сказал Алексей.
– Да-а, – с недоумением отозвалась преподаватель.
Это был не единственный случай столь ревнивого отслеживания чужих скромных успехов.
Я подтянул к себе жиденький компот и отхлебнул глоток. В это время Весловские исчезли из поля зрения. Им, как семье, сразу дали двухкомнатную квартиру, а через несколько месяцев у них родился ребенок. Ирина ушла в декретный отпуск. В последующем наши пути с Алексеем редко пересекались.
Не успел я отработать и месяца, как меня вызвало руководство и сказало, что на время учебы заведующей инфекционным отделением мне поручается важный участок работы. Я должен вести всю взрослую половину этого отделения.
Инфекционное отделение находилось в отдельном двухэтажном здании в десяти шагах от главного корпуса. На втором этаже лечились дети, на первом – взрослые. Инфекционистом, отправившимся на учебу, была большая мадам с симпатичным лицом, на котором угадывалась сдержанная жизнерадостность. Ее карие круглые глаза с каким‐то легким любопытством и удивлением смотрели на окружающее, а полные губы призывно были накрашены яркой красной помадой. На вид ей было лет тридцать пять. Звали ее Клавдией Филипповной. Оказалась в Луговом не сразу после института. Со смешком Клавдия рассказывала: «На распределении «от балды» сказала комиссии: отправьте меня куда подальше. Члены комиссии на короткое время застыли в замешательстве, а потом с отеческой теплотой и лукавством в глазах спросили: в Якутию поедете? Я недолго думая: поеду. Мой ответ вызвал сразу радостное оживление. Ну и поехала.
Дело‐то было летом. Здесь, когда уезжала, было плюс двадцать пять, а в Якутию приехала – там холодрыга, плюс десять. Я в босоножках и летнем платье. В Якутске выяснилось, что до моего места распределения надо ехать еще триста километров. Приуныла. Решила: пойду к местному начальству. Зашла. Думаю: надо к русскому, он лучше поймет. Смотрю: на двери табличка, написано: Иван Иванович Иванов. Я обрадовалась. Стучу в дверь, захожу и вижу: за столом сидит что ни есть настоящий чукча. У меня душа в пятки упала, я в слезы… Короче, собралась и сюда». Ее пышнотелость затряслась от добродушного смеха: «Ой, и дурой была-а». Клавдия Филипповна относилась к тому типу женщин, которые как бы постоянно находятся в ожидании жениха и в то же время чувствуют, что он так и не появится. И от этого у них всегда перемешано веселье с грустью, а грусть с весельем.
Может быть, надежда на устройство личной жизни еще не покидала Клавдию, поэтому она частенько уезжала в разные города на стажировки. Сейчас был как раз такой случай. Руководство предоставляло ей такую возможность. На время ее отсутствия присматривать за детьми определили молодую педиатра, а за взрослыми – меня. Надо ли говорить, что я был далеко не в восторге от открывающихся перспектив оказаться вдруг инфекционистом.
Я начал лихорадочно вспоминать инфекционные болезни. Опять в дело пошло руководство, которое я старательно штудировал ровно год назад, будучи еще студентом шестого курса. Мне нравился этот раздел медицины, но больше с теоретических позиций. Вспомнилось, как я, борясь с волнением, выступал с докладом и как доцент – рослая полная женщина, по внешности чем‐то напоминающая артиста Моргунова, внимательно прислушивалась к тому, о чем я вещал, и после окончания доклада сдержанно, но доброжелательно меня похвалила.
Память в стушеванных красках воспроизвела другое занятие, которое вел маленький краснолицый, с сизым носом мужчина, в облике которого здорово угадывалось пристрастие к горячительным напиткам. Он заговорщицким тоном говорил, переводя мутный взор то на одного, то другого студента: «Сальмо-нел-ла. Во-от когда ставят гуся в духовку, зарумянят его, то под поджаристой корочкой она больше всего и гнездится…».
Всплыл еще один доцент, черноглазый, черноволосый, не без желчи, занудный мужичонка, который ходил перед группой, каждого разглядывая своими воспаленными, с каким‐то нездоровым выражением, глазами и говорил: «И что бы вы думали?! На этой неделе в нашем любимом Липово – дизентерия…».
И вот уже при сдаче экзамена седовласый с породисто-благородным лицом преподаватель, водя одной своей старческой набрякшей рукой по другой, таинственно произносил: «…при псевдотуберкулезе шелушение кожи сходит струпьями…».
Я хорошо помнил всех больных, которых мне приходилось каждый день осматривать в качестве студента. Палата была на восемь коек. Среди пациентов был немалый процент «проблемных» личностей, ведущих достаточно свободный образ жизни. Охотникилюбители, рыбаки, жители сельской местности, а также неряхи и грязнули оказывались под одним палатным потолком. Один пройдоха вещал другому: «А я Зинке говорю, когда она в карты продулась, давай лезь под стол и чтобы час под ним сидела. Так она…».
И сейчас я готовился к встрече с таким специфическим контингентом. Так как палаты в отделении находились на первом этаже, кустарники и деревья их сильно затеняли и делали сумрачными и неприветливыми. Однако больные оказались все не тяжелыми, с хорошим, оптимистическим настроем. Я старался соответствовать ему. В целом месяц прошел благополучно. Вернулась заведующая. Я с радостью снял с себя «инфекционный мундир».
Пока я был в инфекционном отделении, кардиологическое отделение, где я начинал работать, закрыли на косметический ремонт. Даниила Ильича направили в терапию.
И вот, как раз к окончанию работы в инфекционном меня опять вызвал к себе начмед и попросил пока поработать в кардиологии, пообещав, что скоро найдут врача. Я по своей неопытности подумал, что речь идет о двух-трех днях, и согласился.
Приступил к работе. Больные начали прибывать. Заполнилась одна палата, вторая, третья… Прошло два дня, прошло три дня, помощи не было. Я уже с трудом успевал делать обход и вести документацию. На четвертый день, когда я сидел за столом в ординаторской и заполнял историю болезни, дверь резко с шумом распахнулась, и на пороге возник Виткин. Не здороваясь со мной, он резко, возмущенно бросил: «Тебе зачем это надо?! Ты вообще соображаешь, на что согласился?!». Но что в ответ я мог сказать? Виткин, наверное, подумал, что мной движет тщеславие, что я хочу выставить себя в роли заведующего. Но этого и в мыслях не было. Я вновь пошел к начмеду. Объяснил, что количество больных в отделении достигло уже сорока и что я уже не справляюсь с нагрузкой. Начмед молча недовольно меня выслушал, потом сказал: «Завтра будет тебе помощник».
И действительно, утром объявился новый врач. Но новым он был для меня. На самом деле это был уже перешагнувший далеко за средний возраст мужчина из коренных жителей Лугового. Он работал в поликлинике гастроэнтерологом. Немного присмотревшись к нему, я обратил внимание на его особенность: он периодически сглатывал воздух, затем опускал голову и, как бы сдерживая себя, производил отрыжку воздухом, надувая при этом тощие щеки.
Образовавшаяся бригада «Ух», из меня и гастроэнтеролога, должна была теперь оказывать квалифицированную кардиологическую помощь. Но дело пошло повеселее, а вскоре меня перевели в поликлинику. Как дальше справлялся гастроэнтеролог с кардиологией, я не знаю.
Ноябрь приближался к середине. Началась амбулаторная практика. Я делал тщательные записи в медицинских картах, старался внимательно смотреть больных. Помещение, в котором я оказался, граничило с кабинетом Воеводиной Генриетты Викторовны. Я видел ее раза два. Это была остроносая пожилая женщина с голубовато-мутноватыми, чуть навыкате глазами, с ярко-красной помадой на морщинистых тонких губах и гладко зачесанными на затылок волосами медно-коричневой окраски, переходящей к корням в белый цвет. В прошлом году ей присвоили звание заслуженного врача. Про нее говорили: «Представляешь?! Сорок лет на одном участке – такого больше не встретишь!». Стена, разделяющая наши кабинеты, имела общую вентиляционную решетку, и когда Воеводина начинала прием, то явственно слышался ее резкий каркающий голос, обращенный к больному: «Открой, открой рот! Все, все! Закрывай, закрывай! Дыши, не дыши! Все, все! Одевайся…». И так весь день. Ее муж, высокий мужчина с бледным, одутловатым лицом, с сильно нависающими веками на глаза и толстым носом, работал в этой же больнице психиатром и невропатологом. Казалось, что он весь погружен в себя и при встрече со мной каждый раз вел себя так, как будто или не узнавал меня, или делал вид, что меня не знает. Терапевты вызывали его на консультации к больным. Когда его спрашивали: «Ну что? Что с больным?», он опускал голову, начинал смотреть в пол, переминаясь с ноги на ногу, и гнусавым голосом с трудом выдавливал из себя несколько маловразумительных фраз. Одна начинающая врачиха с нескрываемой злобой вещала: «Больной плохо – спрашиваю: что с ней? что делать? А он стоит мычит и переминается. Так бы и дала ему по башке!».
Во время работы в поликлинике меня очень волновали вызова к больным на дому. Если на рабочем месте при какой‐то неясности можно было обратиться к более опытным коллегам, то при посещении пациента на дому такой возможности не было. И, где‐то местами скользя по льдистым участкам, где‐то пробуксовывая в глубоком снегу на заснеженных окраинах, разыскивая нужный номер дома, я с легким чувством беспокойства о предстоящей встрече с неизвестным пациентом размышлял: как сделать так, чтобы уменьшить степень непредсказуемости клинической ситуации. И постепенно нашел ответ на свой вопрос и на практике стал чувствовать себя более уверенно.
В один из дней я сильно переохладился. Сначала у меня появилась непонятная слабость и пульсирующее, распирающее чувство внутри первого и второго зубов на верхней челюсти, затем появилась боль, озноб, повышение температуры и на месте болезненности – отек. Я пошел к стоматологу. Стоматологический кабинет находился на втором этаже поликлиники. Пациентов, ожидающих в очереди, было не меньше пятнадцати. Я сел поодаль от кабинета на свободный стул и не знал, что делать. Я чувствовал, что переждать всю очередь будет невозможно. Зайти без очереди, сказать: «Я врач. Работаю в этой больнице» и попросить принять меня было неловко. Прислушиваясь к распирающей боли, чувствуя на лбу испарину, испытывая болезненную слабость, я сидел в унылом раздумье. Но тут дверь распахнулась, и от стоматологов вышел начмед. Он знал меня. Я сообразил, что это шанс, и направился к нему с просьбой посодействовать в приеме. Через десять минут я уже сидел в кресле. Стоматологом оказалась молодая миловидная женщина, которая работала в Луговом второй год. Нужно было «просверлить» зуб до пульпы и дать отток гною. Раздался знакомый с детства, «милый» сердцу визг бормашины. Первая попытка оказалась не совсем удачной. Бур вышел на противоположной стороне зуба, чуть пониже десны, но со второй попытки врач справилась. Выписала антибиотики, назначила повторный прием через пять дней. Я, чувствуя себя больным, с трудом зашел в аптеку, купил лекарства и пошел в свою каморку.
Голова у меня кружилась, дорога, казалось, то поднимается, то опускается. Я боялся упасть и не встать, растерянно посматривал на редких встречных прохожих. Растянешься на дороге – примут за пьяного и вряд ли помогут. В голове была одна мысль – только бы дойти… Через несколько дней я оклемался. Жизнь пошла в прежнем режиме.
Неожиданно сообщили: издан приказ, по которому врачам-интернам нужно отработать четыре месяца по месту распределения. Я был распределен в Пусто-звонку – село, известное в Слепневском районе своим зверосовхозом. Мне ужасно не хотелось туда ехать. Но и в Луговом были заинтересованы, чтобы молодых врачей, в партии которых я оказался, оставить у себя. Однако главный врач Слепневской ЦРБ начал названивать главному врачу ЦРБ Лугового, требуя направить меня по месту распределения. После нескольких недель сопротивления мне пришлось собрать свои пожитки и отправиться на другое место. Но, перед тем как поехать, я получил согласие от главного врача Лугового на то, чтобы я отрабатывал следующие три года у них. Я решил обратиться в Облздрав с просьбой о перераспределении. Меня сначала направили к заведующему отделом кадров. Им оказался низенький, толстоватенький мужичок с большой лысой головой, очерченной венчиком волос, лохматыми бровями и черными глазами, смотрящими через очки в тяжелой оправе. Он выслушал меня и категорически отказал.
Выйдя в коридор с неприятным чувством разочарования, я остановился, размышляя: как поступить? В голову пришла отчаянная мысль: идти на прием к самому заведующему Облздравом. Обратился к его секретарю. Передо мной оказалось только два просителя. Я сел и стал ждать своей очереди в пустынном, мрачном и прохладном коридоре. Не прошло и пяти минут, как показался лысый очкарик, у которого я только что был. Проходя мимо меня, он остановился и громко недовольно спросил: «Что вы здесь сидите?!». Я ответил: «Записался на прием к заведующему». На мой ответ очкарик зло и резко выкрикнул: «Я же сказал нет – значит нет!» и зашел в кабинет заведующего Облздравом. У меня упало сердце. Я надеялся, что разговор с главным будет идти с глазу на глаз и он сможет пойти мне навстречу. Надежда покинула меня. Через пятнадцать минут пригласили в кабинет. В глубине комнаты за столом, лицом к двери, сидел заведующий: полный мужчина с красным веснушчатым лицом и густой рыжей шевелюрой. Он метнул свои глазки-буравчики на меня. Вид у него было дежурно дружелюбный. Рядом, у приставного стола, сидел лысый очкарик. Он притворно внимательно пролистывал журнал «Наука и жизнь». Я сел напротив него. Заведующий, сохраняя радушие, попросил меня изложить суть вопроса. Я изложил. Он обратился к очкарику. Тот, не глядя на меня, стал доказывать необходимость моего отбывания следующих трех лет именно по месту распределения. Тогда заведующий по селекторному телефону связался с главным врачом Лугового. Разговор с ней был закончен в духе: нехорошо переманивать кадры. Положил трубку и, обращаясь ко мне, подмигнул: «Найдете себе какую‐нибудь чернобровую, заведете коровку, а?!» – и довольно рассмеялся. Я кисло улыбнулся. Аудиенция закончилась ничем.
Мне пришлось перебираться в соседний район. Дни стояли по-зимнему теплыми. Сел в утреннюю электричку и стал смотреть в запотевшее стекло. Вышел на назначенной мне станции. Спрашивая дорогу у разных прохожих, дошел до больницы Слепнево.
Поднялся к начмеду. Представился. Меня направили к заведующей поликлиникой. Она сразу позвонила коменданту общежития, в котором мне предстояло жить, и, обращаясь ко мне, сказала: «К трем часам подойдете, и вам выделят комнату. А сейчас можете уже приступать к приему». И я уже через пять минут старался выявить наличие хрипов у больного…
Прошли четыре месяца. Я вновь вернулся в Луговое, но теперь стал работать в терапевтическом отделении. Снова встретился с Даниилом Ильичом и Алексеем Весловским.
Долгое время в терапевтическом отделении не было заведующего. Из поликлиники периодически забрасывали начальствовать то одного терапевта, то другого, но при первом удобном случае они норовили убежать обратно. У них не было ни желания, ни знаний, ни способностей, необходимых для руководителя терапевтического отделения. Поэтому преходящие терапевты не вникали ни в какие вопросы жизни отделения, формально смотрели больных и вели документацию. В роли же руководителя выступала старшая сестра отделения – рослая, крепко сбитая, с угадывающейся большой силой в конечностях. Медицинские сестры оккупировали ординаторскую. На полках шкафов вместо книг стали валяться расчески с застрявшими в них волосами, медицинские измятые, покрытые пылью шапочки, израсходованные тюбики с остатками помады. Долгое время за младшим медицинским персоналом не было никакого контроля. Процветала анархия и вольница. И вот, заведовать этим отделением поставили Даниила Ильича. Он умело начал проводить необходимые преобразования в отделении.
Сначала старшая, а затем и другие медсестры побежали из терапии как тараканы от дихлофоса.
Был набран новый персонал, восстановлена субординация. Появились врачи. Среди них оказался и Весловский, но он работал в отделении как врач-интерн. В этом же качестве включился в работу отделения и я. Дни шли своим чередом, приближая окончание интернатуры. Весловский совмещал приятное с полезным. Довольно длинный путь из дома на работу он преодолевал в виде кросса, облачаясь в спортивную форму. Но почему‐то всегда оказывался в больнице позже положенного времени. Сделав пробежку, он шел в больничный душ. Из душа – в пищеблок, брал там кашу с маслом, хлеб, приносил еду в ординаторскую, садился за стол и с большим аппетитом не спеша ел. К больным он подтягивался часам к двенадцати, нехотя, стараясь сделать обход за минимально короткое время. Для этого нужно было сократить осмотр каждого пациента. Он прикладывал фонендоскоп спереди в двух точках и в двух точках сзади. При такой аускультации его можно было даже не вставлять в уши. Эффект был бы тот же. Стало ясно: терапия – не конек Алексея.
Через несколько лет после того, как я покинул Луговое, до меня дошли слухи, что он устраивался работать на «скорую помощь», но проворовался и его уволили. Затем занялся какой‐то мелкой коммерцией и даже трудился в местной администрации, выдвигал свою кандидатуру в депутаты. Отсутствие политического чутья привело его в ряды не той партии, деятельность которой поощрялась, и в итоге он не прошел в депутаты, потерял место. Как сложилась его дальнейшая судьба, я не знаю.
Подходило постепенно лето. Здесь уже засобирался в дальнюю дорогу и Виткин. Несмотря на то что родители его жены жили в Луговом, именно она выступила инициатором переезда в Киев, где жила мать Виткина. Были упакованы вещи, книги. Я и еще трое врачей помогали загружать в грузовик разную утварь, которую в контейнере собирались доставить к месту назначения по железной дороге. Я стоял в кузове автомобиля, кряхтя принимал упакованную в мешки печатную продукцию и с большим трудом оттаскивал их в углы фургона.
Родители жены Даниила Ильича были латышами, волей судеб оказавшимися в Сибири, выглядели крестьянскими жителями. Мать, в платке, куртке, больших стоптанных сапогах, стояла в отдалении и молча наблюдала за происходящим.
Виткин на прощальной кружке пива жаловался: родственники жены сильно его недолюбливают. Когда при нас кто‐то из родни зашел в квартиру и через несколько минут ее покинул, Виткин, морща свой большой белый крючковатый нос, сказал: «Ну сейчас начнется. Увидели бутылку на столе. Им только дай повод…».
После отъезда Виткина мы с ним изредка обменивались короткими письмами. Он сообщал: устроился в крупный медицинский центр, начал заниматься исследованием сосудов. Живут в двухкомнатной квартире его матери, тесновато…
Прошло около года. Я вместе с письмом послал Виткину книгу в виде подарка. Но через месяц посылка вернулась обратно. Когда я распечатал ее, то увидел, что письма нет. А еще через полгода узнал, что Виткины уехали в Израиль. Инициатором нового переезда опять выступила его жена.
И Луговое, и его жители, и коллеги с течением времени стали приобретать для меня все более призрачный характер, их образы постепенно стали становиться нереальными. И только фотографии, сделанные мной в последние дни интернатуры, свидетельствуют: это был не сон, а самая настоящая реальность, которая просто растаяла как утренний туман над рекой времени. Меня ждали новые места.
Новое переселение
Постепенно ощущение этой перемены каким‐то образом проникло в нас, мы все проснулись от непонятного волнения и вышли на палубу.
«Моя семья и другие звери», Дж. Даррелл
Я ехал по делам в поезде метро. Услышал за спиной знакомый голос. Повернулся на него. Так и есть. Это был преподаватель акушерства: серые пытливые глаза, бледное морщинистое лицо. Одет он был в поношенного вида пальто. Его собеседницей была моложавая женщина с недовольной физиономией. Она возмущенно выговаривала: «Как такое можно вообще говорить?! Тем более студентам! Это уму непостижимо!». Акушер с готовностью поддакивал. Было видно, что предмет разговора его увлекал. Собеседница продолжала: «И самое главное, все сходит с рук! Ведь никто не может на него нажаловаться!».
– Но у него такие выходки были уже в студенческое время, – сказал акушер. – Я помню конференцию. Ну, одну из тех, студенческих. Он вышел с докладом, показал слайд – для того времени это была редкость. На нем что‐то похожее на клетку. Подробно рассказывал и показывал на детали изображения: где находятся митохондрии, где ядро… Все сидели слушали. А когда закончил доклад, то признался, что сфотографировал не клетку, а половину разрезанного огурца. Все были в шоке!
– И ничего?
– А что сделаешь? Сначала все удивились, потом начали смеяться…
Продолжая разговор, собеседники сошли с поезда. Я удивился, что они обсуждали Хвостова. Про самого акушера говорили как о высоком профессионале. На лекциях, а он их читал блестяще, время от времени патетически восклицал: «Акушерство – это не наука, это искусство!». Как я понял, его собеседница побывала в качестве контролера на лекции Хвостова. Судя по пылавшему в ней гневу, все не могла успокоиться. Да, Хвостов был склонен к едкому и циничному слову. Но лекции его студенты воспринимали на ура. Когда он заходил в лекционный зал после некоторого отсутствия, его встречали аплодисментами. Хвостов был доволен и с присущей ему скромностью говорил: «Вот как надо работать!».
Он начинал лекцию, деловито излагал материал. Студенты сосредоточенно писали. Писали и ждали. И вот наконец Хвостов обрывает изложение и говорит: «Да-а, в Ленинграде собачья погода… – Все вмиг оживляются. Представление начинается!
– Жить там невозможно! Я думал, что сдохну! Ветер, дождь со снегом, слякоть, холод…».
Он вернулся из командировки. Назидательно подчеркивал, оглядывая сидящих: «Когда нужно перемещаться с востока на запад, то для лучшей адаптации делать это нужно на поезде. Хорошо, чтобы под рукой был коньяк. А возвращаться – самолетом. Тогда не будет так заметна смена часовых поясов… Я побывал в одной лаборатории. Пригласили к столу. У меня глаз опытный: сразу заметил на нем мышиный помет. Инфекция! И когда мне предложили: «Рюмка чая или чашка коньку?», сразу согласился с последним. Уберечь себя от заражения». Все жадно слушали.
Показывая фотографии Крика и Уотсона, ученых, которые описали структуру ДНК, он подчеркивал, как ученые выглядели в начале и в конце своей карьеры. Особенно изменился Уотсон – обладатель в молодости роскошного чуба.
– Вот посмотрите, какая шевелюра! – говорил Хвостов. – А теперь взгляните, что от нее осталось, – он демонстрировал второй слайд.
На нас смотрел старый лысый мужчина. Хвостов делал заключение: «Вот что значит заниматься наукой!». Окинув взглядом студентов, продолжал: «Я не так давно читал лекцию в университете. Они не только успевали записывать лекцию, переброситься с соседом словом и задать вопрос, но некоторые умудрялись нарисовать на меня шарж. Очень похоже… А уровень студента мединститута на голову ниже. Если заставить студента университета играть в футбол и весь год отбивать мяч головой, то, да, тогда он по уровню интеллекта сравнится со студентом нашего вуза». Все оживлялись, не зная, как реагировать на такое унижение, но про себя соглашались с такой сентенцией.
Или давал советы умудренного жизненным опытом мужчины (сам он был женат, кажется, три или четыре раза): «Вот как узнать, что жена стала старой и ее пора менять? Нужно обратить внимание, как она видит вдаль. Если стала видеть лучше, чем муж, то все – пора менять!».
Побывав на первомайской демонстрации, он сразу обнаружил крамолу: «Смотрю и глазам не верю. На одном из лозунгов заглавная буква обращена в обратную сторону!». Хвостов, испытывая явное удовольствие от чувства собственного превосходства над толпой, в подробностях изображал увиденное на доске и делал заключение: «Степени деградации общества просто поражаешься!».
Как‐то на его лекцию пришел декан нашего факультета. Хвостов как обычно начал лекцию, не замечая гостя. Увлекшись, говорил о трансплантации: «Вот, например, балерина теряет ногу, – он рисует тонкую ногу, – и ей пришивают конечность от другого человека». – Хвостов к тонкой ноге пририсовывает большущую ногу с громадными пальцами, вызывая смех в зале. Но тут его взгляд упал на декана. Декан сидел с недовольным выражением лица. Хвостов на полуслове остановился. Чтобы отвлечь начальника от своей оплошности, сразу пошел в наступление: «А-а, хорошо, что присутствует декан. Хочу вам сказать: я недоволен, как ведет себя на этом потоке мужская половина, а на другом – женская!». И дальше лекция пошла без привычных шуток и рассказов. Хвостов, обращаясь к залу, говорил: «Из того, кто после института хорошо сядет сразу на теплое место, – никакого толку не будет! Ничего не добьется!».
Я вспоминал его слова, когда направлялся после интернатуры в Слепнево. И задавался вопросом: а будет ли из меня какой‐то толк?
Было лето. Солнце не сковывала броня стальных облаков, оно щедро делилось богатством своей животворящей энергии, заставляя все живое к концу дня просто увертываться в тень, прятаться по дающим призрачную прохладу уголкам от несколько излишнего напора преподнесения солнечных даров. Каждая проходившая по дороге машина тянула за собой длинный плотный шлейф из желтой пыли, медленно поднимавшийся почти до верхушек тополей, стоявших вдоль дороги как солдаты в шапках по стойке смирно в Букингемском дворце. Окутывая теплой волной встречных пешеходов, она прилипала к их разгоряченной коже, стушевывала цвета и без того неярких одеяний. Придорожная трава имела скорее коричневый цвет, а листья деревьев напоминали кожу слона после пылевой ванны.
Так, во всяком случае, мне казалось из кузова маленького грузовика, на деревянное сиденье которого я с болью приземлялся после очередного его взбрыкивания на подвернувшемся ухабе. Одновременно мне нужно было удерживать в кузове не только себя, но и холодильник, как пленник затянутый плотной материей и обвязанный толстыми веревками. Я перевозил его из города.
Две недели назад я встретился с представителем администрации больницы. Мне была выделена комната в общежитии. Я навел в ней минимальный порядок, разместил кое‐какие вещи и повесил на окна занавески. Сейчас, в это субботнее послеобеденное время, в далекой от моего родного дома гавани я готовился бросить якорь, коим представлялся холодильник. В городе пришлось нанять машину, чтобы довести его до железнодорожного вокзала, втащить в электричку, на станции назначения спешно выгрузить, перетащить к шоссе, вновь найти автомобиль, шофер которого согласился помочь с доставкой груза. Теперь предстоял последний этап: выгрузка и поднятие на четвертый этаж. И вот, когда из-за поворота показалось серое здание будущей моей обители, у меня возникло чувство, сходное с тем, которое испытывают игроки футбольной команды, ведущие матч со счетом 2:1 за две минуты до его окончания. Я вытер лоб платком – хлопоты переезда заканчивались, на всякий случай проверил наличие ключа от комнаты в кармане брюк. Услужливое воображение уже рисовало, как после легкого водворения моего громоздкого груза в комнату я изящно захлопываю дверь и на крыльях слетаю по лестницам. Мне нужно было успеть на обратную электричку, отходящую через час, – ведь к работе мне предстояло приступить еще только через неделю.
Во дворах домов беззаботно играли дети, мамаши прогуливались с малышами, везя их перед собой в колясках по покрытым скудной растительностью лужайкам, из открытых окон рядом стоящих зданий лился сиропчик из разухабисто-страдальческих куплетов новомодных песен.
Еще сидя в кузове автомобиля, я высматривал свои желтые шторы в ряду окон четвертого этажа. Но их не было! Как из разбитой чернильницы растекается фиолетовая жижа, так внутри меня стало расползаться чувство тревоги. Горечь предчувствия, во сто крат более сильная, чем настойка полыни, недвусмысленно свидетельствовала: что‐то произошло. В моей разгоряченной голове, как гномы из-под земли, появились вопросы, словно паяцы, толкающиеся и гримасничающие друг перед другом: неужели в комнату вселили кого‐то другого? А договоренность? Куда дели мои вещи? Показалось, что солнце зашло за тучу, стих гомон двора, а стекла многочисленных окон общежития зловеще посверкивали взглядами членов распределительной комиссии: дескать, а как вы хотели, молодой человек?! Учитесь преодолевать трудности, вот вам первое – ну те-ка!
И вдруг меня обожгло, будто осиным укусом: сегодня же суббота, о боже! Если потребуется вмешательство администрации, то ее днем с огнем не найдешь! Что же делать?! Куда девать холодильник? Обратно же его не повезешь! Пока мои мысли играли в чехарду, машина, везшая меня, остановилась у подъезда общежития. Сгрузив холодильник и расплатившись с шофером, я попросил покараулить мой груз одну из сидевших неподалеку на деревянной скамейке мамаш, покачивающую ребенка в коляске, а сам пулей взлетел на четвертый этаж. Вот он, 415 номер. У двери – чужой коврик. Ну так и есть: кого‐то вселили! Постучал. Дверь открыла миловидная черноглазая девушка. Она с недоумением воззрилась на меня. Я же, переводя после бега дыхание и переминаясь с ноги на ногу, растерянно спросил:
– Извините, м-мм, вас что, поселили в эту комнату? – Девушка бодро кивнула.
– А-а, вы не скажете: где вещи, что были тут?
Моя собеседница приветливо улыбнулась и весело сообщила:
– Их забрала комендант.
Ободренный столь любезным приемом, я решил попытать удачу.
– Видите ли, дело в том, что я привез холодильник, – сделав паузу, я оценивал произведенный моим экстравагантным сообщением эффект, однако он был нулевым, ну разве что у адресата чуть чаще стали вспархивать длинные ресницы. Расценив это как положительный знак, я продолжил: – И сейчас не знаю, куда его теперь деть. Вы не могли бы, – я старался говорить как можно более непринужденно, как будто речь шла о совершеннейшем пустячке, – вы не могли бы разрешить оставить холодильник у вас? На короткое время, – поспешил я добавить, видя, как тревожная искорка сверкнула в глазах хозяйки, – я постараюсь как можно быстрее его забрать.
«Откажет», – подумал я.
Однако девушка мило улыбнулась и произнесла волшебное слово: «Пожалуйста».
У меня сразу свалилась гора с плеч. Поблагодарив спасительницу, я быстро побежал обратно, но по пути решил все‐таки заскочить к коменданту. Комната его находилась на втором этаже этого же здания, о чем извещала неровная надпись, сделанная шариковой ручкой на бумаге, приклеенной к двери. Я без надежды постучал, дернул за ручку – конечно никого. Что если сбегать к коменданту домой? Я спросил у дежурной адрес. Дом оказался недалеко. Но и здесь только флер безмолвия встретил меня. Я посмотрел на часы: в моем распоряжении оставалось тридцать минут, если опоздаю на электричку – следующая будет через четыре часа, нужно будет маяться между нещадным солнцепеком и душной тенью, неприкаянно слоняться по пыльным улицам – невеселая перспектива. Что ж, делать нечего, придется воспользоваться любезностью хозяйки предназначавшейся мне комнаты.
Вернувшись к общежитию и втащив холодильник на четвертый этаж, я вновь оказался у двери с номером 415. Отдышавшись, галантно постучал. Тишина. Я постучал еще раз. В ответ – лишь удары своего тревожно забившегося сердца, которые, казалось, глухо отражались от стен темного коридора, заполненного затхлой прохладой. Тысяча чертей! Я этого не ожидал! Мадемуазель ускользнула! Это конец!
Прислушался. На верхнем этаже было зазвучали голоса жильцов, но вскоре стихли. Теперь уже перевязанный холодильник представлялся не пленником, а басурманином с причудливой портупеей, взявшим меня в заложники. Задумавшись, я сунул руку в карман и сразу почувствовал прохладу – ключ! Я и забыл, что от этой комнаты у меня был ключ, который дали еще при первом приезде. Секунду поколебавшись, я вставил его в замочную скважину, и сезам открылся! Невероятное облегчение охватило меня, как мучимого жаждой после стакана долгожданной воды. Оглядевшись, я втащил холодильник и поставил его в угол комнаты, вышел и защелкнул замок. В эту минуту я понял, что получил только первый скромный сюрприз в длинной веренице более щедрых подношений, которыми меня заботливо будет одаривать это, только на первый взгляд, неприветливое местечко.
Краски жития
Она осмотрелась и тут же заметила, что комната на деле совсем не такая обыкновенная и скучная, какой казалась из-за зеркала.
«Алиса в Зазеркалье», Л. Кэрролл
Чтобы поселиться в общежитии, нужно было разрешение коменданта. Общежитие представляло собой пятиэтажное здание, окруженное большими плешинами глины, на которых не росла трава. В непогоду глину размывало, она становилась скользкой, а в засушливое время была источником постоянной пыли, которую ветер поднимал значительно выше пятого этажа. Пыль проникала в щели окон, наполняя комнату легкой дымкой, и постепенно оседала на доступных поверхностях. Я зашел в мрачноватый коридор и дальше устремился на второй этаж, где, как мне сказали, располагалась комната коменданта. На втором этаже было сумрачно, и лишь светлый квадрат на полу от открытой двери оживлял пространство. Из комнаты доносилось приглушенное пение, и как мне показалось, не лишенное ноток самодовольства. Заглянув в комнату, я увидел молодую рослую, довольно симпатичную женщину. Она стояла спиной ко мне и лицом к зеркалу, висевшему напротив входа. Прихорашивая прическу, женщина напевала приятным голоском известную песню, немного перевирая слова и искажая мелодию. Когда она увидела появившееся мое отражение в зеркале, резко повернулась, и ее лицо, только что излучавшее беззаботность, приобрело черты досады и недоумения. Я представился и объяснил цель своего визита. Посмотрев на меня серыми глазами видавшей виды блудливой кошки, она назвала номер комнаты, где я должен поселиться, и вяло, без энтузиазма, сказала: «Вам нужно выписаться из городской квартиры и прописаться здесь. Мы без прописки комнаты не даем». В последующем я узнал, что комендантом она работала около двух лет, была замужем. Муж отбывал восьмилетний срок.
Не успел я подняться на четвертый этаж, на котором мне выделили комнату, как услышал дикие крики и мимо меня с вытаращенными глазами пронесся здоровенный детина, а за ним – с одержимым видом молодая женщина. В каждой руке у нее посверкивало по большущему кухонному ножу. Крики стихли.
Убранство моей общежитской комнаты было очень простым: слева от окна стояли кровать с панцирной сеткой и табуретка. На табуретке лежали книги и стоял будильник. У стены напротив находился стол, покрытый белой клеенкой с фиолетовым рисунком, выполнявший многофункциональные обязанности, главной из которых была кухонная. Рядом примостился единственный стул с всегда подвыпившими ножками. Степень опьянения их давала о себе знать, когда приходилось на него садиться. В углу стоял холодильник, а слева от двери были сооружены две крошечные ниши, одна из которых служила гардеробом, а другая – ванной комнатой. В последней я разместил рукомойник и таз.
В первые дни приезда я не был в курсе специфики общежития. Как выяснилось позже, существовали привилегированные этажи и секции, где жили добропорядочные граждане, и не привилегированные, куда старались селить свободолюбивых личностей, не обременяющих себя заботой о благоустройстве быта и соблюдении элементарной чистоты. По стечению обстоятельств я оказался в числе именно этого флибустьерского племени.
Когда на утро после приезда я направился умываться, то увидел на местах, предназначенных для четырех раковин, только запаянные трубы. Дверь в душевую была забита досками, а окно, выходившее на лоджию, – фанерой. В секции функционировал один водопроводный кран. Помещение, отведенное для кухни, напоминало разбитый «нашими» блиндаж, плиты не было и в помине. Поэтому мне пришлось организовывать у себя в комнате и кухню, и ванную. Пикантность обустройства объяснялась и особенностями водоснабжения не только общежития, но и в целом поселка. Надеяться на водопроводные краны сильно не стоило. Напор воды изменялся каждые десять минут, и ежедневно воду отключали как минимум на несколько часов. Но была возможность брать воду из водокачек, но не простую, а содержащую столько примесей, что она была всегда желтой, а иногда и просто коричневой. В употребление такую воду сразу пускать не будешь. Я набирал ее в ведро, отстаивал. При этом оседал густой темный осадок, а поверхность покрывалась белой пенистой пленкой. Ее нужно было убирать осторожно и, чтобы не поднять осадок, медленно зачерпывая ковшом, наливать в чайник. Заварка не нужна. Кипяток изначально имел чайный цвет, а через три минуты на дне стакана образовывался многомиллиметровый слой осевшей взвеси. Поэтому держать ведро с водой про запас, иметь собственный рукомойник стало необходимостью.
В настоящую проблему превратилось водоснабжение для больницы. Пациенты не могли мыть руки перед едой и умываться. Хирурги шли на операцию, обрабатывая грязные руки дезинфицирующим раствором. О водоснабжении постоянно говорили на совещаниях, проводимых главным врачом. Обсуждение всегда заканчивалось тем, что всем присутствующим начинали подробно объяснять, что в отсутствии в больнице воды никто не повинен, а причина: отсутствие какого‐то вентиля, который сейчас не выпускают, поэтому единственное, что можно сделать, – это организовать привоз воды в отделения. Организовывали, но, откуда брали эту воду и что до нее возили в цистернах, можно было догадываться только по плавающим в ней окуркам, щепкам и грязи. Конечно, начинался ропот: плохая вода. И вновь с жаром объясняли, почему она плохая. Но как это исправить, за все три года моего пребывания в больнице речи никогда не заходило. Уезжая, я подарил свой рукомойник хирургам, не надеясь, что здесь когда‐либо произойдут перемены к лучшему.
Как нарочно, в самый необходимый момент, когда обязательно нужно было вымыть руки, из открытого крана разносилось лишь злорадное шипение. Но если бы дело заключалось только в руках. Целое бедствие вызывали туалеты общежития и поликлиники. Сами жители не отличались излишней чистоплотностью, а тут еще отсутствие воды. В унитазах, как в древних пещерах за тысячи километров от цивилизации, росли устрашающие своими размерами сталактитовые горы. А сам унитаз утопал в обрывках грязной бумаги, словно рок-звезда в цветах в дни своего триумфа.
У меня на холодильнике лежали газеты, пустая коробка из-под печенья и стояла банка с сахаром. На время своего первого отпуска я отключил холодильник и уехал домой на целый месяц. Вернувшись, как обычно обнаружил слой пыли на подоконнике, столе, на полу. Принялся за уборку. Машинально включил холодильник, тот привычно затрясся и сердито загудел. И тут я увидел десятки разбегающихся по холодильнику тараканов. Сначала я испуганно отпрянул. Но, переборов себя, подошел поближе и стал высматривать, откуда они взялись. Начал поднимать газеты, и в этот миг из-под них хлынуло полчище этих существ, и, что поразило меня еще больше, среди них были не только коричневого цвета тараканы, но наполовину серые и даже совсем светлые. Меня прошибла испарина. Я схватил стоявший в углу комнаты дихлофос и начал исступленно давить на кнопку, направляя вонючую струю инсектицида на незваных пришельцев. От такого воздействия тараканы начали разбегаться по комнате. Я каждого преследовал и, не жалея дихлофоса, поливал им убегающего, отчего таракан останавливался, скукоживался, конвульсивно дергался и затем замирал. Я метался с баллончиком по комнате, приканчивая в лужице токсина то одно то другое насекомое. В пылу погони и сражения не обратил внимания на то, что форточка была закрыта. И только когда кверху лапками перевернулся последний таракан, я почувствовал тяжелый запах ядохимиката. Меня охватила слабость, я стал ощущать легкие мышечные подергивания. Открыв окно, в измождении рухнул на кровать.
Возвращаясь после работы, я ужинал и обычно ложился отдыхать. Но вскоре эту барскую привычку мне пришлось оставить. Рядом со мной поселили новую соседку – перешагнувшую тридцатилетний рубеж полнотелую брюнетку, оказавшуюся крайне музыкальным существом. Не успевала она прийти с работы, как все вокруг наполнялось грохотом. Лежа на кровати, я прислушивался: вот гулкое эхо ее шагов по коридору, перезвон ключей в замочной скважине, и в эту же секунду, как по мановению волшебной палочки, которую заменяла моей соседке магнитофонная кнопка, выскакивал музыкальный джинн из динамиков. Тонкие стены комнаты начинали подергиваться в такт ритмичному бою барабанов и подвыванию саксофона. Как каскад бурных горных речек одна песня следовала за другой. Однако общее их количество никогда не превышало восьми, но зато прокручивались они не менее десяти раз каждая. Затем включалась одна, самая близкая сердцу соседке в этот вечер. Раз, другой, третий, пятый. Еще не закончившись, она тут же включалась вновь, а когда дело шло на десятый круг, соседка начинала подпевать грубоватым нескладным голосом. После чего все смолкало. Это повторялось изо дня в день. Репертуар обновлялся не чаще, чем через полгода, так что до сих пор у меня в ушах звучат любимые мелодии моей незабвенной соседки слева.
Соседями справа была уже увядающая пара. Он – пожарный, тщедушный мужчина маленького роста с глазками-буравчиками и картавинкой при разговоре. Она – блеклая женщина с измученным лицом и сдержанными манерами. Жили они как будто тихо и мирно, лишь изредка возникали небольшие перепалки. Как‐то мне не спалось, я зажег лампу и стал читать. Стрелки часов показывали час ночи. Вдруг услышал: «Ты брал деньги?!» – «Нет, не брал».
После небольшой паузы – грохот, а затем как бы нежные приговаривания: «Бра-ал, бра- ал…».
Опять грохот и визг маленького пожарного. Обычно эти возникающие семейные вьюги как внезапно начинались, так и внезапно заканчивались. И эта ссора не оказалась исключением из правил. Муж побаивался своей жены, однако жадность до выпивки частенько страх перебарывала. За эту‐то храбрость он и получал тумаки от значительно физически более развитой супруги, которая, впрочем, и сама любила лишний разок пропустить один-другой стаканчик горячительного, но семейный бюджет блюла строго.
Вообще на соседей справа мне везло. До этой пары здесь проживал тоже тихий человек средних лет, род занятий которого остался мне не известен. У него была одна, но пламенная страсть. После ее удовлетворения слышался звон пустых бутылок, конечно, не из-под нарзана. Друзья, приходившие к нему, как я понял, были весьма целеустремленными и настойчивыми людьми. Как‐то мой сосед вечером был дома, однако после приема излишней дозы спиртного пребывал, видимо, в полубессознательном состоянии. Пришедшие в этот неурочный час с самыми дружескими намереньями сотоварищи в ответ на свой призывный стук в дверь услышали только тишину. Но они были не из породы пасующих перед первыми же трудностями. Друзья стали истово колотить в дверь, а затем, осознав, что в этот момент их главная цель в жизни: во что бы то ни стало проникнуть в жилище товарища, стали уже со всей серьезностью бить в дверь что было силы. Надо сказать, что двери в общежитии тонкие, многие с фанерными заплатками, наложенными после подобных же старательных действий. В коридоре слышался рев: «Че он не открывает?! Мишка-а! Ну я же знаю, что он там! Мишка-а!».
И опять грохот. После очередного удара раздался треск дерева, и друзья толпой ввалились в комнату моего соседа. Он, наверное, находился в горизонтальном положении, погрузившись в сонно-бредовую нирвану, однако сумел оценить старания и успех товарищей: «А-а, б…! Вам что, делать…?!».
Гурьба сразу потеплевшими голосами при виде родного лица ответствовала: «А че ты не открывал‐то?».
Но в целом, несмотря на эти маленькие недоразумения, соседи справа были мне куда милее соседки слева, а впрочем, и те и другие напоминали: жизнь продолжается, грустить не надо, надейся и жди, все впереди!
Коллега
В моей душе запечатлен портрет одной прекрасной дамы.
Б. Окуджава
– Знаешь, ты не хитри! – выговаривала Инесса Васильевна, остановив меня в коридоре поликлиники. – Я твоих больных принимать не собираюсь, мне их не оставляй!
Я работал на терапевтическом приеме всего лишь три дня. И хотя энергии тратил много, однако разбирался с каждым больным долго и действительно не успевал за смену принять всех пришедших. Оставшиеся направлялись к другому терапевту. Я еще толком не знал коллектива, и первой из врачей, с кем успел познакомиться, была моя коллега – терапевт Пташкина Инесса Васильевна – женщина лет сорока с коротко подстриженными волосами, выкрашенными в пепельный цвет, мутновато-голубыми глазами и синими веками. При каждом ее движении на больших мочках покачивались длинные серьги. Она была стройная, подтянутая, в безукоризненно белом халате, явно сшитом по заказу, который плотно облегал фигуру, на ногах – модные сапоги. При первом взгляде она производила впечатление опытной женщины, встретившей на своем жизненном пути больше разочарований, чем радостей, однако твердо вознамерившейся взять вверх над натиском трудностей, которые так и ломились в дверь ее жизни. Работала она уже здесь около пятнадцати лет, а родилась неподалеку от поселка, в одной из деревушек. Когда я увидел ее мать и сестру – деревенских женщин, одетых в телогрейки и кирзовые сапоги, невольно проникся уважением к Инессе Васильевне. Сколько нужно было приложить старания, чтобы вырваться из деревенского захолустья, выучиться на врача и, как она частенько о себе говорила: «Достигнуть того, что сейчас представляет». При этих словах ее глаза грустнели, вокруг них появлялась сеть многочисленных морщинок, и она неизменно обращала свой взор в окно, как бы просматривая еще и еще раз весь свой нелегкий жизненный путь, медленно проплывающий мимо поликлинических окон. Тем не менее Инесса Васильевна как будто удачно вышла замуж, родила троих детей.
На четвертый день работы она подбежала ко мне, явно не удовлетворенная моими стараниями. Стала выговаривать претензии. Я поспешил заверить ее, что буду прилагать большие усилия.
В поликлинике было пять ставок участковых терапевтов, однако они никогда не были полностью заполнены. Обычно работали два терапевта. Я оказался третьим, кто цедил ежедневный непрерывный поток больных. Пациентами были не только жители поселка, но и окраинных деревень, поэтому самое маленькое количество лиц, проходивших за день, у одного терапевта достигало тридцати, а в период эпидемии гриппа – семидесяти человек. Понятно, врач, проработавший в поселке 15–20 лет, знал в лицо почти всех его жителей, но, соответственно, и жители были хорошо осведомлены о работе этого врача. Как и везде, был контингент ДЧВ – длительно и часто болеющих – категория пациентов, требующая особого врачебного подхода. Входили в эту группу действительно больные люди, но были и ипохондрики, которые выдумывали себе заболевания и стремились не мытьем, так катаньем добиться больничного листка, а были и просто отъявленные симулянты, беззастенчиво норовившие пробраться еще и без очереди на прием. Задача врача заключалась в том, чтобы не путать эти три потока, правильно определять тактику поведения и принимать решения в зависимости от того, к какой категории относится пациент. Будешь смотреть на больного как на симулянта или симулянта обхаживать как больного – не избежать злобной молвы в первом случае и насмешливой во втором. Как выяснилось позже, горе Инессы Васильевны состояло в том, что она в этом деле допускала немало ошибок и поэтому находилась со многими больными в натянуто-взрывоопасных отношениях. Теперь она пыталась поток этих лиц пустить на меня и немного отдохнуть от физиономий, набивших за столько лет оскомину. С этой целью она использовала достаточно избитые, примитивные способы, которые все‐таки давали желаемый Инессой Васильевной эффект. Например, великодушно предоставив мне свой кабинет, находящийся прямо на «столбовой дороге» поликлиники, заняла комнату в темном закоулке, даже не вывесив на ее двери табличку: терапевт. Такой простой тактический ход уменьшал очередь в кабинет Пташкиной минимум в два раза. Существовали и другие мелкие увертки, как говорится, шитые белыми нитками, то и дело пускаемые в оборот Инессой Васильевной, на которые приходилось молча закрывать глаза. По закону дедовщины она никогда не готовилась к ежегодным отчетам по диспансерному наблюдению больных на участке. Стоя у зеркала и подкрашивая губы помадой, она говорила: «За меня Степановна уже все отметила, – и, заметив мое недоумение, добавляла: – Нет, ну а ты‐то готовься!».
Я месяц рылся в карточках, раскладывая их по нозологиям, заполнял вызова на не прошедших диспансерный осмотр больных, а затем держал осаду дотошных вопросов Степановны – нашего статистика.
Однако и Инесса Васильевна, бывало, попадала впросак, давая волю своей неуемной жажде к красивой жизни. Когда пересматривались терапевтические участки, она тщательнейшим образом выверяла и перепроверяла каждую улицу, каждый переулок, дом, составляя список будущих своих владений. Она переписывала его десятки раз, то убирая что‐то из него, то добавляя, и каждый раз над произведенным исправлением глубокомысленно задумывалась, будто речь шла о жизни или смерти – ошибки быть не должно. Не каждый день предоставляется возможность самому решать свою судьбу. Пташкина это понимала. После долгих сомнений, тревог и мучений список был готов, на ее лице появилась улыбка: все находившиеся рядом с поликлиникой улицы отошли к ней, а мне достались самые дальние, труднодоступные участки.
– А-а, – махнула рукой Инесса Васильевна, – знаю я их там, одни капризные собрались. Надоели, вечно жалуются. А тебе, – она лукаво прищурилась, – надо руку набивать.
Мне оставалось только согласиться. Но не прошла и неделя, как Инесса Васильевна стерла с лица печать самодовольства и навела тень грусти. На ее участке, выверенном с таким старанием, что подвоха вообще никакого и быть не должно, вдруг оказалось наибольшее число ветеранов. Судьба нанесла Пташкиной очередной коварный удар.
Месяц шел за месяцем. Инесса Васильевна как ни старалась, где мытьем, где катаньем, улучшить свое существование, душа ее стремилась в полет, жаждала лучшей доли. И вот в один из дней Инессе Васильевне представился случай изменить свою жизнь и покинуть ненавистных больных этого поселка. Она переезжала работать заведующей амбулаторией в один из совхозов, директор которого нуждался в опытных врачах и сулил ей новый коттедж. Совхоз был километрах в тридцати от районного центра. После переезда Инесса Васильевна стала частенько наведываться в покинутую больницу, приезжая по своим начальственным делам, а чаще привозя больных на консультации с подозрением на какую‐либо острую хирургическую патологию или с травмой. Тридцать километров есть тридцать километров. Бывали дни, особенно воскресные, в которые Инесса Васильевна показываласъ в ординаторской хирургического отделения дважды в течение суток. В большинстве случаев речь шла просто о ложной тревоге. Ей было легче привести больного на консультацию, чем сделать попытку в нем самой разобраться.
В одно из летних воскресений я дежурил по больнице. Вдруг в окошке промелькнула зеленая с красной полоской боковина машины, а через секунду в ординаторскую ворвалась Инесса Васильевна:
– Иди скорее – больной умирает!
– Где?
– В машине! – она указала рукой на стоящий за окном «рафик». – А я останусь здесь, иначе родственники прибьют меня. – Пташкина нервно хихикнула.
Я и еще один врач побежали к машине. В душном кузове «рафика» лежал на поставленных на пыльный пол носилках тучный мужчина лет пятидесяти с задравшейся на большущем животе рубахой, обнажившей сизый пуп. Рядом сидели, как я выяснил позже, его жена и брат. Я залез в кузов и взял больного за руку: она была холодная, пульса не было. Человек был мертв. И умер он не минуту назад, а, видимо, еще в пути, и Инесса Васильевна знала это, однако упорно гнала машину по раскаленной солнцем автомагистрали. От больницы «рафик» направился в морг. Это была моя последняя встреча с Пташкиной.
В последующем до меня доходили слухи, что она недовольна работой в совхозе и привередливостью жителей, проживавших в нем. Но и пациенты платили ей той же монетой. Жизнь заводила Инессу Васильевну на новые крутые виражи, но только не ей их было не преодолеть.
Забытые часовые
Впрочем, если даже солдат на какое‐то время поддался понятному в таких условиях отчаянию, он вскоре должен был понять, что сделать уже ничего нельзя…
«Бессменный часовой», С.С. Смирнов
Когда я приезжал в город, то в глаза явственно бросалась новая примета времени: не было дворников, никто не подметал улицы, громадные пригоршни пыли ветер поднимал и рассеивал в горячем майском воздухе. Эта пыль как пудра обсыпала лица ехавших в автобусе, особенно тех, кто приютился около открытых окон. На уровне лиц пассажиров пролетали пустые грязные полиэтиленовые пакеты, мятые листы газет. Начинались девяностые годы – годы «свободы», в том числе от чистоты и порядка. Ближе к центру встречались сбитые в «муравейники» зеваки. Над ними возвышался какой‐нибудь субъект, надрывно горланивший в мегафон: «Долой! Руки прочь!..». Рядом с выступающим торчало непонятное знамя. Оно при порыве ветра захлестывало физиономию оратора, как бы пытаясь остановить яростный поток пустоплетства. Оратор резким движением отбрасывал полотнище и, размахивая кулаком, еще сильнее начинал кого‐то костерить и кому‐то грозить. Везде раскинулись стихийные рынки, за каждым углом шла торговля. Новоявленные хозяева жизни прямо на автомобиле норовили подъехать к киоскам. Для лучшего обозрения вывесок разных фирм-однодневок спиливались громадные сорокалетние тополя, в двери булочных тянулись длинные очереди. Я с удивлением, любопытством и растерянностью наблюдал такие перемены.
Внешне в поселке, где я работал, все оставалось по-прежнему. Только опустели магазины, в которых продавали одежду и обувь, а в продуктовых вечерами, после работы, нельзя было купить булку хлеба, и я довольствовался сдобной соломкой, пачки которой неизменно лежали на прилавке. Но иногда мне сопутствовал успех, редко, но удавалось взять хлебный кирпич. После того, как в одной из буханок я обнаружил в месиве не пропеченного теста розоватого цвета линейку, желание покупать хлеб вовсе исчезло.
Легкие дуновения перемен нет-нет да и долетали уже и в поселок. Больные, чаще мужчины, приходившие на прием, стали перемежать рассказы о своих болячках с историями, которые они недавно вычитали в газетах. Один местный житель ходил по врачам и собирал справки, чтобы отправиться в Америку. «А-а, – он махнул рукой, – если сдохну там, то и черт со мной, а туда поеду!». Выходя из кабинета, повернулся, бросил на меня прощальный взгляд и помахал рукой. Но каково же было мое удивление, когда я встретил его около магазина через полгода. Перед ним стояли мужчины, и он опять говорил об Америке и тоже с ними прощался.
В кабинете психоневролога работала медсестра. Она уже была не первой молодости, а мне казалась и вовсе старухой – худой, жилистой. При малейшем поводе над чем‐то посмеяться она начинала нарочито, очень громко и грубо, гоготать, широко открывая старческий рот. Не замечала, как собеседники гасили свои и без того кислые улыбки, в угоду ей сделанные, и начинали с тоской смотреть на ее большие желтые зубы и принюхиваться к запаху, шедшему изо рта. В поселке она прожила всю жизнь. А сейчас навострилась в Германию. Начала сбор каких‐то многочисленных справок, стала ездить на собеседования. Обсуждение результатов ее усилий шло каждодневно с другими медсестрами по углам поликлиники. Такая кипучая, полная надежд на лучезарное будущее, деятельность продолжалась около года. В итоге получила отказ. Разговоры прекратились. Жизнь пошла, как и прежде, в унылом ключе.
Однако в поликлинике время от времени стали происходить и веселые события. Как‐то на собрании коллектива больницы в лотерею разыгрывались три подписки на собрания сочинений Чуковского, Некрасова и Лескова. Пятьдесят белохалатников затаив дыхание ждали, чей же жребий достанет из мешка заведующая. В итоге собрания сочинений разошлись по рукам наименее приспособленных к этому занятию. В другой раз на всю поликлинику разыгрывалась пара женских сапог. Здесь судьба не прошла мимо меня.
С врученным талончиком, как с ценным трофеем, я направился в местный универмаг. Сапоги нужны были моей маме. Но они оказались на два размера больше, чем требовалось, и я оставил их в магазине. Такой опрометчивый с моей стороны поступок не остался не замеченным не только женским большинством, но и мужским меньшинством коллектива. Меня вызвала к себе в кабинет заведующая и, еле скрывая раздражение, спросила: «Зачем же вы талончик‐то отдали? Если вам не подошли, подошли бы кому‐то другому!». Я чувствовал себя неловко, виновато хлопал глазами и молчал. Я никак не думал, что за моими действиями так неравнодушно будут следить десятки глаз. После этого случая я принял твердое решение не участвовать в подобного рода лотереях.
В остальном все шло своим чередом. На первых порах вместе со мной в поликлинике работали еще два терапевта: Кузакевич и Арасов. Кузакевич была высокой, стройной черноволосой и кареглазой миловидной женщиной, женой отставного военного. Имела двоих детей школьного возраста. Работала в Слепнево около года. Мужа ее я видел мельком раза два. Это был мужчина средних лет, в очках, с черными усами. Он прихрамывал, опираясь на трость. Ходили слухи, что с ногой у него не все просто. На почве заболевания он начал попивать и поколачивать свою жену. Сама Наталья, так ее звали, была неконфликтным человеком, но с неважным здоровьем. Из-за стойкой анемии лицо ее было всегда серо-бледным, и она постоянно жаловалась на слабость и недомогание. Часто просила меня съездить на вызова вместо нее. Частенько ей внутривенно вводили препараты железа. Зимой она носила толстый вязаный свитер с большим воротником, сильно пропахший потом и своим запахом густо наполнявший ее кабинет. Как‐то к ней пришел больной пожилого возраста с жалобами на боль в левой половине грудной клетки. Она его осмотрела, выставила диагноз межреберной невралгии, назначила физиолечение и противовоспалительные препараты. Сказала больному явиться на повторный прием дня через три-четыре. В назначенное время больной пришел. Выяснилось: ему не лучше, боли продолжали беспокоить. Кузакевич повторно осмотрела больного, выписала уже лекарства в инъекциях. На всякий случай направила его на электрокардиограмму и рентгенографию органов грудной клетки. Опять назначила явку через четыре дня. Больной вновь явился, но с новыми жалобами: на одышку и слабость. Роясь в ящичке для бланков с анализами, Наталья нашла результаты обследования больного. В заключении электрокардиографии значилось: острый инфаркт миокарда. С таким диагнозом больного следовало госпитализировать еще восемь дней назад, никакое физиолечение нельзя было проводить. Но Кузакевич повезло, больной не умер, и никто из начальства не узнал о том, что больной и врач благополучно прошли по краю пропасти.
