Метафизика Аристотеля. Десятая книга
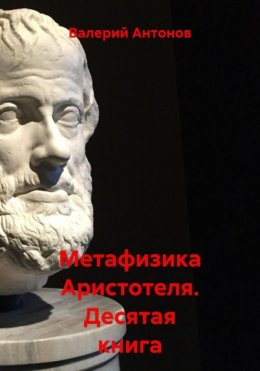
Аннотация к десятой книге (Iota) «Метафизики» Аристотеля
Десятая книга (Iota) «Метафизики» Аристотеля представляет собой систематическое исследование категорий Единого (τὸ ἕν) и Многого (τὸ πολύ), а также связанных с ними понятий тождественного, иного, подобного и равного. Книга носит полемический характер, направленный против платоновско-пифагорейского понимания Единого как самостоятельной субстанции, и утверждает имманентность Единого сущему.
Ключевые темы и аргументы:
1. Многозначность Единого. Единое, как и Сущее, высказывается в нескольких смыслах (по категориям) и не является отдельной субстанцией. Оно существует как:
o Непрерывное (природное целое),
o Целое, имеющее форму (единство, заданное эйдосом),
o Неделимое (мера, единичная сущность, вид).
2. Единое как мера. В собственном смысле Единое есть мера (μέτρον) некоторого множества. Этот принцип универсален: единица – мера числа, буква – мера слога и т.д. Мера объективна и имманентна самому измеряемому объекту, что опровергает релятивизм Протагора.
3. Учение о противоположностях. Противоположность (ἐναντίωσις) – это наибольшее различие внутри одного рода. Первичный вид противоположности – наличие (ἕξις) и лишение (στέρησις). Единое и Многое противопоставлены как мера и измеряемое. Промежуточное (μεταξύ) возможно только между противоположностями, имеющими общий субстрат.
4. Видовое различие. Вещи отличаются по виду, если их различие основано на противоположности в форме (в понятии, λόγος), а не в материи (например, человек и лшадь). Различие же по акцидентальным признакам (например, цвет кожи) или по полу не влечет видового различия.
5. Критика теории идей. Главный аргумент: если бы существовала вечная Идея (например, Человека), а земные индивиды тленны, то из-за противоположности тленного и нетленного они должны были бы относиться к разным видам и родам. Следовательно, Идея не может быть сущностью (οὐσία) чувственных вещей.
Значение и связи с другими трудами:
Книга Iota является системообразующим узлом всей философии Аристотеля:
· В рамках «Метафизики»: Синтезирует и развивает идеи книг IV (закон непротиворечия), V (определения понятий) и VII-IX (учение о сущности и форме).
· «Физика»: Онтологически обосновывает учение о противоположностях как основе всякого изменения.
· Логические труды: Концепция Единого как меры является метафизическим фундаментом для теории определения и доказательства.
· Этика («Никомахова этика»): Понятие промежуточного между противоположностями напрямую применяется в учении о добродетели как середине между пороками.
· Биологические труды: Принцип видового различия, сформулированный в Iota, служит методологической основой для классификации животных.
Вывод: Десятая книга «Метафизики» дает окончательное метафизическое обоснование ключевых понятий аристотелевской системы и предоставляет инструментарий для всех сфер его научного изыскания, подчеркивая единство и системность его мысли.
Обзор 10-й книги (Iota) «Метафизики» Аристотеля.
Десятая книга «Метафизики» (Iota) является кульминацией исследования единства и бытия. В ней Аристотель систематизирует учение о Едином (τὸ ἕν), его отношениях с Многим (τὸ πολύ) и связанных понятиях (тождественное, подобное, равное, противоположное). Книга носит полемический характер, направленный против платоновско-пифагорейского понимания Единого как отдельной субстанции.
Ключевые темы и аргументы книги
Тезис Аристотеля: Единое, как и Сущее, говорится во многих смыслах. Оно не является отдельной субстанцией (в отличие от Платона), но предицируется другим категориям.
Основные значения:
Единое как непрерывное: Естественно целое, движение которого неделимо (например, живой организм).
Единое как целое, имеющее форму: Единство, обусловленное эйдосом, а не внешним соединением (склеиванием, связыванием).
Единое как неделимое: В частности, как единичная субстанция (tode ti) или как общее, имеющее одно определение (вид).
Критика платонизма: Аристотель доказывает, что Единое не может быть родом или отдельной идеей, так как оно самое общее из всех предикатов. Общее не может существовать отдельно от индивидов, как того требует теория идей.
Основное определение: В собственном смысле Единое есть мера (μέτρον) некоторого множества.
Универсальность меры: Принцип меры применяется во всех науках и областях:
В математике: единица – мера числа.
В геометрии: стопа – мера длины.
В грамматике: буква – мера слога.
В музыке: четвертьтон – мера интервала.
В астрономии: движение неба – мера для других движений.
Объективность меры: Мера не субъективна. Она однородна измеряемому (длину измеряют длиной, вес – весом) и принадлежит самому объекту как его первое и неделимое начало.
Критика Протагора: Аристотель переворачивает тезис «человек – мера всех вещей». Не знание измеряет вещи, а вещи со своими объективными мерами являются мерой для нашего знания.
Противоположность как полное различие: Противоположность (ἐναντίωσις) определяется как наибольшее, завершенное (τελεία) различие внутри одного рода. Она всегда бинарна (имеет два члена) и допускает промежуточное (μεταξύ).
Первичный вид противоположности: Наличие (ἕξις) и лишение (στέρησις). Все остальные противоположности (добро/зло, белое/черное) сводятся к этой паре.
Отношение Единого и Многого: Они противопоставлены не как абсолютные начала, а как мера и измеряемое. Это отношение аналогично отношению относительного (πρός τι). Многое (число) измеримо единицей (мерой), поэтому оно противоположно Единому в этом смысле.
Тождественное, Подобное, Равное: Эти понятия – виды единства.
Тождественное: Высшая степень единства (численное или видовое).
Подобное: Единство в качестве (имеют одну форму, но разную материю).
Равное: Единство в количестве.
Их противоположности – Иное, Неподобное, Неравное.
Условие существования: Промежуточное возможно только между противоположностями одного рода, имеющими общий субстрат (материю).
Природа промежуточного: Оно не является простой сущностью, а состоит из противоположностей в определенной пропорции (например, серый цвет – смесь белого и черного).
Функция: Промежуточное – это то, во что сначала переходит изменяющееся при переходе от одной противоположности к другой.
Критерий видового различия: Вещи отличаются по виду, если их различие основано на противоположности, содержащейся в их понятии (λόγος) или форме, а не в материи.
Примеры:
Разные виды: «Человек» и «лошадь» различны по виду, так как их видовые понятия (разумное/неразумное живoeе существо) противоположны.
Не виды: «Белый человек» и «черный человек» – не разные виды, так как цвет является акцидентальным, материальным свойством, а не частью сущностного определения человека.
Особый случай – пол: Самец и самка не являются разными видами, так как различие пола относится к сфере материи и реализации формы, а не к самой форме (определение «живого существа» для обоих одно).
Главный аргумент: Тленное и нетленное – это противоположности, относящиеся к самой сущности вещи. Следовательно, они влекут видовое и родовое различие.
Применение к идеям: Если бы существовала единая, вечная и нетленная Идея Человека, а земные люди тленны, то они должны были бы относиться к разным видам и даже родам сущего. Следовательно, Идея не может быть сущностью (ουσία) земных вещей, что разрушает основной постулат теории идей.
Вывод: Идеи не могут существовать так, как их описывают платоники, поскольку это приводит к логическому противоречию: один и тот же человек был бы одновременно и тленным, и нетленным.
Анти-платонизм: Книга служит тотальной критикой трансцендентного понимания Единого и идей. Аристотель «имманентизирует» эти понятия, встраивая их в структуру самого сущего как его атрибуты и принципы познания.
Систематизация категорий: Аристотель создает иерархическую систему понятий (Единое, Многое, Тождественное, Иное, Подобное, Равное), пронизывающую все роды сущего и все науки.
Принцип научности: Учение о Едином как объективной мере является фундаментом для возможности точного, научного знания (epistēmē), противостоящего релятивизму и субъективизму.
Онтологическое обоснование биологии и этики: Различение сущностных (видообразующих) и акцидентальных (материальных) свойств и понятие «середины» имеют прямое применение в биологии (классификация видов) и этике (добродетель как середина между пороками).
Книга Iota является органическим завершением и синтезом тем, поднятых в более ранних книгах:
· Книги VII-IX (Z, Eta, Theta): Это ядро «Метафизики», где исследуется сущность (οὐσία). Iota напрямую опирается на выводы этих книг. Критика платоновских идей в Iota 10 основана на аргументе из VII книги (Z), что общее (как «Единое» или «Сущее») не может быть сущностью, существующей отдельно от единичных вещей. Анализ единства как меры перекликается с учением о форме (εἶδος) как организующем начале, делающем вещь единой и целостной.
· Книга V (Delta): Это «философский словарь», где даются определения ключевых понятий. Iota по сути является расширенным и углубленным комментарием к статьям из V книги, таким как «Единое» (Δ 6), «Сущее» (Δ 7), «Тождественное» и «Иное» (Δ 9). Iota развивает эти краткие определения в целостную теорию.
· Книга IV (Gamma): Здесь устанавливается предмет метафизики – сущее как сущее и вводится закон непротиворечия. Анализ противоположностей в Iota (гл. 3-5) является конкретизацией и применением этих фундаментальных законов мысли и бытия.
«Физика» Аристотеля изучает природу (φύσις) и движение (κίνησις). Связь с Iota здесь фундаментальна:
· Учение о противоположностях: В «Физике» (I, 5) Аристотель утверждает, что всякое изменение происходит между противоположностями (ἐναντία). Iota дает онтологическое и логическое обоснование этому принципу, детально классифицируя сами противоположности (противоречие, лишение, контрарность) и анализируя природу промежуточного (μεταξύ), которое является ключевым для понимания непрерывного изменения в физическом мире.
· Единство и непрерывность: Понятие Единого как непрерывного (συνεχές), разработанное в Iota, является краеугольным камнем аристотелевской космологии и теории движения в «Физике» (V-VI книги). Неделимость движения единого по природе тела – прямой результат его метафизического единства.
· «Категории»: Это учение о родах высказывания напрямую связано с тезисом Iota о том, что значения Единого и Сущего соответствуют категориям. Утверждение, что «единое» всегда означает «единое-что-то» (одну сущность, одно качество, одно количество и т.д.), основано на категориальной структуре языка и бытия, изложенной в этом труде.
· «Аналитики»: Учение о мере и неделимости как основе познания в Iota является метафизическим фундаментом для теории доказательства и определения в «Второй Аналитике». Чтобы дать определение чему-либо, необходимо найти его неделимый вид (последнее видовое отличие), который и выступает его мерой и сущностью.
Связь здесь, возможно, неочевидна, но крайне важна.:
· Учение о середине: Аристотелевская этическая добродетель определяется как «середина между двумя пороками» (например, мужество – между трусостью и безрассудной отвагой). Это прямое применение онтологической схемы, разработанной в Iota: противоположности (пороки) и промежуточное между ними (добродетель). Iota предоставляет метафизическое обоснование для центральной концепции аристотелевской этики.
· Классификация видов: Принцип видового различия, сформулированный в Iota 8-9, является методологической основой для грандиозной работы Аристотеля по классификации животных. Различение животных «по виду» основано на противоположности в их форме (например, наличие или отсутствие определенных органов, способ размножения), а не на случайных признаках вроде окраски.
· Проблема пола: Пример с самцом и самкой, которые не являются разными видами (Iota 9), – это не абстрактный пример, а отсылка к конкретным биологическим исследованиям Аристотеля. Он приходит к этому метафизическому выводу, исходя из эмпирического наблюдения, что самец и самка производят потомство, принадлежащее к тому же виду, что и они сами.
Десятая книга «Метафизики» выступает системообразующим узлом всей философии Аристотеля. Она берет понятия, разработанные в логике и физике, и поднимает их на метафизический уровень, давая им окончательное обоснование. В то же время, она предоставляет метафизический инструментарий – учение о единстве, противоположностях, мере и видовом различии – который Аристотель продуктивно применяет в своих конкретных научных изысканиях: от биологии до этики. Без понимания Iota картина аристотелевской мысли остается неполной и разрозненной.
Книга Iota является органическим завершением и синтезом тем, поднятых в более ранних книгах:
Книги VII-IX (Z, Eta, Theta): Это ядро «Метафизики», где исследуется сущность (οὐσία). Iota напрямую опирается на выводы этих книг. Критика платоновских идей в Iota 10 основана на аргументе из VII книги (Z), что общее (как «Единое» или «Сущее») не может быть сущностью, существующей отдельно от единичных вещей. Анализ единства как меры перекликается с учением о форме (εἶδος) как организующем начале, делающем вещь единой и целостной.
Книга V (Delta): Это «философский словарь», где даются определения ключевых понятий. Iota по сути является расширенным и углубленным комментарием к статьям из V книги, таким как «Единое» (Δ 6), «Сущее» (Δ 7), «Тождественное» и «Иное» (Δ 9). Iota развивает эти краткие определения в целостную теорию.
Книга IV (Gamma): Здесь устанавливается предмет метафизики – сущее как сущее и вводится закон непротиворечия. Анализ противоположностей в Iota (гл. 3-5) является конкретизацией и применением этих фундаментальных законов мысли и бытия.
2. Связь с «Физикой»
«Физика» Аристотеля изучает природу (φύσις) и движение (κίνησις). Связь с Iota здесь фундаментальна:
Учение о противоположностях: В «Физике» (I, 5) Аристотель утверждает, что всякое изменение происходит между противоположностями (ἐναντία). Iota дает онтологическое и логическое обоснование этому принципу, детально классифицируя сами противоположности (противоречие, лишение, контрарность) и анализируя природу промежуточного (μεταξύ), которое является ключевым для понимания непрерывного изменения в физическом мире.
Единство и непрерывность: Понятие Единого как непрерывного (συνεχές), разработанное в Iota, является краеугольным камнем аристотелевской космологии и теории движения в «Физике» (V-VI книги). Неделимость движения единого по природе тела – прямой результат его метафизического единства.
3. Связь с логическими трудами («Категории», «Об истолковании», «Аналитики»)
«Категории»: Это учение о родах высказывания напрямую связано с тезисом Iota о том, что значения Единого и Сущего соответствуют категориям. Утверждение, что «единое» всегда означает «единое-что-то» (одну сущность, одно качество, одно количество и т.д.), основано на категориальной структуре языка и бытия, изложенной в этом труде.
«Аналитики»: Учение о мере и неделимости как основе познания в Iota является метафизическим фундаментом для теории доказательства и определения в «Второй Аналитике». Чтобы дать определение чему-либо, необходимо найти его неделимый вид (последнее видовое отличие), который и выступает его мерой и сущностью.
4. Связь с этикой («Никомахова этика»)
Связь здесь perhaps не очевидна, но крайне важна:
Учение о середине: Аристотелевская этическая добродетель определяется как «середина между двумя пороками» (например, мужество – между трусостью и безрассудной отвагой). Это прямое применение онтологической схемы, разработанной в Iota: противоположности (пороки) и промежуточное между ними (добродетель). Iota предоставляет метафизическое обоснование для центральной концепции аристотелевской этики.
5. Связь с биологическими трудами
Классификация видов: Принцип видового различия, сформулированный в Iota 8-9, является методологической основой для грандиозной работы Аристотеля по классификации животных. Различение животных «по виду» основано на противоположности в их форме (например, наличие или отсутствие определенных органов, способ размножения), а не на случайных признаках вроде окраски.
Проблема пола: Пример с самцом и самкой, которые не являются разными видами (Iota 9), – это не абстрактный пример, а отсылка к конкретным биологическим исследованиям Аристотеля. Он приходит к этому метафизическому выводу, исходя из эмпирического наблюдения, что самец и самка производят потомство, принадлежащее к тому же виду, что и они сами.
Десятая книга «Метафизики» выступает системообразующим узлом всей философии Аристотеля. Она берет понятия, разработанные в логике и физике, и поднимает их на метафизический уровень, давая им окончательное обоснование. В то же время, она предоставляет метафизический инструментарий – учение о единстве, противоположностях, мере и видовом различии – который Аристотель продуктивно применяет в своих конкретных научных изысканиях: от биологии до этики. Без понимания этой книги картина аристотелевской мысли остается неполной и разрозненной.
Глава 1. О сущности Единого и его отношении с Бытием.
Текст Аристотеля: «'Единое' означает: 1) случайное, 2) само по себе. И мы исследуем, что такое единое, поскольку оно подводится под начало как противоположность множественному… 'Единое' имеет столько значений, сколько и 'сущее'. Так… в одном значении 'единое' означает непрерывное либо вообще, либо, в частности, естественно непрерывное, а не соприкасающееся или связанное; и из таких [вещей] более едино и предшествует то, движение чего более неделимо и просто.»
Комментарий (СССР/Россия):
А.Ф. Лосев ("История античной эстетики", т. IV): Лосев подчеркивает, что Аристотель с самого начала ведет полемику с Платоном. Платон рассматривал Единое как трансцендентную, сверхсущую первоединую сущность (как в «Пармениде»). Аристотель же сразу заявляет, что Единое не является отдельной сущностью, а говорится во многих значениях, как и сущее. Это типично для аристотелевского метода: сведение трансцендентных идей к имманентным категориям и значениям. Лосев указывает, что это не просто перечисление значений, а их систематизация по принципу «от более случайного к более сущностному».
Д.В. Бугай ("Аристотель и традиционная логика"): Бугай анализирует этот пункт с логической точки зрения. Многозначность термина «единое» есть следствие его аналогического употребления. Аристотель не просто перечисляет значения, а выстраивает их в определенную иерархию, где «единое по природе» является первичным по отношению к «единому по соприкосновению» или «по искусству». Это основа для later анализа Единого как меры.
Текст Аристотеля: «В другом значении 'единое' означает то, что цело и имеет некоторую форму, особенно если нечто таково по природе, а не путем насилия, как, например, те [вещи], которые стали целыми от сжатия, склеивания или связывания… и такого рода вещь есть единое, движение которого в месте и по времени неделимо.»
Комментарий (СССР/Россия):
А.Ф. Лосев: Для Лосева это ключевой момент для понимания античной эстетики. «Целое, имеющее форму» – это прообраз художественного произведения, организма, космоса. Единство здесь – не механическое сложение частей, а органическая целостность, где форма (эйдос) является причиной единства. Противопоставление «по природе» и «путем насилия» (склеивание, связывание) показывает, что Аристотель ищет внутренний, имманентный принцип единства, а не внешний.
В.Ф. Асмус ("Античная философия"): Асмус акцентирует онтологический аспект. Неделимость движения в месте и времени – это критерий подлинного единства для физической субстанции. Таким единым является, прежде всего, живое существо, чье движение целесообразно и целостно. Это отличает аристотелевский подход от натурфилософского, где единство часто понималось механистически.
Текст Аристотеля: «Далее, в-третьих, 'единое' означает отдельный 'это' и имеющий положение в пространстве; в-четвертых, 'единое' означает общее и имеющее одно определение… Все это едино постольку, поскольку оно неделимо: именно одно – в движении, другое – в мысли или в понятии.»
Комментарий (СССР/Россия):
А.Ф. Лосев: Лосев видит здесь диалектику индивидуального и общего. «Отдельный "это"» (tode ti) – это единичная, чувственная субстанция, неделимая числом. «Общее, имеющее одно определение» – это вид или форма (эйдос), неделимая в понятии, в логосе. Таким образом, Единое оказывается фундаментальным свойством как чувственного, так и умопостигаемого мира. Единство индивида и единство вида – разные, но взаимосвязанные виды единства.
Советские логики (коллективные монографии по истории логики): Этот пункт рассматривается как основа аристотелевской теории понятия и определения. «Неделимость по виду» означает, что вид есть последнее, что поддается определению (последняя видовых отличие). Согласно логическому критерию научности, определение должно быть единым и заключаться в установлении рода и видового отличия объекта, тем самым раскрывая его сущность.
Текст Аристотеля: «Но следует обратить внимание на то, что нельзя определить, что такое 'единое' и 'бытие'… и 'единое' иногда означает то же, что и 'сущее', а иногда его начало и причину… и 'единство' также приписывается некоторым вещам как их мера.»
Комментарий (СССР/Россия):
А.Ф. Лосев: Лосев интерпретирует это место как указание на фундаментальный, почти апофатический характер категорий «сущее» и «единое». Они – не роды и не виды, а способы высказывания о сущем. Поэтому их нельзя строго определить через higher роды и видовые отличия. Различие между «единым» (как предикатом) и «единством» (как принципом) готовит почву для учения о Едином как мере.
Комментаторы перевода 1934 г. (А.И. Доватур): Дают более сжатый, филологический комментарий: Аристотель проводит тонкое различие между to hen (единое как предмет) и henotēs (единство как свойство или принцип). Это различие важно для корректного понимания последующего текста.
Текст Аристотеля: «Во всех случаях 'единое' есть начало числа… Мера всегда есть нечто одно и неделимое… и потому точка и каждый звук [буква] суть начала соответственно [для линии и речи]… И мера всегда однородна с измеряемым: для величин – величина, для тяжестей – тяжесть, для скоростей – скорость.»
Комментарий (СССР/Россия):
В.Ф. Асмус: Асмус видит здесь гносеологический центр всей главы. Введение понятия меры – это ответ Аристотеля на релятивизм и субъективизм софистов (критикуемых в п. 8). Мера объективна, она принадлежит самому измеряемому объекту как его «первое и неделимое». Это основание для возможности точного, научного знания (epistēmē). Принцип однородности меры и измеряемого – фундаментальный принцип античной науки.
М.В. Грачев (современный исследователь): Отмечает, что Аристотель строит здесь общую теорию измерения, применимую не только к математике, но и к физике, этике (где мерой является благо) и другим наукам. Единое выступает как принцип упорядочивания и познания любого множества.
Текст Аристотеля: «…и подобным же образом в астрономии 'единое' есть начало и мера (ибо они принимают движение неба за единое и быстрое и сообразно с ним судят о других), а в музыке – четверть тона… и в речи – буква. И все это 'единое' в том смысле, что оно неделимо по количеству и по виду.»
Комментарий (СССР/Россия):
А.Ф. Лосев: Для Лосева это иллюстрация универсальности категории меры, пронизывающей всю античную культуру. Астрономия, музыка, грамматика – все подчинены поиску неделимого первоэлемента, единой меры. Это выражает фундаментальную установку античного мышления на нахождение предела (peras) для беспредельного (apeiron). В музыке это – достижение чистой интонации, в речи – точное обозначение звука, в астрономии – поиск единого ритма космоса.
Советские историки науки: Анализируют этот пассаж как важный источник по истории античной науки. Он показывает, как теоретическое понятие меры, разработанное в философии, конкретизировалось в специальных научных дисциплинах.
(В тексте Аристотеля этот пункт не выделен отдельно, а является частью предыдущей мысли)
Комментарий (СССР/Россия):
В.Ф. Асмус: Принцип однородности, сформулированный в п. 5, служит для Асмуса доказательством материалистической, по его оценке, тенденции у Аристотеля. Мера не является чистой условностью или субъективной конструкцией ума. Она коренится в объективных свойствах самих вещей: длина измеряется длиной, вес – весом. Это делает процесс измерения объективным.
Текст Аристотеля: «А знание и чувственное восприятие называют мерой вещей по той же причине, потому что мы нечто познаем через них, хотя на самом деле скорее они измеряются, чем измеряют… И Протагор говорит, что человек есть мера всех вещей, имея в виду как раз знающего или воспринимающего… И хотя это сказано, пожалуй, ничего не значащим образом, однако нечто оно все же значит.»
Комментарий (СССР/Россия):
В.Ф. Асмус: Этот пункт – кульминация гносеологической полемики. Аристотель радикально переворачивает тезис Протагора. Не человек-мера вещей, а вещи, обладающие своей объективной мерой, являются мерой для нашего познания. Наше знание и восприятие истинны лишь постольку, поскольку они «соизмеряются» с объектом, а не наоборот. Асмус оценивает это как победу объективной логики над субъективизмом.
Д.В. Бугай: Бугай добавляет логический аспект: Аристотель показывает, что тезис Протагора приводит к логическому противоречию (если каждый человек – мера, то противоречащие друг другу мнения equally истинны), что разрушает саму возможность науки и диалога.
Текст Аристотеля: «Итак, что 'единое' есть в собственном смысле мера некоторого множества, и это больше всего очевидно для количества; ибо 'единое' есть начало и мера для количества, ия для чисел [мерой служит] единица, для длины – стопа, для слога – буква… И везде 'единое' есть нечто неделимое – или по количеству, или по виду.»
Комментарий (СССР/Россия):
А.Ф. Лосев: Лосев подводит итог: Аристотель свел все значения Единого к одному основному – быть мерой. Но это не просто формальное определение. Это синтез онтологического и гносеологического аспектов. Единое как мера – это то, что делает познаваемым мир (гносеология) и то, что структурирует его самого, внося в него предел и определенность (онтология). Таким образом, аристотелевское Единое, в отличие от платоновского, имманентно миру и познанию.
Современные российские исследователи: Подчеркивают, что итоговое определение носит иерархический характер. Первичная и самая точная мера – количественная (единица числа). Затем по аналогии с ней понимается мера в других родах сущего (качестве, отношении и т.д.). Это отражает общий метод Аристотеля: от математически точного – к менее точным, но не менее важным областям бытия.
Глава 2. Является ли Единое субстанцией? Критика платонизма и пифагореизма.
Текст Аристотеля: «Теперь мы должны снова взяться за вопрос, который уже обсуждался выше в апории, а именно: как Единое ведет себя в соответствии со своей сущностью и природой. Мы должны рассмотреть, что такое Единое и что следует думать о нем: является ли Единое как таковое субстанцией, как утверждали пифагорейцы, а затем Платон, или же оно скорее основано на субстрате; и как этот субстрат можно описать более узнаваемо, более в манере натурфилософов. Ибо из них один утверждает, что дружба – это одно, другой – воздух, третий – бесконечное.»
Комментарий:
А.Ф. Лосев ("История антической эстетики", т. IV, с. 623-625): Лосев подчеркивает, что Аристотель начинает с прямого указания на своих оппонентов – пифагорейцев и Платона, для которых Единое было самостоятельной, отдельной (χωριστόν) субстанцией. Упомянутые натурфилософы (Эмпедокл – «дружба», Анаксимен – «воздух», Анаксимандр – «бесконечное») также гипостазировали некое первоначало, но их подход Аристотель считает более «узнаваемым» (γνωριμώτερον), так как они ищут начало в пределах самой природы, а не в трансцендентной сфере.
W.D. Ross ("Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary", vol. II, p. 468): Росс отмечает, что отсылка к «апории» (ἀπορία) ведет к более ранним книгам «Метафизики» (III, IV, VII), где проблема статуса Единого и Сущего уже поднималась. Аристотель здесь не просто повторяется, а дает итоговый, категорический ответ на этот фундаментальный вопрос.
Д.В. Бугай ("Аристотель и традиционная логика", с. 145): Бугай акцентирует методологический аспект: Аристотель противопоставляет два подхода – спекулятивно-философский (Платон) и натурфилософски-имманентный. Его собственная позиция будет синтезом: он признает важность категории Единого, но будет искать его не «отдельно», а в самой структуре сущего.
Текст Аристотеля: «Итак, если ничто общее не может быть индивидуальной субстанцией, как было доказано при исследовании индивидуальной субстанции и сущего, и если поэтому общее не может быть индивидуальной субстанцией как Единое, существующее рядом и отдельно от многих, ибо оно общее для многих, но может быть только предикатом, то то же самое верно и для Единого: ведь сущее и Единое – самые общие из всех предикатов. Так что ни роды не являются самостоятельными природами и субстанциями, существующими отдельно от остального, ни Единое не может быть родом и индивидуальной субстанцией по тем же причинам, по которым не является таковым Сущее. Более того, все должно вести себя одинаково.»
Комментарий:
А.Ф. Лосев (там же, с. 626): Лосев видит здесь применение главного оружия Аристотеля против платонизма – критики учения об идеях. Аргумент, развитый в VII книге (Зет) против отдельного существования общего, здесь применяется к самым общим понятиям – Сущему и Единому. Если даже «животное» или «человек» не могут существовать отдельно от отдельных людей, то Единое – тем более. Это «самое общее» (τὸ καθόλου μάλιστα), а значит, наименее способное быть конкретной сущностью (οὐσία).
M. Frede, G. Patzig ("Aristoteles 'Metaphysik Z'", Band 2, S. 50-51): Немецкие комментаторы, анализируя параллельные места в кн. VII, подчеркивают, что аргумент Аристотеля основан на том, что сущность (οὐσία) по определению есть «вот это нечто» (τὸ τὶ ὲν εἶναι), в то время как общее (καθόλου) по определению сказывается о многом. Это логическое противоречие в самой концепции «общей сущности».
В.П. Лега ("Аристотель: Метафизика. Перевод и комментарий", с. 412): Лега указывает, что вывод «все должно вести себя одинаково» (ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ πάντων) – это указание на универсальный онтологический принцип: ко всему сущему категории Сущего и Единого применяются одинаковым образом, будучи его предикатами, а не самостоятельными сущностями.
Текст Аристотеля: «Существующее и Единое имеют одинаковое количество значений; и поскольку Единое есть нечто и определенная природа в качественном, а также в количественном отношении, теперь необходимо исследовать, что такое Единое в целом, как мы исследовали это в отношении существующего: ведь недостаточно сказать, что это его природа. В случае с цветами Единое – это цвет, например, белый, поскольку другие цвета, очевидно, возникают из него и из черного, но черный – это лишение белого, так же как темнота – лишение света.»
Комментарий:
W.D. Ross (vol. II, p. 469): Росс объясняет, что Аристотель переходит от отрицательного аргумента (чего Единое не есть) к положительному (что оно есть). Поскольку значения Единого и Сущего коррелируют (каждой категории сущего соответствует свой вид единства), то Единое всегда оказывается чем-то в какой-то категории: одним количеством, одним качеством и т.д. Оно не существует само по себе.
А.Ф. Лосев (с. 627): Лосев обращает внимание на введение важнейшей для Аристотеля категории «лишения» (στέρησις). Белое – это определенное качество (цвет), а черное – его отсутствие, лишение. Единое также часто понимается через противопоставление своей противоположности – многого. Но это не делает его самостоятельным; оно всегда «единое-что-то».
J. Beere ("Doing and Being: An Interpretation of Aristotle's Metaphysics Theta", p. 312): Бир отмечает, что пример с цветом иллюстрирует, как Единое может быть «принципом» в некотором роде (белое как исходный цвет), не будучи трансцендентной субстанцией. Оно имманентно самой системе цветов.
Текст Аристотеля: «Таким образом, если бы сущее было цветом, то сущее было бы числом. Но числом чего? Очевидно, числом цветов. А единица была бы определенной, например, белой. Точно так же, если бы сущее было звуком, оно было бы числом, но числом четвертьтонов, а не таким, что его сущность сама была бы числом; и Единое было бы тогда такой вещью, сущность которой не Единое, а четвертьтон. Точно так же сущее было бы числом букв в случае звуков, а Единое было бы самогласным. Если бы сущность состояла из прямолинейных фигур, она была бы числом фигур, а единица была бы треугольником. То же самое было бы и в других областях.»
Комментарий:
В.П. Лега (с. 413): Лега комментирует, что Аристотель использует гипотетические примеры («если бы сущее было цветом…»), чтобы прояснить свою мысль. Сущее в каждой категории представляет собой некое множество (число), а Единое – это элемент этого множества (единица счета), который сам по себе является чем-то иным (белым, четвертьтоном, треугольником), а не просто «единицей».
H. Bonitz ("Aristoteles Metaphysica", Band II, S. 477): Бониц, классический комментатор, обращает внимание на терминологию: Аристотель строго различает «быть числом» (εἶναι ἀριθμόν) чего-либо и «быть по сущности числом» (τὴν οὐσίαν αριθμὸν εἶναι). Пифагорейцы, по его мнению, совершали ошибку, приписывая сущему второе, в то время как верно лишь первое.
Д.В. Бугай (с. 146): Бугай видит в этих примерах развитие теории аналогии. Единое аналогично во всех категориях (оно везде выступает как мера и элемент множества), но конкретное содержание его различно. Нет «Единого вообще», есть только «единое-в-качестве», «единое-в-количестве» и т.д.
Текст Аристотеля: «Если, таким образом, есть числа в изменяющихся свойствах вещей, в качественных, количественных и в движении, и если во всем есть единица, если поэтому число того, что есть одно, есть определенное одно, и не именно это, будучи одним, составляет его сущность, то оно должно вести себя так же и с веществами, поскольку оно ведет себя так же и со всем. Поэтому очевидно, что Единое – это определенная природа в каждой области, но само Единое как таковое не является природой никакой вещи, но как чистое Единое следует искать среди цветов как один цвет, так и в области субстанций как одну субстанцию.»
Комментарий:
А.Ф. Лосев (с. 628): Лосев называет этот вывод Аристотеля «блестящим образцом логического анализа». Индукция от акциденций (свойств) к субстанциям доказывает универсальность принципа. Ключевая фраза: «не именно это, будучи одним, составляет его сущность» (οὐχ ᾗ ἓν τὸ εἶναι αὐτοῖς). Сущность белого – быть определенным цветом, а не быть «единым». Точно так же сущность отдельного человека – быть живым существом определенного вида, а не быть «единым».
W.D. Ross (vol. II, p. 470): Росс подчеркивает итоговый тезис: Единое всегда есть «нечто иное» (ἕτερόν τι), некая конкретная природа. «Само-по-себе-Единое» (αὐτὸ τὸ ἕν) – это абстракция, которая не существует отдельно. Реально существуют «одни сущности» (μία οὐσία), например, отдельный человек или лошадь, которые и являются первичными носителями единства.
Статья: E. V. Di Lascio ("Aristotle on the Individuation of Numbers", Classical Quarterly, 2019, p. 145-146): Автор анализирует этот пассаж в контексте теории чисел Аристотеля. Число всегда есть число чего-то (единиц счета), и эти единицы должны быть чем-то отличным от просто «единицы», иначе возникнет проблема их индивидуации (все единицы тождественны). Ответ Аристотеля: единицы числа – это конкретные сущности или качества.
Текст Аристотеля: «Но то, что сущее и Единое являются как бы синонимами, следует из того, что они следуют категориям во многих отношениях, не содержась ни в одной из них. Так, Единое не содержится ни в категории «Что», ни в категории «Качество», но ведет себя так же, как и Единое. То, что эти два понятия являются синонимами, также очевидно из того факта, что «человек» говорит не больше, чем «человеческое существо»; точно так же, как «бытие» говорит не больше, чем «что», «качество» или «количество», а «единство» означает бытие вещи.»
Комментарий:
G. E. L. Owen ("Logic, Science and Dialectic: Collected Papers in Greek Philosophy", p. 180-199): Оуэн в классической статье "Aristotle on the Snares of Ontology" подробно разбирает этот отрывок. Он показывает, что Аристотель использует «синонимичность» (συνωνυμία) здесь в особом, техническом смысле. Сущее и Единое не являются синонимами в строгом смысле (как, например, «меч» и «клинок»), но они «следуют друг за другом» (ἀκολουθεῖν ἀλλήλοις) и находятся в отношении взаимной импликации. Утверждать, что нечто есть, – значит утверждать, что оно едино (чем-то одним), и наоборот.
А.Ф. Лосев (с. 629): Лосев объясняет, что «следование категориям» означает, что каждому виду сущего соответствует свой вид единства. Единое «распыляется» по всем категориям, проявляясь в каждой из них по-своему, но при этом не сводится ни к одной. Оно – трансценденталия (хотя Аристотель не использует этот термин).
В.П. Лега (с. 414): Лега обращает внимание на лингвистический аргумент: «человек» (ἄνθρωπος) и «один человек» (εἷς ἄνθρωπος) означают одно и то же – конкретную сущность. Прибавление «единого» не добавляет новой информации о сущности, а лишь указывает на ее неделимость и отдельность, т.е. на ее способ бытия. Таким образом, Единое – это не что иное, как аспект самого Сущего.
Глава 3. Противопоставление Единого и Многого. Тождественное, Подобное и Равное.
Текст Аристотеля: «Единое и многое противопоставляются друг другу несколькими способами. В одном случае единое и многое противопоставляются друг другу как неделимое и делимое: ведь делимое или делимое называется множеством, а неделимое или неделимое – единым. А поскольку существует четыре вида противоположностей, и один из этих видов – отношение лишенности, то единое и многое могут быть противопоставлены таким образом, но не путем противоречия или относительного.»
Комментарий:
А.Ф. Лосев ("История антической эстетики", т. IV, с. 630): Лосев подчеркивает, что Аристотель начинает с самого фундаментального и онтологического способа противопоставления: через категории делимости и неделимости. Это противопоставление основано на его учении о противоположностях (из «Категорий»), где один из видов – противоположность как наличие и лишенность (ἕξις καὶ στέρησις). Единое здесь трактуется как наличие формы и целостности, а Многое – как лишенность этой целостности, возможность разделения.
W.D. Ross ("Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary", vol. II, p. 471): Росс уточняет, что Аристотель специально оговаривает, что это противопоставление – не по принципу противоречия (ἀντίφασις), где среднего не бывает, и не по отношению (πρός τι). Это важно, так как между Единым и Многим есть промежуточные состояния (например, «несколько»), и они не являются чисто относительными понятиями, подобными «двойному» и «половине».
В.П. Лега ("Аристотель: Метафизика. Перевод и комментарий", с. 415): Лега обращает внимание на онтологический статус этого противопоставления: делимое/неделимое – это свойство самих вещей, а не только нашего мышления. Таким образом, оппозиция Единого и Многого укоренена в самой структуре реальности.
Текст Аристотеля: «Но единое выводится и проясняется из противоположного, а неделимое – из делимого, потому что количество и делимое ближе к чувственному восприятию, чем неделимое; так что, согласно чувственному восприятию, количество концептуально раньше, чем неделимое.»
Комментарий:
А.Ф. Лосев (с. 631): Лосев видит здесь проявление аристотелевского эмпиризма и его полемику с платоновским приоритетом единого и умопостигаемого. Для нашего познания, идущего от чувств, множественность и делимость даны первично. Мы сначала видим множество частей, а затем уже постигаем единство целого. Это гносеологический приоритет многого перед единым.
J. Beere ("Doing and Being: An Interpretation of Aristotle's Metaphysics Theta", p. 315): Бир отмечает, что этот тезис согласуется с аристотелевской теорией познания, изложенной в «Физике» и «Второй Аналитике»: мы движемся от более известного для нас (чувственного, множественного) к более известному по природе (умопостигаемому, единому).
Д.В. Бугай ("Аристотель и традиционная логика", с. 148): Бугай акцентирует логический аспект: понятие «единого» определяется через отрицание – через «не-делимое». Таким образом, в логическом порядке определение многого (делимого) является первичным.
Текст Аристотеля: «Но к Единому относятся, как мы уже разделили в таблице противоположностей, Одинаковые, Подобные и Равные, к множеству Других, Непохожих и Неравных.»
Комментарий:
W.D. Ross (vol. II, p. 472): Росс объясняет, что отсылка к «таблице противоположностей» (likely, не дошедшей до нас или подразумевающей некий известный в Ликее список) показывает, что Аристотель систематизирует эти понятия. Он выстраивает иерархию: Тождественное – максимальная степень единства, Подобное – единство в качестве, Равное – единство в количестве.
H. Bonitz ("Aristoteles Metaphysica", Band II, S. 479): Бониц указывает, что эта классификация имеет не только логическое, но и онтологическое значение. Она показывает, как Единое проявляется в разных родах сущего: в субстанции (тождество), в качестве (подобие), в количестве (равенство).
Текст Аристотеля: «Тождественное обозначается несколькими способами: во-первых, иногда мы говорим об этом, исходя из числа; во-вторых, мы называем нечто тождественным, когда оно едино как по понятию, так и по числу, как, например, вы тождественны сами себе, и едины как по форме, так и по материи. Кроме того, мы называем две вещи тождественными, если понятие их основной сущности едино: например, одинаковые прямые линии тождественны, как одинаковы и равносторонние четырехугольники, даже если их несколько: но в этих случаях тождество есть единство.»
Комментарий:
А.Ф. Лосев (с. 632): Лосев детализирует: Аристотель различает 1) численное тождество (самотождественность индивида), которое есть высшая степень единства (единство по материи и форме), и 2) видовое тождество (когда разные индивиды имеют одну сущность, одно определение). Второй случай показывает, что тождество не всегда требует численного единства.
G. E. L. Owen ("Logic, Science and Dialectic", p. 200): Оуэн подчеркивает важность различения «тождественного по числу» и «тождественного по виду» для всей аристотелевской метафизики. Это различие лежит в основе его критики платоновских идей: для Платона все равноугольные четырехугольники «тождественны» по причастности к одной Идее, для Аристотеля они лишь «подобны» (см. ниже) и тождественны по виду, но не по числу.
В.П. Лега (с. 416): Лега обращает внимание на пример с геометрическими фигурами: они тождественны, потому что их сущность (форма) полностью описывается их определением (например, «прямая линия», «равносторонний четырехугольник»), которое для всех них едино. Здесь нет места материальному различию.
Текст Аристотеля: «Мы называем подобным то, что не тождественно само по себе, а также не безразлично в отношении составной субстанции, но тождественно в отношении формы: так, например, больший четырехугольник подобен меньшему, и поэтому неравные прямые линии подобны, но не тождественны. Другие вещи называются подобными, если, имея одну и ту же форму, они не больше и не меньше тех вещей, в которых есть больше и меньше. Другие вещи называются подобными, если они обладают одним и тем же качеством и едины по форме: например, очень белое и менее белое подобны, потому что оба имеют одну форму. Другие вещи называются подобными, если у них больше одинаковых качеств, чем разных, либо самих по себе, либо хотя бы в том, что касается выдающихся качеств.»
Комментарий:
W.D. Ross (vol. II, p. 473): Росс систематизирует значения: 1) Подобие как тождество формы при различии материи (геометрические фигуры разного размера). 2) Подобие как обладание одним и тем же качеством, допускающим интенсивность («более/менее белое»). 3) Подобие как обладание большинством одинаковых свойств. Таким образом, подобие – это менее строгое единство, чем тождество.
А.Ф. Лосев (с. 633): Лосев связывает это учение с античной эстетикой, для которой понятие подобия (ὁμοιότης) было фундаментальным. Искусство основано на подражании (μίμησις), которое есть создание подобия. Аристотель дает онтологическое обоснование этой категории, выводя ее из единства формы.
Статья: C. Shields ("Order in Multiplicity: Homonymy in the Philosophy of Aristotle", 1999, p. 167): Шилдс анализирует это место в контексте аристотелевской теории унивокации, эквivокации и парадигмы. Подобие часто является тем, что позволяет нам применять одно и то же понятие к разным вещам, даже если они не тождественны.
Текст Аристотеля: «Из вышесказанного ясно, что различное и несходное также выражаются в разных значениях. Иное отчасти противопоставляется тождественному, по причине чего каждое является либо тождественным, либо иным по отношению к каждому, отчасти оно выражается, когда две вещи не имеют одной субстанции и одного понятия, по причине чего вы и ваш сосед – иные. Третьим способом другой выражается в математике.»
Комментарий:
H. Bonitz (S. 480): Бониц отмечает, что Аристотель выводит значения «Иного» (ἕτερον) из значений «Тождественного». 1) Иное как отрицание численного тождества (логическая противоположность). 2) Иное как отрицание видового тождества (разные индивиды одного вида). 3) Специальное математическое значение (например, «иное число»).
В.П. Лега (с. 417): Лега поясняет, что первое значение («либо тождественно, либо ино») является универсальным законом мышления – законом тождества и запрета противоречия, примененным к отношениям между вещами.
Текст Аристотеля: «Поэтому все, что называется единым и сущим, как только оно ставится в отношение, является либо другим, либо тождественным. Ибо иное не противоречит тождественному и поэтому не предицируется несуществующему (о нетождественном же говорят, что оно есть), но предицируется всему существующему; ибо существующее и единое по своей природе либо одно, либо не одно. Другой и тождественный противопоставляются друг другу таким образом.»
Комментарий:
А.Ф. Лосев (с. 634): Лосев видит здесь формулировку одного из основных законов диалектики – единства и борьбы противоположностей (тождественного и иного). Эта оппозиция носит всеобщий характер для всего сущего, коль скоро оно «ставится в отношение» (ἐν τῷ πρός τι).
W.D. Ross (vol. II, p. 474): Росс обращает внимание на тонкое логическое различие: «иное» не является противоречащим противоположностью тождественному (как «нетождественное»), а является противоположностью по отношению. Поэтому о не-сущем нельзя сказать, что оно «иное», но можно сказать, что оно «нетождественно». Это уточнение важно для избежания логических парадоксов.
Текст Аристотеля: «Но различие и инаковость также различны. Ибо Другой и то, от чего он является Другим, не обязательно являются Другими через что-то конкретное, поскольку все, что существует, является либо Другим, либо тождественным: с другой стороны, то, что отличается от чего-то, отличается через что-то конкретное, так что должно существовать тождественное, через которое они отличаются.»
Комментарий:
G. E. L. Owen (p. 202): Оуэн дает классическое объяснение: «Иное» (ἕτερον) – это более общее понятие, означающее просто «не то же самое». «Отличное» (διαφέρον) – это более специфическое понятие, означающее «разное в чем-то определенном» (καθ' ἑτέρου τινός). Всякое «отличное» является «иным», но не всякое «иное» является «отличным» в строгом смысле (например, две совершенно разные вещи могут быть просто «иными», не имея конкретного параметра для сравнения).
Д.В. Бугай (с. 149): Бугай подчеркивает, что для «отличия» требуется общее основание для сравнения (то самое «тождественное»). Чтобы сказать, что яблоко и мяч отличаются по цвету, они оба должны иметь цвет (быть тождественными в этом отношении). Это фундаментальный принцип всякого сравнения и познания.
Текст Аристотеля: «Это тождественное есть род или вид: все, что различается, различается либо по роду, либо по виду, по роду – то, что не имеет общей субстанции и не переходит друг в друга путем превращения, например, то, что относится к различным категориям; по виду – то, что принадлежит к одному роду. Здесь род – это то, в чем две различные вещи тождественны по своей сущности. Противоположность – это тоже различие, а противоположность – определенное различие.»
Комментарий:
А.Ф. Лосев (с. 635): Лосев отмечает, что здесь Аристотель подводит итог всей своей классификации сущего. Высший вид различия – родовое (например, цвет и звук принадлежат к разным категориям и не имеют общей сущности). Низший – видовое (в пределах одного рода, например, разные цвета). Противоположности (белое/черное) – это предельный случай видового различия внутри одного рода («цвет»).
W.D. Ross (vol. II, p. 475): Росс уточняет, что различие по роду (διαφορὰ κατὰ γένος) для Аристотеля является самым сильным: вещи, относящиеся к разным категориям (например, качество и количество), «не имеют общей материи» и не могут превращаться друг в друга. Это основание для аристотелевской критики попыток сведения всего сущего к одной субстанции (как у досократиков).
В.П. Лега (с. 418): Лега резюмирует: таким образом, Аристотель завершает построение сложной иерархической системы понятий (Тождественное/Подобное/Равное – Иное/Отличное/Неравное), которая проистекает из фундаментальной оппозиции Единого и Многого и отражает структуру самого мира.
Глава 4. Противоположность как полное различие. Противоположность и лишение.
Текст Аристотеля: «Поскольку различные вещи могут отличаться друг от друга в большей или меньшей степени, существует и наибольшее различие, которое я называю контрастом. То, что это наибольшее различие, можно понять с помощью индукции. Ибо то, что различается по роду, не сливается друг с другом, но еще более удалено друг от друга и несовместимо, тогда как в случае с тем, что различается по виду, происходит взаимное слияние противоположного как конечного с другим. Расстояние конечного, однако, самое большое, следовательно, и расстояние противоположного.»
Комментарий:
А.Ф. Лосев ("История антической эстетики", т. IV, с. 636): Лосев подчеркивает, что Аристотель вводит количественную меру в качественное понятие различия. Противоположность (ἐναντίωσις) определяется не просто как различие, а как наибольшее (μεγίστη) и полное (τελεία) различие внутри одного рода. Это «контраст» (ἀντίθεσις). Примеры из предыдущей главы (белое/черное) служат индуктивным основанием для этого вывода.
W.D. Ross ("Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary", vol. II, p. 476): Росс обращает внимание на аргумент о родовом и видовом различии. Вещи, различные по роду (напр., цвет и звук), не имеют общей меры для сравнения, поэтому о них нельзя сказать, что они «противоположны». Противоположности требуют общего рода, внутри которого они являются максимально удаленными друг от друга «концами» (ἔσχατα).
В.П. Лега ("Аристотель: Метафизика. Перевод и комментарий", с. 419): Лега поясняет метафору «взаимного слияния»: противоположности, будучи крайними точками одного континуума (например, белое и черное на шкале цветов), определяют собой весь этот род и предполагают друг друга. Их различие является наиболее явным и «отчетливым».
Текст Аристотеля: «Но теперь величайшее в каждом виде завершено: величайшее – это то, что нельзя превзойти, а завершенное – то, за которым уже ничего нельзя найти: ведь завершенное различие достигло своего конца, так же как и остальное называется завершенным, когда оно достигло своего конца. Но за пределами конца нет ничего, потому что это конечное во всем и охватывает все. Поэтому ничто не выходит за пределы конца, и то, что совершенно, не нуждается в увеличении. Отсюда ясно, что противоположность – это полное различие: и действительно, поскольку противоположность выражается в нескольких значениях, полное всегда соответствует ей в том смысле, в каком она противоположна.»
Комментарий:
А.Ф. Лосев (с. 637): Лосев акцентирует связь понятий «величайшее» (μέγιστον), «конечное» (ἔσχατον) и «завершенное» (τέλειον). Противоположность есть телеологически завершенное, законченное различие, достигшее своего предела (τέλος). Это онтологическое, а не просто логическое определение.
H. Bonitz ("Aristoteles Metaphysica", Band II, S. 482): Бониц отмечает, что Аристотель применяет здесь общее определение совершенства (законченности, полноты), данное в V книге (Δ 16), к частному случаю различия. Полное различие – это такое, которое исчерпывает все возможности рода.
Д.В. Бугай ("Аристотель и традиционная логика", с. 150): Бугай видит здесь формально-логический критерий: если в роде есть два вида различия A и B, и A больше B, то B не является полным. Полное различие – это максимум, который нельзя превзойти.
Текст Аристотеля: «А раз так, то ясно, что одно не может быть противопоставлено более чем одному, ибо ни одно не может быть более крайним, чем крайнее, ни более чем две крайние точки на одном расстоянии. В общем, если противоположность есть различие, а различие имеет место между двумя вещами, то это относится и к полному различию.»
Комментарий:
W.D. Ross (vol. II, p. 477): Росс поясняет, что этот вывод следует из геометрической аналогии. На прямой линии или окружности можно провести только два диаметрально противоположных пункта. Третий не может быть в равной степени противоположен первому. Этот аргумент из «Физики» и «Категорий» подтверждает, что противоположность всегда бинарна.
В.П. Лега (с. 420): Лега добавляет, что это следствие самого определения противоположности как полного различия. Если бы был третий член, столь же отличный, то различие между первым и вторым не было бы полным, так как третий мог бы отличаться от них еще больше. Таким образом, бинарность вытекает из полноты.
Текст Аристотеля: «Согласно этому, остальные определения, данные относительно противоположности, также должны быть верными. Ибо совершенное различие – самое отчетливое… Также противоположно то, что наиболее отчетливо в одной и той же вещи, восприимчивой к ней: ибо противоположное имеет одну и ту же материю. Кроме того, противоположно то, что наиболее отчетливо в одном и том же факультете: ведь одна наука включает в себя один род, причем наиболее полное различие является наибольшим.»
Комментарий:
А.Ф. Лосев (с. 638): Лосев комментирует, что Аристотель суммирует признаки противоположности, разбросанные по другим works («Категории», «Физика»): 1) Ясность и отчетливость. 2) Общая материя (напр., тело для здоровья и болезни). 3) Принадлежность к одному роду и, следовательно, к одной науке (напр., медицина изучает и здоровье, и болезнь).
J. Beere ("Doing and Being: An Interpretation of Aristotle's Metaphysics Theta", p. 320): Бир подчеркивает важность общего субстрата (материи). Противоположности – это не просто логические противоположности, а реальные состояния одной и той же вещи, которые могут сменять друг друга в процессе изменения.
Текст Аристотеля: «Противоположность в самом изначальном смысле этого слова есть поведение и лишение – не лишение без большего, однако (ибо этот термин употребляется в нескольких смыслах), но полное лишение. Другая противоположность вытекает из только что упомянутой и называется так потому, что имеет ту или иную противоположность, или действует, или способно действовать, или поглощает, или отталкивает.»
Комментарий:
W.D. Ross (vol. II, p. 478): Росс утверждает, что здесь Аристотель указывает на онтологически первичный вид противоположности – наличие (ἕξις) и лишение (στέρησις). Это наиболее фундаментально, так как любое изменение можно описать как приобретение формы (наличие) и утрату другой формы или как переход из состояния лишения в состояние наличия.
А.Ф. Лосев (с. 639): Лосев видит здесь ядро аристотелевской диалектики. Все остальные виды противоположностей (горячее/холодное, доброе/злое) являются частными случаями или следствиями этой основной пары, которая коренится в соотношении формы и материи.
Текст Аристотеля: «Итак, если противоречие, лишение, противоположность и относительное противоположны друг другу, а из них противоречие – первое, если к тому же между членами противоречия нет посредника, но есть между противоположностями, то ясно, что противоречие и противоположность не тождественны; с другой стороны, лишение – это определенное противоречие. Ибо то, что либо вообще не способно иметь что-либо, либо не имеет того, что должно иметь по природе, есть лишенное, либо вообще, либо определенным образом.»
Комментарий:
H. Bonitz (S. 483): Бониц проводит четкое различие: противоречие (ἀντίφασις) – это чисто логическое отношение (А и не-А), не допускающее середины. Противоположность (ἐναντίωσις) – онтологическое отношение внутри рода, допускающее промежуточные состояния (напр., между белым и черным есть серое). Лишение (στέρησις) – это вид противоречия, но applied к чему-то конкретному (субстрату), что по природе должно иметь форму, но не имеет.
В.П. Лега (с. 421): Лега поясняет определение лишения: слепота – это лишение зрения у существа, которое по природе должно видеть. А вот камень не «лишен» зрения, так как он к нему не способен. Лишение всегда предполагает норму и потенцию.
Текст Аристотеля: «Лишение есть, таким образом, определенное противоречие, а именно определенная неспособность, или неспособность, которая также связана с рецептивным субстратом. Поэтому нет середины между членами противоречия, но есть между двумя сторонами лишения: например, все равно или не равно, но не все равно или неравно, а о равенстве и неравенстве можно говорить только в том, что восприимчиво к равному.»
Комментарий:
G. E. L. Owen ("Logic, Science and Dialectic", p. 205): Оуэн анализирует этот сложный пассаж. Лишение – это не просто логическое отрицание (не-А), а «определенное противоречие» (ἀντίφασίς τις), то есть отрицание, отнесенное к определенному роду сущего и к его природным возможностям. Поэтому для лишения возможна середина (состояние, которое не есть ни наличие, ни полное лишение), в то время для чистого противоречия – нет.
Д.В. Бугай (с. 151): Бугай иллюстрирует примером: противоречие – «равно или не-равно». Лишение – «равно или неравно» (где «неравно» implies лишение равенства у величины, которая может быть равной). В первом случае середина исключена, во втором – есть промежуточные состояния («почти равно»).
Текст Аристотеля: «Если же в материи все происходит из противоположности, либо из формы и поведения формы, либо из лишения формы и поведения формы, то из этого следует, что всякая оппозиция есть определенное лишение, но едва ли всякое лишение есть оппозиция. И это потому, что лишенное может быть лишено разными способами: противостоящим же является то внешнее, из чего проистекают изменения.»
Комментарий:
W.D. Ross (vol. II, p. 479): Росс объясняет этот тезис: поскольку любая противоположность может быть описана как наличие одной формы и лишение другой (напр., здоровье – наличие своей формы, лишение формы болезни), то всякая противоположность включает в себя момент лишения. Но не всякое лишение является противоположностью, потому что лишение может быть частичным, неполным, не достигающим степени контраста.
А.Ф. Лосев (с. 640): Лосев резюмирует: противоположность – это самый сильный, полный вид лишения. Более слабые виды лишения (напр., «не совсем здоровый») не образуют противоположности с наличием («здоровый»).
Текст Аристотеля: «Это также следует из индукции, поскольку каждая оппозиция содержит лишение одного члена в противоположном, хотя и не везде одинаковым образом: так, например, неравенство есть лишение равенства, несходство – сходства, дурность – добродетели.»
Комментарий:
В.П. Лега (с. 422): Лега отмечает, что Аристотель подтверждает свой сложный теоретический вывод простым индуктивным обобщением. Во всех стандартных примерах противоположностей один член явно трактуется как позитивный (форма, наличие), а другой – как его отсутствие (лишение).
Текст Аристотеля: «Здесь имеет место уже отмеченное выше различие: одно противоположно, когда оно лишено вообще, другое – когда оно лишено в определенное время или в определенной части, например, в определенном возрасте или в важной части или вообще. Следовательно, в одном есть середина, как, например, в человеке, который не является ни хорошим, ни плохим, а в другом ее нет, но что-то обязательно либо четное, либо нечетное. Кроме того, одно имеет определенный субстрат, а другое – нет.»
Комментарий:
H. Bonitz (S. 484): Бониц систематизирует условия: 1) Наличие середины зависит от того, является ли лишение полным и тотальным (чет/нечет) или допускает степени (добродетель/порок). 2) Зависит от субстрата: в математических объектах, лишенных материи, противоположности часто исключают середину; в физических вещах – допускают.
J. Beere (p. 322): Бир подчеркивает, что это различие имеет crucial importance для этики Аристотеля. Существование середины между противоположностями (добродетель как середина между пороками) основано на том, что лишение здесь не является полным и тотальным.
Текст Аристотеля: «Таким образом, очевидно, что одним из членов противоречия всегда является лишение. Но достаточно, если это относится только к высшим противоположностям и родам противоположностей, например, к единому и многому: ведь остальные противоположности могут быть прослежены до них.»
Комментарий:
А.Ф. Лосев (с. 641): Лосев завершает анализ: Аристотель сводит все многообразие противоположностей к самым общим – Единому и Многому, которые являются корнем всех остальных. Поскольку Многое можно трактовать как лишение единства, то фундаментальная оппозиция бытия также подпадает под схему «наличие-лишение».
W.D. Ross (vol. II, p. 480): Росс заключает, что этот вывод показывает глубокую связь учения о противоположностях с центральными книгами «Метафизики» о сущности и с учением о материи и форме. Лишение – это то, как материя существует до принятия формы, а противоположность – двигатель изменения.
Глава 5. Проблема противопоставления единого и многого, равного, большого и малого.
Текст Аристотеля: «Поскольку единое противоположно единому, возникает вопрос, как единое и многое могут быть противопоставлены друг другу, и то же самое с великим и малым.»
Комментарий:
А.Ф. Лосев ("История антической эстетики", т. IV, с. 642): Лосев указывает, что Аристотель ставит тонкую логическую проблему. Согласно установленному в предыдущей главе, противоположность всегда бинарна (п. 3). Но здесь мы имеем три термина: большое, малое и равное. Как они соотносятся? Является ли равное противоположностью большому? Или малому? Или обоим? Это частный случай более общей проблемы: как соотносятся друг с другом фундаментальные противоположности – Единое/Многое.
W.D. Ross ("Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary", vol. II, p. 481): Росс уточняет, что проблема возникает из-за того, что «равное» кажется отрицанием и большого, и малого одновременно. Но может ли одна вещь быть противоположностью двум? Это нарушало бы принцип бинарности.
Текст Аристотеля: «Ведь в противном случае мы всегда говорим «или-или», когда говорим о противоположностях; например, нечто является белым или черным, белым или не белым; но мы не говорим: человек это или белый, если только мы не спрашиваем, исходя из определенной предпосылки, например пришел ли Клеон или Сократ. Это, однако, нигде не является необходимым, но противоположности второго рода скорее вытекают из действительных противоположностей первого рода. Противоположности сами по себе не могут существовать одновременно, и это лежит в основе вопроса о том, пришел ли Он или Он. Если бы было возможно, чтобы оба пришли одновременно, вопрос был бы нелепым.»
Комментарий:
H. Bonitz ("Aristoteles Metaphysica", Band II, S. 485): Бониц объясняет, что Аристотель напоминает о фундаментальном законе логики для противоположностей: вопрос «А или Б?» (где А и Б – противоположности) всегда предполагает, что истинно только одно. Исключение – когда мы выбираем между двумя разными вещами (Клеон/Сократ), которые не являются противоположностями. Но и этот вопрос теряет смысл, если оба могут быть истинны одновременно.
В.П. Лега ("Аристотель: Метафизика. Перевод и комментарий", с. 423): Лега подчеркивает, что этот логический принцип коренится в онтологии: противоположности не могут одновременно присутствовать в одном и том же отношении в одном и том же субъекте. Это основание для невозможности ситуации, когда нечто одновременно и велико, и мало в одном смысле.
