Без времени и места
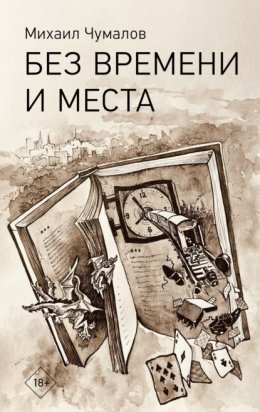
© Чумалов М., текст, 2025
Без времени и места
Железнодорожная повесть
Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,
Многое вспомнишь родное далёкое,
Слушая ропот колёс непрестанный,
Глядя задумчиво в небо широкое.
И. Тургенев
Что-то с памятью моей стало:
Всё, что было не со мной, помню.
Р. Рождественский
Время, место и прочее
Чтобы написать более или менее приличный рассказ или повесть, нужно не так уж и много: единство места и времени, герой и сколько-нибудь внятный сюжет.
Но скажите на милость, где я возьму всё это в скором поезде? Где я найду место в раскачивающемся на стыках вагоне, который мчится со скоростью сто двадцать километров в час? Сейчас он здесь, а не успеешь чаю попить, как за окном уже совсем другие края. Вчера ты заснул в субтропиках, сегодня проснулся среди донских степей, позавтракал, покурил – и поезд уже в сердце среднерусской равнины.
Где я, чёрт побери, возьму вам в поезде нормальное время? Здесь оно не течёт, как везде, от прошлого к будущему, а топчется на одном месте или колеблется, как кисель в чашке. В дороге время разбивается не на часы и минуты, а на промежутки от одной остановки до другой. Здесь спят и едят не тогда, когда положено, а когда надоедает пялиться в окно.
Мало того, что моё прошлое закончилось безвозвратно, а будущее настолько призрачно, что и говорить о нём нечего, так и настоящее ведёт себя причудливо. Я просто увяз в безвременье, как древняя муха в янтаре.
Разве можно говорить о сюжете там, где ровным счётом ничего не происходит? Где прогулка через гремящие тамбуры в вагон-ресторан или покупка малосольных огурцов на полустанке составляют содержание целого дня.
А что касается героя, так это вообще курам на смех. Небритая помятая личность, очнувшаяся от похмельного сна на третьей багажной полке плацкартного вагона – не герой, а чёрт знает что. У него и билета-то нет, и лишь по милости получившего мзду проводника оказался он здесь. На бёдрах у него синяки от жёсткой полки без матраца, в голове – туман и смятение, вызванное полной потерей идентификации, а в душе – недоверчивое изумление из-за открытия в себе чувств, о которых раньше и не подозревал. Кризис среднего возраста, видите ли, застал его на излёте третьего десятка лет – всё не как у нормальных людей. Нет, на роль героя этот тип не сгодится. Герой – это субъект решительного действия. А этот только лежит на своем ложе, предназначенном не для людей, а для чемоданов, под самым потолком купе да грезит об иных местах и временах, где возможно счастье.
Впрочем, это и есть я, автор. Познакомимся. Героем этого рассказа быть не претендую, здесь я только наблюдатель.
– Ну тогда наблюдай, – говорю я сам себе. – Рассказ-то надо продолжать, раз уж взялся. Посмотри вокруг: в этом поезде – шестьсот мест и столько же пассажиров, не считая проводников, машинистов и официанток вагона-ресторана. Неужели не найдется среди них кого-то, кто достоин быть героем твоего рассказа?
Вот, погляди: едет рядом молодой человек, похожий на тебя самого лет семь назад. На нём модная в интеллигентских кругах бородка а-ля Хемингуэй и в руках книга Курта Воннегута, выражение лица многозначительное, – всё выдаёт столичного студента или аспиранта. При этом вид у него мужественный, лицо загорелое и обветренное, широкие плечи и сильные руки в мозолях, пропылённые джинсы. При нём видавший виды брезентовый рюкзак. Не иначе как археолог. Чем тебе не герой? Поговори с ним и – я уверен – найдётся тебе тема для рассказа.
Или вот ещё: каким образом оказался здесь, в плацкартном вагоне, этот задумчивый мужчина в строгом костюме при галстуке, лакированных туфлях и с чёрным «дипломатом» в руках? Он нелюдим и будто напуган. Не скрывается ли тут интрига?
Обрати внимание и на эту загадочную личность, лежащую на верхней боковой полке лицом к стене вагона. За полдня езды этот человек ни разу не повернулся к людям и не издал ни одного звука. Кто он? О чём печалится, какие страсти его обуревают? А ещё лучше: поройся в своих воспоминаниях. Тысячи людей встретились тебе в жизни, и у каждого есть история, достойная рассказа.
Хотя и нет у меня сейчас настоящего, и будущее неясно, но прошлое-то осталось, и оно живёт в моей душе, терзает её и рвётся наружу, как шаловливый щенок. Стоит закрыть глаза, как полузабытые тени прошедшего обретают формы, краски, запахи и голоса. Времена смешиваются и путаются, наползают друг на друга и обрастают деталями, которых быть в них не должно. Огромный мир съёживается и вмещается в купе поезда. Оживают те, кого уже нет на этом свете, а те, кто далеко, оказываются рядом – только руку протяни. Они живут своей жизнью, говорят, спорят, любят и враждуют, совершают большие дела и мелкие глупости. И уже не разберёшь, что из этого было на самом деле, а что придумалось мне, когда я лежал на третьей багажной полке плацкартного вагона, уставившись глазами в потолок.
Симферополь. Вокзал
Четвёртого октября 1982 года скорый поезд № 8 «Нева» сообщением Севастополь – Ленинград прибыл на симферопольский вокзал точно по расписанию в 12 часов 39 минут. Локомотив притащил из режимного города морской славы восемнадцать полупустых вагонов. Зато на платформе было оживлённо: здесь ожидали посадки три сотни пассажиров.
У открытых дверей двенадцатого плацкартного вагона, где молоденькая проводница проверяла билеты, собралось два десятка отъезжающих. Андрей, подошедший к вагону последним, пристроился в конец небольшой очереди и принялся разглядывать своих попутчиков.
Пляжный сезон закончился, и курортников, заполнявших симферопольский вокзал в летние месяцы, было немного. Ленинградцев и москвичей Андрей определил сразу. Вот пожилой седовласый мужчина болезненного вида, худой и сутулый, одетый в длинное, не по погоде пальто. Целительный отдых на южном побережье, похоже, не пошёл ему на пользу: мужчина выглядел измождённым и явно чувствовал себя здесь не в своей тарелке. Он ёжился и прятал лицо за поднятым воротником, словно пытался быть незамеченным кем-то, находившимся здесь же, на перроне. Вот молодая пара с большим чемоданом, которая ничем не привлекла внимания Андрея. В нашем рассказе они участия не примут. Да ещё прогуливались по перрону, покуривая, два мужика за пятьдесят с загоревшими и испитыми лицами. Эти двое, видимо, отбыли полный срок профсоюзной путёвки в одном из санаториев Южного берега, где оздоровительным процедурам и минеральным водам предпочитали массандровские вина и карточные игры. Их лица не выражали ничего, кроме усталости.
В остальных пассажирах угадывались крымские аборигены. Первым у двери стоял мужчина средних лет, выделяющийся среди других своей одеждой. На нём был строгий чёрный костюм, белая рубашка с галстуком и отчаянно блестевшие на солнце чёрные лакированные туфли. В руках он держал чёрный же «дипломат». В спальном вагоне такой наряд не вызвал бы никаких вопросов, но здесь, среди разноцветной и небогато одетой толпы обладателей плацкартных билетов, этот «чёрный человек» выглядел белой вороной.
Мужчина нервно подёргивал плечом, и этому была причина. За его спиной стояла женщина неопределённых лет и столь же неопределённой внешности, державшая за руку мальчика лет десяти. Ребёнок выглядел и вёл себя, мягко говоря, странновато. Уставив взгляд в стену вагона и совершенно не обращая внимания на окружающих, мальчик громко пел, но песня его ограничивалась одной только фразой.
– Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам… пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам… – монотонно повторял он эти слова опять и опять, как испорченная пластинка. Заевший Мальчик – так назвал его про себя Андрей, который привык давать встреченным им людям прозвища, понятные ему одному.
Следом дожидался своей очереди аккуратно одетый поджарый молодой мужчина с восточным лицом и прямой осанкой, держащийся гордо и как бы отстранённо. В нём Андрей узнал представителя обиженного Сталиным национального меньшинства, которое когда-то было здесь национальным большинством и до сих пор не может смириться с этим фактом.
Дальше мужчина постарше и покрупнее в потрёпанной матерчатой куртке, с зычным голосом, большими руками и усами цвета спелой пшеницы – представитель национального большинства, которое ещё недавно было здесь меньшинством и тоже не может смириться с этим. У Андрея он получил прозвище Пшеничные Усы.
Наконец, по-южному дородная и румянощекая хлопотливая тётя – переспелый плод благодатной земли – с бесчисленными сумками и авоськами и что-то жующим дитём мужского пола, таким же дородным и румянощёким.
Быстро оглядев остальных и не найдя для себя ничего интересного, Андрей переключил внимание на проводницу. Весёлая хохотушка с живым лицом, приятно налитым телом и звонким голосом выгодно выделялась среди вялой толпы. Было ощущение, что девушка уже приняла на свою рвущуюся из-под форменной куртки грудь нечто такое, что придало её природной живости дополнительную энергию. Ей было лет двадцать, не больше, и, судя по стройотрядовской куртке с нашивками, какие назывались тогда «бойцовками», проводница была студенткой какого-нибудь украинского вуза или, скорее, техникума, подрабатывающей в летний период на железной дороге.
Андрей не раз ездил по южной трассе, и такой типаж был ему знаком. За месяц-другой поездной жизни, ошалев от внимания пассажиров и щедрых чаевых, студентки-проводницы забывали строгость своих провинциальных мамаш, привыкали пить, курить, драть нещадно деньги с безбилетников и зарабатывать всеми многочисленными уловками, изобретёнными на железной дороге, а главное – становились доступны для проезжих ловеласов разных возрастов.
Андрей с удовольствием пропел про себя: «Она стоит королевой, машет ручкою левой, в синем кителе она хороша – её важное дело, её нежное тело и до ужаса большая душа… Проводница! Ламца-дрица!». Так девушка, которую звали Оксана, тоже обрела прозвище в этом рассказе – мы вслед за Андреем будем звать её Ламцадрица.
Тут внимательный читатель вправе укорить меня за небрежность: эта песня впервые прозвучала лет через пятнадцать после описываемых здесь событий. Я знаю это, дорогой читатель, но поделать ничего не могу. Дело в том, что времена в наших воспоминаниях ведут себя своенравно: они обмениваются деталями, не спрашивая ничьего разрешениия. Впрочем, хорошая песня уместна всегда. Да и проводницы во все времена те же.
Конечно, в других обстоятельствах Андрей заметил бы и некоторую грубоватость лица проводницы, и излишнюю, не по возрасту, тяжесть в талии, и плохо прокрашенные волосы, выбивающиеся из-под засаленного синего берета. К тому же, на вкус москвича, держалась она вульгарно. Но стоило ли обращать на это внимание?
Сентябрь Андрей – аспирант-историк – провёл в степи возле Евпатории на археологической базе Московского университета, помогал друзьям-археологам как подсобный рабочий, землекоп. Сам Андрей археологом не был, а обязательную для всех студентов практику прошёл ещё первокурсником, так что особой необходимости тратить время каникул на тяжёлый труд не было. Но он любил экспедиционную жизнь: любил спать на нагретой за день земле под безбрежным южным небом, ловить ноздрями терпкий степной воздух и стряхивать по утру росу с палатки. Ему нравилось, обливаясь потом под злым крымским солнцем, долбить киркой окаменевшую, спекшуюся на жаре землю, отгребать её лопатой, срывать мозоли и чувствовать, как тело наливается крепкой мужской силой.
Больше городских ночных развлечений он ценил вечерние посиделки при свете самодельных ламп – их делали из свечей и пустых бутылок с выбитым дном – песни под гитару, неспешные разговоры за стаканом вина. Ему нравилось встречать приезжающих из Москвы новичков с чуть усталым видом бывалого копателя. Даже каждодневные хлопоты о том, где бы достать немного денег на вечернюю выпивку, оставляли приятные воспоминания. Словом, он любил всё, что составляет сумбурную экспедиционную жизнь: кто её знает, поймет, а кто не знает, тому всё равно не объяснишь. Поэтому уже третий год подряд Андрей приезжал сюда, но не летом, когда на раскопе учат азам археологической работы первокурсников, а в сентябре, когда остаются только свои, сильные и бывалые, когда работают на износ, без выходных, не за запись в зачётке, а за идею и интерес.
В этом году работали особенно упорно. Ещё летом начали расчистку скифского могильника, который казался неразграбленным, и потому торопились, чтобы вскрыть его до окончания полевого сезона. Так что о девушках пришлось на время забыть. Да и где их взять – сезон закончился, отдыхающие из окрестных посёлков поразъехались, до города добираться неблизко, и сил к вечеру уже не оставалось. Так что даже будь проводница постарше и подурнее, скорее всего, она всё равно бы показалась Андрею привлекательной.
Пассажиры уже прошли в вагон, и Андрей остался у дверей один на один с проводницей. Протягивая билет, он поднатужился и выдал девушке такой неуклюжий и двусмысленный комплимент с претензией на галантность, на какой бы при других обстоятельствах не отважился. Что-то о том, что поездка в этом поезде обещает быть весьма приятной, потому что здесь такие замечательные проводники, которые так любезны с пассажирами, но не все могут это оценить по достоинству, а те, кто могут, те… Тут он окончательно запутался и закруглил фразу, нимало, однако, не смутившись. Андрей знал, что его низкий бархатистый баритон производит куда более сильное впечатление, чем слова, которые он им произносит.
Ответом был кокетливый взгляд и сдавленный смешок, из чего Андрей понял, что нужный эффект произведён. Он достал сигарету, закурил и стал лихорадочно придумывать следующую фразу, чтобы закрепить успех.
– До отхода поезда осталось пять минут, – хрипло объявил репродуктор. И тут за спиной Андрея раздался топот и детские голоса. По перрону, волоча за собой сумки и рюкзаки, накатывала небольшая, человек пятнадцать, но шумная толпа подростков в одинаковых белых рубашках и пионерских галстуках.
– Здесь… Сюда… Двенадцатый… – пронеслось по перрону, и пионеры сгрудились у дверей вагона, толкаясь и нетерпеливо притоптывая. Из толпы выдвинулись и насели на проводницу две фигуры постарше: девушки за двадцать, невысокая блондинка в такой же, как у детей, белой сорочке и красном галстуке и стройная брюнетка в джинсах и чёрной свободной блузе. Обе загорелые, дышащие молодостью и свежестью недавнего отдыха. «Вожатые, ленинградки, – понял Андрей, – везут детей со смены в ”Артеке“ домой».
Только успели запихнуть детей в вагон, поезд тронулся. Как ни старалась проводница загнать туда Андрея вслед за пионерами, но тот был твёрд: сначала помог войти ей самой, галантно подтолкнув под талию, и только потом шагнул сам в ускоряющий ход вагон.
Симферополь – Джанкой
В вагоне было сумрачно и душно, пахло потом и какой-то кислятиной. Проталкиваясь между полками к своему месту, Андрей старался не задевать лицом человеческие ноги, тут и там торчащие в проход с верхних полок. Вдруг на его пути выросла невысокая фигура в расхристанном кителе с сержантскими погонами и в фуражке набекрень, из-под которой выбивался отросший не по уставу русый чуб. Дембель стоял на ногах нетвёрдо, но рукой крепко сжимал початую бутылку. Лицо его покрывала трёхдневная щетина, подворотничок был сер от грязи.
– Здорово, брат! – Дембель кинулся к Андрею так, будто они были закадычными друзьями. – Как дела?
– Дела у прокурора, – отшутился Андрей и сделал попытку протиснуться между сержантом и переборкой. Но тот жаждал общения.
– Откуда будешь? Из какого города?
– Из Москвы, – пришлось ответить Андрею.
– Земе-е-ля! – Лицо дембеля расплылось блаженной улыбкой. – Я ж сам с Ярославля! Земе-е-ля!… – Он заговорщически придвинул лицо к Андрею и, указывая на бутылку, добавил тихо: – Кирнём, братан? Водка есть… Ну выпей со мной, земеля… Я ж, понимаешь, один пить не могу. А тут, – он махнул рукой, – одни, бля, трезвенники и дети…
– Не сейчас, – вежливо, но твёрдо ответил Андрей и уже без церемоний отодвинул сержанта в сторону. С этого момента дембель обрёл имя, под которым он и будет выступать до конца нашего рассказа – Земеля.
Отбившись от навязчивого солдата, Андрей тут же забыл о его существовании. Но ты, читатель, не упускай его из виду. С ним мы ещё не раз встретимся в этом поезде. Этот нелепый человечишка станет немаловажным, а в чём-то даже одним из главных персонажей этой повести. Почему – это ты, читатель, узнаешь в конце.
Андрей занял верхнее место номер 16 в четвёртом отсеке. Забросив рюкзак на багажную полку, он присел внизу и стал изучать обстановку. Пионеры разместились в первых трех отсеках вагона, а две девушки-вожатые оказались соседками Андрея по купе – они занимали нижние полки. Позже Андрей узнает, что обеих зовут Наташами, и назовёт их про себя – Наташа Светленькая и Наташа Тёмненькая. На второй верхней уже ехал парень лет двадцати пяти с сильно загорелым и обветренным лицом. Его мускулистые руки и мозолистые ладони выдавали привычку к физическому труду. Занятой оказалась и верхняя боковая полка. На ней, лицом к стене, лежал какой-то человек, с головой накрытый простынёй, из-под неё виднелись только рыжего цвета вельветовые брюки. Разобрать, мужчина это или женщина, было невозможно. Человек, видимо, крепко спал: посадочная суета в вагоне не заставила его или её даже пошевелиться. На нижнюю боковую присел тот самый молодой мужчина восточной внешности, что стоял в очереди вслед за Заевшим Мальчиком.
В соседний, пятый отсек заселился сам Заевший Мальчик со своей мамашей. Песню он не прерывал ни на минуту. «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам… пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам…» – неумолимо раздавалось из-за перегородки, и этот бубнёж стал уже изрядно Андрея раздражать. Туда же проследовал загадочный мужчина с чёрным дипломатом. На верхнюю боковую в пятом отсеке взгромоздился Пшеничные Усы, а нижнюю заняла хлопотливая тётка со своими авоськами и дитём. Сутулый мужчина в пальто поселился на нижней полке в следующем, шестом отсеке. Компания, в которой Андрею предстояло проделать путь до Москвы, определилась.
– Сейчас придет тётя в форме, билеты будет проверять, – говорила женщина своему румяному сыну шёпотом, но Андрей, сидевший в метре от неё, слышал каждое слово, – так ты скажи ей, что тебе пять лет.
– Мама, мне шесть уже.
– Но ты скажи ей, что пять. Так надо… Посиди здесь, я сейчас вернусь. И никуда не отходи. Здесь все наши деньги. Украдут – нам кушать будет не на что. – Она с подозрением оглядела соседей. – Порисуй пока.
Она сунула мальчику книжку-раскраску и ушла в конец вагона, где были туалетные комнаты. Спокойно посидеть мальчику не удалось – рядом нарисовался Земеля, изнывавший от жажды общения.
– Здорово, малец. Доложи-ка дедушке дембелю, как звать тебя?
– Боря… – ребёнок был в восторге, что с ним разговаривает человек в военной форме. – А погоны у тебя настоящие? Ты генерал?
– А то! Гвардии сержант! А ты кто?
– Я солдатом буду, – гордо заявил Боря.
– Молодец! И сколько ж тебе лет, боец?
Боря насупился, подумал немного, но ответил, как велела мать:
– Пять.
– Так ты дух бесплотный!.. Я-то думал, ты – боец, а ты салабон, оказывается.
– Как это «салабон»?
– А так! – Земеля охотно пустился в объяснение неуставной военной терминологии. – Вот я, видишь, – «дембель». Главней меня никого нет. Только командиры.
– Ух ты! – сомлел от восторга Боря.
– А ещё есть «деды» и «черпаки» – это тоже нормальные пацаны, солдаты. А «слоны» и «чижи» или «духи» по-другому – это ещё не бойцы. Салабоны, короче. Понял?
Мальчик был готов расплакаться:
– Я не салабон. Я солдат. Мне шесть уже, я неправду сказал.
– Так это другое дело, боец! – Земеля расплылся улыбкой. – Шесть – это не пять, уважаю. Хотя до дембеля ещё далеко… Расти скорее, братан, – и Земеля ушёл в поисках достойного собутыльника.
В проходе появилась мама мальчика.
– Мама, – радостно закричал Боря, – деньги никто не украл. Вот они… А ко мне генерал приходил! С погонами! Он сказал, что я – боец!
– Тише ты! – буркнула мамаша и села, заслонив сумку с деньгами своим внушительным телом. Вскоре пришла и Ламцадрица. Проверив у женщины билет, она спросила:
– Мальчику сколько лет?
– Пять, – быстро отвечала мама.
– Не-ет, не пять, – вдруг вмешался Боря, – мне шесть уже.
– Как же так, Боренька? Что же ты говоришь? – затараторила мамаша. – Не слушайте вы его. Он сам не знает. Пять ему.
– Не-ет, знаю, – упорствовал Боря. – Знаю! Шесть! Я не салабон, я боец. Вот!
– Женщина, надо билет купить детский, – устало сказала Ламцадрица.
Земеля вертелся поблизости, и Андрею показалось, что он увидел на лице сержанта довольную ухмылку.
Человеком в рыжих вельветовых брюках на верхней боковой полке была Алёна. Весь путь от Севастополя она пролежала лицом к стене, накрыв голову простынёй и уткнувшись носом в подушку. Она беззвучно рыдала. Алёна переживала крушение первой любви, да и всей своей короткой девятнадцатилетней жизни, и никто не мог ей в этом помешать. В Симферополе вагон наполнился людьми и шумом. Вновь прибывшие тащили по проходу свои чемоданы и баулы, задевая головами Алёнины ноги, спотыкаясь и матерясь, с грохотом закидывали кладь на багажные полки, рассовывали её под сиденья. Но ни эта посадочная возня, ни грубые окрики проводницы, выгонявшей из вагона провожающих, ни даже противный детский голос из соседнего отсека, который монотонно напевал одну и ту же фразу «Пусть бегут неуклюже», – никакие силы мира не смогли бы заставить Алёну пожалеть наконец свой затёкший левый бок и повернуться лицом к людям. Сейчас она ненавидела весь человеческий род, всё это проклятое богом племя предателей и мучителей.
Едва месяц прошёл с того дня, когда Алёна пришла получать студенческий билет иняза и тогда, в курилке первого этажа, впервые увидела Славу. За этот месяц её неторопливое и беззаботное прежде существование сначала разогналось до скорости экспресса, а затем рухнуло под откос.
Иначе и быть не могло. У девушки, стоящей на пороге взрослой жизни, не было шансов не попасть под сокрушительное мужское обаяние Славы. Мало того, что он носил редкое имя Мстислав, он был старше и опытнее Алёны, в меру загадочен, начитан, успешен и красив той самой беспроигрышной в любовных делах красотой, когда уже обретенная мужественность сочетается с ещё не утерянными юношескими прелестями: гладкостью кожи, ясностью глаз и припухлостью губ. Слава был аспирантом. Он легко летел по жизни, сопровождаемый восхищёнными женскими взглядами. О своих достоинствах он знал и охотно ими пользовался. Случилось так, что в тот самый день Алёна впервые в жизни не пришла домой ночевать.
Увлечения случались у Алёны и раньше, были и страстные поцелуи, и вполне откровенные ласки, и даже нечто большее произошло дважды, пока родители были на даче. Но всё это оказалось полудетской вознёй в сравнении с тем взрывом неведомых раньше эмоций, которые Алёна испытала со Славой. Всего одной ночи, расцвеченной бессчётными фейерверками и трепетом плоти, оказалось достаточным, чтобы Алёна забыла обо всём другом. Выражаясь языком бульварных романов, она с отчаянием жертвы бросилась в омут всепоглощающей страсти. И когда Слава предложил ей провести вместе месяц бархатного сезона в его родном Севастополе, она не колебалась ни секунды.
К началу занятий в институт Алёна не явилась, и это грозило ей исключением. Вместо лекций она три дня провела в очередях, добывая себе достойные купальники, юбочки и босоножки. Ночами кроила и крутила ручку швейной машины: так на свет появились эти сногсшибательные, последней моды вельветовые брюки клёш. Алёна так и не решилась признаться родителям, что вместо учёбы она уезжает с любовником на курорт. Уходя из дома, оставила записку на обеденном столе. И теперь, лёжа лицом к дребезжащей стене вагона, она с ужасом представляла себе неизбежное объяснение с отцом.
Сказать, что поездка, в которую Алёна отправилась с ожиданием прекрасных чудес, не удалась, было бы слишком деликатным. Отдых обернулся кошмаром. Неприятности начались сразу, в поезде. Слава беззастенчиво флиртовал с соседкой по купе, часто выходил с ней курить в тамбур, кокетничал с официантками в вагоне-ресторане. Таков был его привычный стиль жизни, но Алёна оказалась к этому не готова. Нельзя сказать, что Слава не обращал на неё внимания. Вовсе нет, он был с ней нежен и игрив, но при этом смотрел на неё несколько снисходительно и даже высокомерно, как смотрит хозяин на красивую и удобную вещь, прихваченную с собой в поездку. Алёна молча кусала губы, но в объяснения не пускалась, опасаясь спугнуть зыбкую надежду на счастье.
Первые дни у моря прошли для Алёны спокойно. В Севастополе ей всё было ново. Слава показывал ей корабли, катал по бухте на катере, по вечерам они вместе любовались закатами. Но затем всё пошло кувырком. Природа взяла своё: Слава не обходил вниманием ни одной симпатичной девушки, и едва заметный сначала холодок в его отношении к Алёне с каждым днём становился всё более очевиден. Ночью, прижимаясь к тёплой спине любимого, Алена наслаждалась тихим счастьем, но дни были отравлены ядом ревности. Частенько Слава оставлял её одну на пляже, ссылаясь на какие-то дела. Всё разрешилось, когда, возвращаясь однажды в гостиницу через прибрежный парк, Алёна застала Славу на скамейке в обнимку с какой-то незнакомой девицей. Объясняться не было ни сил, ни желания. Алёна наскоро покидала в сумку самое необходимое, оставив в гостиничном номере свои замечательные новые купальники и сарафаны, и пешком отправилась на вокзал. И вот она здесь – на верхней боковой полке двенадцатого вагона – наедине с опустошённой душой и чёрными мыслями.
Сергей Ильич – тот самый мужчина в лакированных штиблетах и с чёрным «дипломатом» – занимал верхнее место номер восемнадцать в соседнем от Андрея отсеке, а именно в том, где ехал со своей мамашей Заевший Мальчик. Но его нескончаемая песня не беспокоила Сергея Ильича, погружённого в тревожные думы. Тяготило его совсем другое. Сергей Ильич готовился впервые в жизни получить взятку и по этому поводу нервничал. Ехать ему предстояло до Белгорода.
Сергей Ильич служил директором небольшого завода в Симферополе, и волею судьбы в его распоряжении оказался заводской профилакторий на Южном берегу у самого моря. В том самом профилактории нашёлся неиспользуемый участок, который в свою очередь приглянулся председателю богатого белгородского колхоза в видах устройства там дачи. От Сергея Ильича требовалось немного. Это и нарушением-то назвать можно только с натяжкой: всего лишь подписать с колхозом договор о сотрудничестве и оформить участок как сельхозугодья для подсобного заводского хозяйства. С благородной целью кормить рабочих выращенными там витаминами. Но за это «немногое» колхозник предложил солидную по меркам Сергея Ильича сумму.
Деньги ещё только ждали Сергея Ильича в Белгороде, но страх расплаты уже сковывал его нежную душу. Ещё сильнее терзала её моральная сторона предприятия. Дело в том, что Сергей Ильич был честным человеком. До сих пор не то что в криминальных делах, но и просто в сколько-нибудь неблаговидных поступках он не был замечен. Сказывалось родительское воспитание, а родители Сергея Ильича имели сталинскую закалку и соответствующие принципы. Положить свою жизнь на алтарь государственного блага, не требуя ничего взамен, было для них единственно возможным выбором. Так и сына воспитывали. Отец Сергея Ильича, в прошлом главный инженер большого и важного предприятия, за всю жизнь ни разу не воспользовался своим положением в личных целях. Потому они с матерью, бывшим районным терапевтом, и остались, как любил приговаривать папа, «с голым задом», то есть с обычной советской пенсией и без накоплений, сожранных денежной реформой. Сергею Ильичу и представить было страшно, что будет с папой, если тот узнает, что его сын – взяточник.
Сам Сергей Ильич к своим сорока пяти годам капиталов тоже не скопил. Не нищенская вроде бы зарплата разлеталась неведомо куда: Сергей Ильич воспитывал троих лоботрясов переходного возраста и соответствующих запросов. Семья требовала авто, но накопить на него никак не удавалось. А в жизненных планах Сергея Ильича значился ещё и маленький домик у моря, чтобы достойно встретить старость. Поэтому семь тысяч наличными, предложенные овощеводом – цена новенькой «копейки», – оказались слишком большим искушением. И Сергей Ильич решился: «Будь что будет, один раз возьму – и всё».
Бедный Сергей Ильич! По чистоте душевной он ещё не догадывался, что в карьере взяточника главное начать, а дальше она сама пойдёт. И что приводит она чаще всего не в собственный домик на взморье, а на лагерную шконку. Ничего этого Сергей Ильич пока не знал, потому и купил билет в Белгород.
Передача денег была назначена на утро следующего дня, но это мероприятие уже нанесло удар по семейному бюджету будущего взяточника. Требовалось одеться сообразно случаю. Приличный костюм и галстук в гардеробе нашёлся, а вот с обувью вышло неладно. Выходные туфли Сергея Ильича стоптались и покрылись трещинами. Чувствуя себя уже почти богачом, Сергей Ильич счёл зазорным ехать за деньгами в такой обуви. Пришлось срочно купить у спекулянта пару новеньких лакированных туфель. Они немного жали, вскоре Сергей Ильич натёр себе пятку, и это ухудшило и до того неважное состояние его души. Куплен был также большой чёрный «дипломат» – ну не везти же в самом деле такие деньги в хозяйственной сумке! Лишь в самый последний момент Сергей Ильич подавил в себе искушение дополнить свой облик дымчатыми очками. В них он безусловно являл бы собой персонаж шпионского фильма. Впрочем, и без таких очков в дурно пахнущей полутьме плацкартного вагона Сергей Ильич выглядел столь же чужим, как чиновник в парадном костюме для торжественных заседаний, оказавшийся вдруг на нудистской вечеринке.
На этом траты не закончились: пришлось выкупить два билета в спальном вагоне на обратную дорогу из Белгорода. По понятным причинам будущий нарушитель советских законов в особо крупном размере желал ехать в купе один. А вот на дороге «туда» Сергей Ильич, потративший уже почти всю зарплату, решил сэкономить. Так он и оказался одним из героев нашего повествования.
В четвёртом купе вагона номер семь играли в карты. Два закадычных приятеля Виталик и Валера – те двое с уставшими и испитыми лицами, которых Андрей приметил на перроне, – сели в поезд в Севастополе. Они возвращались домой после месячного отпуска на Южном берегу Крыма.
Валера и Виталик были неразлучны уже много лет. Их объединяла тайная страсть, носящая французское название. Не подумайте ничего плохого – речь идет о преферансе. Эта игра составляла главное содержание жизни каждого из них. Валера был завхозом одного из ленинградских театров, Виталик служил там же реквизитором, и почти всё свободное от работы время друзья проводили за карточным столом. Там они с успехом бомбили ушастых лохов, выкачивая из тех лишние деньги.
Нет, они не были профессиональными игроками, но слыли матёрыми любителями, каковых в преферансном мире называют «зубрами». Секрет успеха приятелей на зелёном сукне был непритязательно прост: Валера и Виталик играли «на одну руку», то есть сообща против партнера. В особых случаях, когда игра шла по-крупному, не брезговали и простейшими шулерскими приёмами вроде «забитых», то есть заранее подготовленных колод карт. Требовалось только в нужный момент вбросить такую колоду в игру незаметно для других игроков: друзья быстро освоили такой трюк. Эта тайная жизнь давала хорошую прибавку к зарплате, но дело было не только в деньгах. Азарт и удовлетворение от удачно проведённых комбинаций наполняли существование приятелей эмоциями. Так они оба дожили до пятидесяти и менять modus vivendi не собирались.
Раз в год Виталик и Валера вместе проводили отпуск на курортах черноморского побережья. Их влекли туда не южное солнце и ласковое море и даже не крепость массандровских вин, а повышенная концентрация «ушастых». Расслабленные бездельем, разморённые солнечными ваннами, лохи особенно охотно отдавали заработанное. Однако нынешний сезон не удался. Курортники играть не хотели, а если и садились за карты, то «по маленькой». Валера и Виталик возвращались домой почти без прибыли, едва окупив расходы на поездку. Оставалась ещё небольшая надежда поправить дела в поезде. Друзья открыли пошире дверь купе, раскинули на столе карты и принялись неспешно перекидываться в «гусарика». Играть друг с другом было неинтересно, да и незачем, но они всё равно усердно стучали картами по столу: приманивали лоха «на живца».
В Симферополе к ним в купе подсел третий.
– Георгий, – так представился вошедший, и Валера внимательно оглядел его с ног до головы. На роль перспективного лоха тот явно не тянул: в немодных очках, затрапезной матерчатой куртке, с видавшим виды чемоданом из искусственной кожи, он являл собой типичный образчик советского инженера или мелкого служащего, который живёт от зарплаты до зарплаты.
– Валерий. А это Виталий. Куда путь держите, Георгий?
– В Харьков. Домой еду.
– Отдыхали? – поинтересовался Валера.
– Нет, работал. В командировке был, – ответил Георгий и почему-то усмехнулся. А затем спросил, кивнув в сторону стола с разложенными картами: – Преферансом развлекаетесь?
– Да так… От делать нечего, – уклончиво ответил Валера. Всё стало ясно: как партнёр Георгий им не интересен.
Разговор затух. Георгий залез на свою верхнюю полку, и оттуда наблюдал за игрой, время от времени подавая реплики по поводу происходящего в ней и отпуская понятные только преферансистам прибаутки. Всем своим видом Георгий показывал, что и сам не прочь присоединиться к играющим. Валера и Виталик его намёки игнорировали: дожидались более денежного партнёра. Так прошло ещё два часа.
Итак, Сергей Ильич закинул пустой пока «дипломат» на верхнюю полку, сам сел внизу напротив Заевшего Мальчика и застыл, погрузившись в свои тяжёлые мысли. А тем временем песня мальчика не прерывалась ни на минуту:
– Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам… Пусть бегут неуклюже пешеходы… – и так бесконечно.
В окружающих мало-помалу копились нехристианские чувства. Если поначалу на ребёнка поглядывали с сочувствием – что, дескать, взять с ущербного, – то по прошествии часа сочувствие сменилось раздражением, а потом и злобой. Даже Сергей Ильич, всерьёз, казалось, застрявший в иных мирах, стал подавать признаки жизни: заёрзал по скамье, прокашлялся и наконец осмысленно и в упор стал смотреть на мучителя. На мальчика, впрочем, это не произвело впечатления.
Пшеничные Усы, возлежавший в тренировочных штанах и мятой рубахе на верхней боковой полке, не выдержал первым: пригрозил вызвать милицию, если мать мальчика немедленно не успокоит ребенка. Но та только молча вздыхала, и Пшеничные Усы сдался, отвернулся к стене и закрыл голову подушкой.
Некоторое облегчение наступило, когда пришло время обедать. Неутомимый певец и за едой ещё пытался мычать с набитым ртом, но потом всё же умолк, и обитатели вагона получили десятиминутную передышку.
После обеда концерт продолжился. Правда, мальчик сменил репертуар, но и новая пластинка оказалась испорченной:
– Любо, братцы, любо… любо, братцы, любо… любо, братцы, любо… – без остановки голосил мальчик.
Тут уж и Андрея, обычно очень сдержанного, стали охватывать чёрные мысли. От этой монотонной долбёжки по ушам у него разболелась голова. Казалось, ещё немного, и он сам сойдет с ума. И тогда совершит что-нибудь ужасное. Например, выкинет этого мерзкого мальчишку в окно, а там будь что будет!
Андрей встряхнул головой, чтобы отогнать эту мысль, и вышел покурить. За окном тянулся степной пейзаж, однообразный, как песнь Заевшего Мальчика. Торчать в тамбуре часами было глупо, и Андрей решил отвлечься чтением.
Впрочем, та единственная книга, которая лежала у него в рюкзаке, мало для этого подходила. Это было дореволюционное, 1915 года, издание кантовской «Критики чистого разума» в переводе Лосского. Андрей нашёл этот раритет в куче старых газет, книг и прочего бумажного хлама в макулатурной палатке. Соседка Андрея, приёмщица этой самой палатки, время от времени позволяла ему по-соседски рыться в сданной макулатуре в поисках букинистических изданий. Если Андрей что-нибудь из палатки забирал, то взамен честно приносил связку старых газет: для соседки ценность бумажного издания определялась исключительно его весом.
Зачем Андрей взял эту книгу с собой в поездку, – он и сам не знал. В экспедиции было не до метафизики, и Кант месяц пролежал на дне рюкзака. Но теперь выбора не было. Андрей раскрыл пожелтевший переплёт и прочитал первую фразу предисловия: «На долю человеческого разума в одном из видов его познания выпала странная судьба: его осаждают вопросы, от которых он не может уклониться, так как они навязаны ему его собственной природой; но в то же время он не может ответить на них, так как они превосходят возможности человеческого разума».
Читать дальше было лень. Андрей поднял глаза от книжки и увидел Борину мамашу, впившуюся зубами в крымский персик. Сладкий сок тёк по её подбородку. «Интересно, – подумал Андрей, – осаждают ли эту женщину вопросы, от которых она не может уклониться? Или старик Кант выдаёт желаемое за действительное? Беспокоят ли её размышления о смысле жизни или о связи реальности с сознанием?» Как знать. Сейчас её явно беспокоит то, что всё-таки пришлось заплатить за детский билет.
Или вот Земеля, например. Навязаны ли ему самой природой вопросы о свободе воли? О добре и зле? Вряд ли. Солдатская жизнь не даёт почвы для трансцендентных размышлений. Подъём и отбой – по расписанию. Одежда – по уставу. Проштрафился – накажут. Велят бежать – беги. Прикажут стрелять – стреляй, не размышляя, в кого и зачем. И всё же интересно знать, как этот человек определяет для себя, что есть добро и что есть зло? Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?
Андрей вспомнил, что ещё несколько минут назад он и сам был готов бить Заевшего Мальчика по голове, чтобы прекратить его песню. И – вот что интересно – большинство окружающих явно этот его поступок бы молчаливо одобрили. Получается, что Кант прав, что и для него, Андрея, понимание границ между добром и злом – это тоже вопрос, выходящий за пределы возможностей разума.
Да, читатель, представь себе: такие мысли иногда забредают в голову двадцатитрехлетнего парня, особенно если до этого он прочитал несколько умных книг. Но они забредают только тогда, когда рядом нет весёлой компании сверстников. И ненадолго. Стоит появиться на столе стаканам с вином, а в руках гитаре, стоит присесть рядом красивой девушке – и мысли эти тотчас уходят в глубины сознания и дремлют там до следующего подходящего случая.
– Любо, братцы, любо… – раздавалось из соседнего купе. Пока Андрей думал о высоком, Заевший Мальчик так ни разу и не перешёл за пределы первой строчки этой замечательной песни. Спасение пришло, откуда не ждали. Оно явилось в облике нетрезвого дембеля. Земеля возник в отсеке неведомо откуда, плюхнулся на сиденье рядом с Сергеем Ильичом, отдавив тому ногу, поставил бутылку на стол и минуту-другую внимательно слушал речитатив мальчика, одобрительно кивая в такт головой и прихлопывая ладонями, а затем принялся подпевать вполголоса:
– Любо, братцы, любо… Любо, братцы, любо…
Мальчик уставился на Земелю с тревогой, придвинулся поближе к матери, но пение не прекратил.
– Нам тут ещё хора имени товарища Пятницкого не хватало, – пробурчал с боковой полки Пшеничные Усы, но ни мальчик, ни Земеля не обратили на него внимания. Дуэт продолжился.
– Хорошо поёшь, боец, – произнес наконец дембель, и запах ядрёного перегара обдал находящихся в купе. – В армии запевалой будешь. Только слова выучи… А эту знаешь: «Идёт солдат по городу»?
Заевший Мальчик вопроса будто и не слышал. Он продолжил талдычить своё «любо, братцы», но глаз с дембеля не спускал. Тот сдаваться не собирался:
– Конфету хочешь? – Он достал из кармана кителя леденец в засаленной обёртке и протянул Заевшему Мальчику. Тот ещё плотнее прижался к матери, но петь не бросил. Тогда Земеля выкинул фортель, какого не ожидал никто. Дождавшись нужного момента, он вдруг запел неожиданно красивым голосом:
– …Любо, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить.
Пшеничные Усы скинул с уха подушку, из-за стенки отсека показалась чья-то всклокоченная голова. Пел Земеля хорошо, не фальшивил и старательно выводил ноты. При первых же звуках его голоса мальчик поперхнулся, будто слова песни застряли в его горле, и испустил взвизг, похожий на тот, что издает игла проигрывателя, соскальзывая с испорченной пластинки. Глаза его наполнились ужасом, он бросился лицом в колени матери и зарыдал. Мать принялась гладить и успокаивать ребёнка. Через несколько минут плач утих, и вагон вздохнул с облегчением. Продолжения концерта не последовало.
Земеля поднялся с видом рыцаря, победившего дракона, сунул бутылку под мышку, подмигнул Сергею Ильичу и двинулся нетвёрдой походкой к тамбуру, задевая плечами переборки.
Напряжение в вагоне спало. Борина мамаша извлекла из многочисленных пакетов гору всяческой снеди и приступила к обеду. Сергей Ильич, который с минуты посадки в поезд не произнес ещё ни слова, тяжело вздохнул. Происшествие несколько отвлекло его от тяжёлых мыслей. Сидеть так до самого Белгорода было глупо. Ещё раз вздохнув, Сергей Ильич снял пиджак, галстук и ботинки и очень аккуратно, чтобы не помять брюки, улёгся спиной на свою верхнюю полку. Вагон покачивало, колёса монотонно отбивали такт, и вскоре Сергей Ильич уснул. И виделись ему разные сны. Но об этом чуть позже.
Объявление в вагоне-ресторане гласило: «Каждый первый понедельник месяца у нас проводится День качественного приготовления пищи». Был как раз первый понедельник октября, но, несмотря на столь заманчивое предложение, ресторан был почти пуст. Был занят только один столик, за ним сидел мужчина. Он появился здесь вскоре после отправления из Симферополя и с тех пор в одиночестве пил самый дорогой коньяк, который нашёлся в буфете, закусывая только ломтиками лимона.
Официантки Галина и Элеонора уже второй час пребывали в волнении. Причиной его и был тот самый посетитель за третьим столиком. Мужчина, пьющий коньяк, пусть и очень дорогой, не редкая птица в вагоне-ресторане. Но этот был особенным: это был мужчина Элиной мечты, и она ощущала это всем своим нутром. При одном взгляде на этого человека у Эли спирало в груди и начинали дрожать коленки.
Тут надо сделать небольшое отступление и рассказать читателю, кто такая эта Элеонора и почему ресторанный гость произвел на неё столь сильное впечатление.
Раньше Элю звали Леной, а чаще Леночкой, и жила она в Мелитополе. Леночка выросла без отца. Её родитель, родом из закарпатских поляков, ушёл из семьи, когда его дочка пребывала в самом нежном возрасте, и потому не оставил заметного следа в её жизни, как и в жизни её мамы, скромной работницы мелитопольского ОРСа. Красавец Казимир пронёсся сквозь их судьбы стремительно, как комета Галлея проносится через Солнечную систему, лишь слегка зацепив Землю своим элегантным газовым хвостом. Впрочем, небольшое наследство Леночкин папа за собой оставил. Оно включало в себя как вещи приятные и полезные, а именно: роскошные ярко-рыжие Леночкины кудри, горделивую осанку и редкое красивое отчество, так и мало подходящую к нашим вкусам, если не сказать совершенно непотребную, фамилию Гнида.
Напрасно мама объясняла Леночке, что ничего плохого в её фамилии нет и что она означает вовсе не то, что вообразили себе недалёкие люди, а происходит от старого славянского слова «гнiдий», означающего «темно-рыжий», «гнедой». И вообще эту фамилию надо произносить с ударением на второй слог. Все эти уговоры не избавили Леночку от насмешек и порождённых ими комплексов. Фамилия стала её проклятием. По понятным причинам школьные учителя избегали часто произносить фразу «Гнида, к доске», и оставленная их вниманием девочка получила образование более чем поверхностное. То же повторилось и в кулинарном училище, куда Леночка поступила после школы и которое окончила кое-как, «на троечки».
Сверстники мужского пола Леночку игнорировали, несмотря на её привлекательную внешность. Девушка пала духом, замкнулась в себе и лишь мечтала о совершеннолетии, когда советский закон позволит ей сменить фамилию. Целыми днями она листала газеты и журналы, но в содержание не вдумывалась, а лишь отмечала в них редкие и красивые фамилии, выбирала себе будущее. Впрочем, одну статью в журнале «Работница» Леночка прочитала внимательно. Там речь шла о том, как имя влияет на судьбу человека. Рассказывалось о людях, которые, сменив имя, изменили свою жизнь к лучшему. И Леночка решила: менять – так менять, не только фамилию, но и имя. Так вместо Елены Гниды на свет появилась Элеонора Казимировна Желанная. К отчеству у девушки претензий не было, его она оставила прежним.
Перемена имени оправдала себя в полной мере и очень скоро. В душе новоявленной Элеоноры проснулись амбиции, о которых Леночке и не грезилось. Теперь она претендовала на самое лучшее. Вместе с новыми запросами откуда-то появились ясность мышления и деловой подход, в голове сложился план, как это лучшее заполучить. План состоял из одного пункта: как можно скорее нужен мужчина, да не какой-нибудь, а особенный, способный лучшее обеспечить. Тут же сформировался список требований к потенциальному принцу. Он должен быть, во-первых, успешным, во-вторых, похожим на кинозвезду, и, в-третьих, жителем одной из двух столиц. Последний пункт казался Элеоноре наиболее важным: прозябать всю жизнь в Мелитополе она больше не собиралась.
Ожидать, что подобный кандидат сам явится в мелитопольскую заводскую столовку, где кухарничала после училища Элеонора Казимировна, не приходилось. И девушка проявила решительность и смекалку. Она устроилась официанткой в вагон-ресторан поезда, курсировавшего между Москвой и Крымом. Где же ещё ловить столичного мажора, как не там? В первый же рабочий день девушка додумалась прикрепить на грудь маленькую табличку – теперь такие называют бейджами, но тогда таких слов ещё не знали – на которой было аккуратно выведено фломастером её новое имя: Элеонора. На эту приманку должен был клюнуть будущий муж.
Первый месяц работы прошёл впустую. Если в ресторане и появлялись москвичи и ленинградцы без жён, то какие-то невзрачные, до высокой планки, установленной Элеонорой, не дотягивающие. Они пили пиво, ели котлеты и особого внимания не заслуживали. Но вот случилось чудо. В ресторан пришёл он, он был один и в нём трудно было не узнать с первого взгляда представителя того слоя общества, о жизни которого Леночка-Элеонора имела представление только из кино.
Высокий, осанистый, с идеальной стрижкой на голове, в элегантном костюме, сшитом явно не в СССР, в импортной рубашке с запонками, мужчина выглядел в замызганном интерьере вагона-ресторана инопланетным существом. Властное лицо и квадратный волевой подбородок говорили об упорстве и непреклонности. Кто он? – гадала девушка. Начальник? Артист? Партийный чиновник? Высокопоставленный военный? Неважно. Было очевидно, что этот человек – хозяин своей жизни и держит её в строгой узде.
Решительная Элеонора вдруг куда-то испарилась и в теле молоденькой подавальщицы вновь оказалась бедная Леночка, всё естество которой трепетало от магнетической силы, излучаемой альфа-самцом. Подавляя в себе инстинктивный страх, на ватных ногах она принесла мужчине заказанный коньяк, едва не уронив поднос от волнения. Если бы мужчине пришла в голову идея взять её за руку и повлечь за собой, она безропотно пошла бы следом, не спрашивая куда и зачем. Но тот был погружён в свои мысли и не обращал на девушку внимания.
Пил мужчина много, но держался прямо. Галина, женщина куда более опытная в амурных делах, чем Эля, и к тому же видевшая за годы работы в этом ресторане и больших начальников, и даже известных киноактёров, тоже не осталась равнодушной. Обычно с клиентами грубоватая, на сей раз она источала любезность. Не раз подходила она к столику, узнать, не требуется ли гостю ещё чего-нибудь, соблазнительно выпячивала грудь и постреливала в посетителя томными взглядами больших карих глаз.
Увы, все выстрелы отрикошетили в никуда, и все знаки остались без ответа: предмет внимания потребовал ещё коньяку, но вряд ли заметил, что его обслуживает уже другая официантка.
Из репродуктора поездного радио негромко звучал голос Аллы Пугачёвой: «Жизнь невозможно повернуть назад, и время ни на миг не остановишь», настраивая обитателей вагона на философский лад.
В двенадцатом вагоне наступила тишина и скука. У пионеров был тихий час, и обе вожатые ушли их утихомиривать. Их голоса доносились издалека. Остальные сидели молча. Молодой человек на верхней полке что-то записывал в блокнот. Кто-то спал, другие молча пялились в окна. С посадки в Симферополе не прошло и часа, но Андрею казалось, что вечность. Он следил, как за стеклом непрерывная нить проводов рисует причудливую синусоиду, то поднимаясь к верхнему краю оконного прямоугольника, то срываясь вниз. Это однообразное бесконечное колебание нагоняло тоску. После месяца жизни, наполненной событиями и впечатлениями, сидеть без дела было невыносимо. Андрей подумал, что ещё целые сутки ему предстоит видеть этот нескончаемый бег проводов.
Он представил себя во чреве гигантского животного, бегущего по степи. Ритмичный стук колёс – как мерное биение его железного сердца, которое на стрелках срывается аритмией, а синусоида проводов – кардиограмма. Словно в ответ на его мысли стальной зверь издал призывный вопль – это машинист потянул ручку гудка. Снаружи тянулся унылый и безлюдный степной пейзаж.
Когда-то эти земли были истоптаны тысячами лошадиных копыт. Столетиями орды незнакомцев с суровыми бородатыми лицами, целые племена и народы, приходили в эти степи издалека, с востока и с запада, чтобы оставить потомкам разнообразные искусные артефакты, скрытые сейчас под тонким слоем земли. Все эти люди давно умерли, и их кости гниют в многочисленных курганах под сухими травами.
«Для вас – века, для нас – единый час», – вспомнилось Андрею, и он вдруг подумал, что эти строки обрели сейчас новый смысл. За час, не больше, пробежит поезд сквозь эти пространства, под которыми спрятаны свидетельства многих веков существования человечества. Пройдёт немного времени – полвека или чуть больше – один миг в масштабах истории, и на Земле не будет больше ни Андрея, ни Пшеничных Усов, ни этого спящего человека в рыжих брюках, ни даже Заевшего Мальчика, словом, никого из тех, кто сел сегодня в поезд, а эти степи всё так же будут залиты солнцем, как сегодня и тысячу лет назад. И уже другие бородатые люди будут выкапывать из земли следы прошедших жизней.
Жизнь – это машина времени с неработающей задней передачей. Но мы, современные люди, научились обращаться со временем запанибрата. Мы, чей срок так ничтожно мал, что в большой книге всемирной истории уложится в пару строк, умеем, благодаря книгам, фильмам, музеям и прочим достижениям цивилизации, переноситься мысленным взором на тысячелетия назад и заново проживать судьбы тех, кого давно нет с нами. Мы так привыкли это делать, что и не задумываемся, сколько миллиардов отдельных жизней утекло с тех пор, сколько личных драм, трагедий и комедий кануло в безвестность, и только единицам повезло оставить свои имена в памяти потомков.
А ещё Андрей подумал, что надо бы писать историю не как принято, то есть от древности к современности, а наоборот: начиная от сегодняшнего дня углубляться в прошлое, шаг за шагом докапываться до корней и причин нынешних событий. Может быть, тогда люди научатся наконец извлекать уроки из прошлого.
Всё это Андрей надумал от скуки. Вырванный из привычного ритма и заключенный на сутки в железную коробку, он почувствовал себя брошенным и одиноким. Никто из попутчиков не проявлял желания общаться.
За полтора часа пути Андрей ещё ничего не узнал об этих людях – даже их имён. Кто они? Куда и зачем едут? Знакомство состоится позже. Но тебе, читатель, я уже готов кое-что рассказать о них. Ведь это я, автор, извлек их из тайников своей памяти и собрал в этом поезде.
Паренька на верхней полке звали Сергей Георгиев. Он имел биографию, на первый взгляд ничем не примечательную. Вырос Сергей в Севастополе в семье морского офицера немалого ранга. Военную карьеру его отца, обещавшую многое, прервал несчастный случай – взрывом на корабле ему оторвало ногу, и теперь инвалид, списанный со службы, доживал свой век, председательствуя в ветеранской организации. Мама Сергея работала стенографисткой при штабе флота. Морское будущее парня было предопределено, и он оправдал ожидания семьи. Отслужив после десятилетки в армии, Сергей нанялся матросом на рыболовецкое судно и каждый год, в путину, выходил на несколько месяцев в море ловить ставриду. Сходя на берег, работал в порту. Так прошло пять лет.
Уволившись с корабля после очередной путины, Сергей получил на руки такую характеристику: «Во время службы матрос Георгиев показал себя хорошим специалистом. Любит выпить и появляться на работе в нетрезвом виде. К спиртным напиткам устойчив. Опрятен, вежлив. Морской болезнью не страдает. К порученному делу относится ответственно. Имеет взыскания за неоднократные нарушения трудовой дисциплины. Участвует в политической жизни судна. Имеет два привода в милицию за драку. Повышает свой культурный уровень. Регулярно пишет статьи для судовой стенгазеты. С положительной стороны характеризуется отрицательно».
Да, читатель, Сергей был обычным советским моряком. Очень далёким от идеала, каким его изображали в книгах и фильмах, но и не безнадёжно пропащим. Пил, волочился за девчонками, дрался иногда, как и все, но на работе не филонил и честно давал стране рыбы. Впрочем, была у него ещё одна, тайная, жизнь, о которой не знало не только начальство, но и близкие приятели. Вышло так, что морские боги по какой-то своей прихоти наделили этого простого севастопольского паренька писательским талантом большой силы. Юношей, прочитав «Морские рассказы» Станюковича, Сергей решил, что будет писать книги о моряках. С тех пор он не расставался с блокнотом и карандашом. Парень оказался сметлив и наблюдателен. Он умел впитывать ощущения жизни, пропускать их через себя, подмечать и точно описывать детали. Для того он и ходил в море – набираться впечатлений и знаний о рыбацкой жизни. Даже самые близкие – отец и мать – не ведали до поры, что их непутёвый сын ночами, после работы в порту, пишет повесть о черноморских рыбаках.
С начинающими авторами такое случается нечасто, но первое же творение Сергея было замечено в литературном мире. Молодому автору помог отец, а точнее – его авторитет в ветеранских кругах. Знакомый со многими военными моряками, отец Сергея показал повесть Николаю Васильевичу Гоголю – редактору журнала «Морской вестник», адмиралу в отставке и полному тёзке классика. Журнал этот беллетристики не печатал, и адмирал не был литератором, но, видно, имя к чему-то обязывало, и он смог по достоинству оценить рукопись Сергея. Старый моряк уловил в ней биение настоящей, не книжной жизни, хорошо ему знакомой по службе. И рекомендовал повесть другу – многократно орденоносному советскому писателю, обласканному властью и осыпанному почестями.
Именитый писатель был главным редактором одного из литературных журналов на Юге России. Незадолго до этого друг-редактор получил Государственную премию за роман-эпопею о династии строителей, героически возводивших жилые дома в условиях Крайнего Севера. Роман назывался «Квадратный метр». В главной партийной газете страны вышла хвалебная статья, в которой писателя называли «мэтром социалистического реализма». Газета советовала молодым литераторам учиться у него мастерству отображения жизни. Лауреату признание заслуг пришлось по душе, но он, конечно, не знал, что подчиненные «мэтра», сотрудники журнала, за глаза окрестили своего патрона Квадратным Мэтром – редактор был мал ростом и очень широк в талии.
Мэтр рукопись Сергея прочитал – и схватился за голову. Отказать заслуженному другу-адмиралу было неловко, но и печатать повесть в таком виде не представлялось возможным. Нет, она не была плоха, это редактор понял с первых страниц. Да и сюжет оказался вполне типичным для советской литературы – моряки, рискуя жизнью, в суровый шторм спасают других моряков, терпящих бедствие. Дело было в другом: реализма в тексте нашлось в избытке, но он был каким-то не социалистическим. В свободное от подвигов время герои повести вели себя неправильно: пили водку, матерились, вступали в случайные половые связи, ссорились, влипали в истории, убегали от милиции и не беспокоились ежеминутно о выполнении плана улова. И главное: в рукописи не было и намёка на руководящую роль партии. Времена «оттепели», когда некоторым авторам позволялось изображать жизнь, как она есть, были далеко в прошлом, а на носу – 65-я годовщина Великого Октября.
Почесав в затылке, редактор принялся, чтобы не обижать друга, лично доводить повесть до ума. Когда Сергей получил на утверждение правленый текст, он не узнал своего произведения. Редактор отшлифовал его до зеркального блеска. Правки превратили живое дерево в телеграфный столб без следов сучков – такой образ придумал когда-то Борис Стругацкий. Герои повести остепенились, прекратили бузотёрить и заговорили языком газетных передовиц. Откуда-то возник новый персонаж – помощник капитана по политчасти, он и стал главным героем. Теперь моряки спасали своих товарищей не безыдейно, но под чутким руководством политрука.
Теперь рукопись охотно взял бы любой литературный журнал Советского Союза. Но из неё куда-то испарился характерный авторский стиль – лёгкий, озорной, с нотками самоиронии: ведь Сергей писал о тех, кем был он сам. Правленый текст стал удушающее серьёзным и тяжеловесным, как фигура самого Квадратного Мэтра. Это была чужая повесть.
У Сергея будто вырвали кусок плоти, отобрали у него часть жизни, которой он жил последние годы. Охолощенный текст он не подписал. Вместо этого он уволился с работы и взял билет до Мурманска. Уйти матросом в штормовое северное море, зимой, когда безжалостный ветер сводит с ума и каждый шаг по обледеневшей палубе это смертельный риск, – только так, думал Сергей, можно пережить жестокое разочарование. Так он оказался в двенадцатом вагоне.
Поезд подходил к Джанкою. Несколько минут до остановки, и есть ещё время сказать пару слов о том молодом брюнете, что сидит молча на нижней боковой и неотрывно глядит в окно.
В отличие от Сергея, чей талант пока оставался невостребованным, Эдуард Айрапетян – так звали этого парня – к своим двадцати пяти годам уже хлебнул славы полной ложкой. Он был спортсменом, да не рядовым, а ни много ни мало чемпионом мира и СССР по парашютизму. Шутят, что если с первого раза не вышло – парашютный спорт не для вас. С Эдиком все случилось наоборот. Ещё подростком он записался в парашютную секцию ДОСААФ, и первый же прыжок окончился для него серьёзной травмой ноги. Но это не отвратило парня от неба. Он сразу понял, что там и есть его настоящая жизнь. Секунды свободного падения наполняли её ни с чем не сравнимыми эмоциями. Шло время, росло мастерство, увлечение переросло в профессию, и чувство восторга от полёта притупилось и стало привычным. Но по-прежнему перед каждым прыжком сердце Эдика сладко замирало от предвкушения чуда.
Несмотря на говорящую фамилию, Эдик был не сыном армянского народа, а скорее, его пасынком. Родился он в Ростове-на-Дону и языком предков не владел, впрочем, как и его отец и дед. Кочевая жизнь профессионального спортсмена дала ему возможность увидеть мир, но до родины своих праотцов, Армении, он так и не добрался. Да и по характеру своему он мало напоминал своих соотечественников, какими их привыкли считать северяне. Поэтому и принял его Андрей сначала за коренного жителя крымских гор. Эдуард был сдержан, даже замкнут, немногословен, экономен в жестах и мимике. Познавший не на словах величие неба на дела земные смотрит несколько свысока. Вот и Эдуард был не обидчив, как истинные южане, снисходителен к окружающим, и вывести его из равновесия стоило многих трудов.
Была в этом парне врожденная, непонятно откуда взявшаяся интеллигентность. В общении он был вежлив и доброжелателен, конфликтов избегал и бранные слова, в отличие от большинства своих сверстников, если и употреблял, то только в чрезвычайных обстоятельствах, когда обойтись без них невозможно. Да и в этих редких случаях он предпочитал посылать собеседника по адресу, известному всем носителям русского языка, исключительно на «вы».
Впрочем, Андрей оказался не так уж далёк от истины. Предки Эдуарда, как и большинства представителей армянской общины Ростова-на-Дону, были когда-то переселены туда Екатериной Второй именно из Крыма. Повзрослев и завоевав главные спортивные титулы, Эдик захотел увидеть землю, вырастившую его род. Сейчас он возвращался оттуда, наполненный возвышающими душу переживаниями. Он неторопливо пил чай и вглядывался в просторы за окном, где в растрескавшейся от зноя почве покоились кости его предков. Поезд подходил к Джанкою.
Джанкой. Вокзал
В Джанкое Андрей вышел на перрон размять ноги. Там его внимание привлек невысокого, если не сказать маленького, роста молодой человек, кативший по платформе огромный, почти с него размером, черный чемодан на колёсиках – редкая по тем временам вещь. Ещё примечательнее был сам парнишка, точнее, его одежда. Он был одет по советским меркам очень дорого, но при этом безвкусно и вызывающе крикливо. Все предметы его гардероба были заграничными и отличного качества, но категорически не сочетались друг с другом. Вельветовые штаны цвета морской волны спорили с оранжевыми ботинками на очень высокой, уже вышедшей из моды платформе. Двубортный пиджак в красно-коричневую клетку никак не хотел гармонировать с батником в лимонных разводах. Всё это увенчивала непривычная ещё в те годы красная бейсболка. Двадцатью годами ранее подобным образом одевались стиляги, но в этом случае ни о каком стиле не могло быть и речи. У Андрея тут же нашлось для парня подходящее прозвище – Фарс-Мажор.
Если бы Сергей Ильич проснулся и выглянул в окно, то он с удивлением узнал бы в Фарс-Мажоре того самого спекулянта, у которого он купил накануне лакированные туфли. Ещё больше бы он удивился, если бы узнал, что в чемодане парня плотно уложены пятьдесят пар таких же штиблет.
В среде крымских фарцовщиков Фарс-Мажор, он же Александр Максименко, был известен как Шурик-Каптёр. С детства парень терпел насмешки сверстников из-за малого роста, но сумел компенсировать этот недостаток выдающейся предприимчивостью и пронырливостью. Призванный родиной исполнять воинский долг, он сумел занять хлебную должность каптёра, и она стала началом его будущей карьеры спекулянта. Уходя на дембель, Шурик сумел прихватить с собой несколько комплектов обмундирования, офицерские фуражки и прочую армейскую дребедень, которая мало полезна в быту, но зато имела хороший спрос у иностранцев. Возле гостиницы «Интурист», незадолго до того открытой в Ялте, начинающий «утюг» обменял армейское барахло на поношенные заграничные шмотки и так приобрёл стартовый капитал. Впрочем, он не любил называть себя фарцовщиком или спекулянтом, а предпочитал именоваться бизнесменом. Это слово наполняло его чувством самоуважения и позволяло забыть про малый рост.
Дело шло хорошо. За полгода Шурик наладил сбыт вещей на рынках Симферополя и Южного берега, заработал кучу денег и приобрёл авторитет в спекулянтских кругах. Он обзавёлся «фюрой», то есть иностранной валютой, модно приоделся, как было описано выше, приобрёл те самые оранжевые ботинки на платформе и стал поглядывать на бывших одноклассников свысока в прямом и в переносном смысле.
Но потом предприятие стало давать сбои. Перед московской Олимпиадой «серые пиджаки» устроили у «Интуриста» облаву. На первый раз Шурик отделался профилактической беседой, но попал оперативникам на карандаш. Когда Шурика «свинтили» с товаром во второй раз, был составлен протокол, и статья 154 УК Украинской ССР «Спекуляция» засветила над нашим героем путеводной звездой. Ему удалось откупиться, дело окончилось пустяковым пятидесятирублёвым штрафом, но предприятие становилось рискованным, и Шурик задумался о бизнесе менее публичном и более солидном. Он стал оптовиком.
Он разыскал в Джанкое подпольный цех, в котором крымские татары шили по западным лекалам мужские лакированные туфли. Шили их из всякой дряни, которая к натуральной коже не имела ни малейшего отношения. Шили плохо: туфли разваливались за две недели. Но зато они были чёрными и блестящими, как лунная ночь, и носили на себе лейбл известной итальянской фирмы. Обыватели охотно брали их по сотне за пару.
Бизнес Шурика снова пошёл в гору. Он скупал продукцию джанкойских умельцев оптом по сорок рублей за пару, продавал её через сеть распространителей на крымских рынках и имел сумасшедшую прибыль. Вскоре слава его торгового дома распространилась за пределы полуострова, и он стал получать заказы издалека. По одному из них Шурик и должен был выехать сегодня из Джанкоя восьмым скорым поездом. С собой он имел товар, купленный у татар за две тысячи рублей, половину из которых он занял под проценты у симферопольских торгашей. Оставалось доставить чемодан в Курск, получить за него пять тысяч наличными и – на свободу с чистой совестью и полными карманами.
Всё это я успел рассказать, пока Фарс-Мажор – пусть уж Шурик побудет Фарс-Мажором в этом поезде – катил свой огромный чемодан к шестому вагону, где он выкупил купе целиком. Но вот он уже погрузился, взгромоздил чемодан на верхнюю полку – никуда больше он не помещался – и поезд двинулся на север.
Джанкой – Мелитополь
Захрипела радиоточка, и из неё сквозь помехи прорезался бодрый голос Иосифа Кобзона: «И Ленин – такой молодой, и юный Октябрь впереди». Страна готовилась достойно встретить 65-ю годовщину революции, а после неё – 76-ю годовщину «дорогого Леонида Ильича». Спустя минуту радио закашляло и умолкло.
После остановки двенадцатый вагон постигла новая беда. Борина мамаша, только что закончившая обед, не удержалась от соблазна и сторговала на платформе джанкойского вокзала огромного размера копчёную рыбину, распластанную на две половины. Разложив трофей на столе – рыба заняла его целиком – женщина принялась неторопливо, с безжалостностью хищника отщипывать кусочки рыбьей плоти и отправлять их в рот. Так ягуар, который смог затащить пойманную антилопу на дерево, удобно устроить её в ветвях и теперь уверен, что жертва никуда не денется, не спеша поедает добычу. Движения женщины были механическими, застывший взгляд не выражал ничего, даже удовольствия, как будто она делала постылую, но необходимую работу.
Вагон наполнился пронзительным рыбным запахом. Он был настолько густым и едким, что сразу вытеснил собой уже привычные запахи человеческих тел, скисшего пива и затхлости. Всё вокруг: одежда, постельное бельё, волосы, багаж, переборки, занавески, стаканы с чаем, казалось, что и пейзаж за окном, – запахло копчёной рыбой. Сергей Ильич заворочался во сне. Ему грезилось, будто он проваливается в зловонную яму, наполненную рыбьими потрохами.
Вновь проснулось радио, наполнив задыхающийся от рыбного духа салон бодрым и звонким голосом. «Птица счастья завтрашнего дня прилетела, крыльями звеня», – пел свой модный шлягер Николай Гнатюк. Звучало это как издёвка.
Андрею приходилось бывать в электричках, шедших в воскресный день из столицы в Ярославль. О таких тогда шутили: «Длинное, зелёное с жёлтой полосой, пахнет колбасой». Но нынешнее испытание оказалось куда суровее. Ламцадрица заперлась в своем купе, два десятка пассажиров ринулись в тамбур. Андрей сунулся было туда же – в тамбуре висел табачный дым такой густоты, что щипало глаза. Андрею пришло в голову, что таким и должен быть один из кругов ада: пусть грешник сам выбирает, задыхаться ему от дыма или от смрада. Временное убежище Андрей нашёл возле туалета. Делал вид, что его интересует инструкция по противопожарной безопасности, висящая на стене. Закачивалась инструкция загадочными словами: «Выполнение правил пожарной безопасности – гарантия возникновения пожаров».
Больше всего Андрей опасался тогда не пожара, а того, что соседка не доест рыбу и оставит часть на потом. Тогда остаток пути всему вагону придётся провести в атмосфере коптильного цеха рыбозавода. Но худшего не случилось: тётка умяла свою пайку целиком, вынесла объедки в мусорный бак, и вскоре воздух в вагоне очистился. Все вздохнули с облегчением, и мало-помалу ажиотаж, вызванный этой ароматической атакой, спал.
Снова накатила скука. Снаружи мелькали километровые столбы. Колёса монотонно отстукивали мгновения этого дня, будто счётчик такси. За окном показались серые гнилые воды Сиваша.
Читать не хотелось, и Андрей достал из рюкзака кубик Рубика – модную тогда в СССР новинку. Минут десять было убито на то, чтобы собрать одну его грань. Потом дело застопорилось: головоломка отказывалась подчиняться.
– Ух ты! – раздалось за спиной. Это Земеля появился, как обычно, неожиданно. – Классная штучка! Дай повертеть.
«Не отстанет ведь», – подумал Андрей и молча сунул кубик сержанту. Тот присел на край полки и быстро-быстро завертел пальцами с обгрызенными ногтями, окаймлёнными чёрными ободками грязи. Андрей делал вид, что читает. Опять потянулись томительные минуты.
Ситуацию спасла – да, да, не удивляйся, мой читатель – дружба народов, главное достижение социалистического образа жизни, как было написано во всех учебниках советской истории. Началось всё с Пшеничных Усов. Их обладатель молча лежал на животе на своей боковой полке, уставившись взглядом на Андрея. Его глаза ржавого цвета, казалось, не выражали никаких чувств, они были пустыми и холодными, как осенняя причерноморская степь. Но это впечатление оказалось обманчивым. Мужчина внимательно рассматривал изображение на футболке Андрея. Эту футболку с принтом картины Шагала отец Андрея привез из заграничной командировки.
– Это что же, евреи летают? – спросил, наконец, Пшеничные Усы. Не стану врать, дорогой читатель, я несколько приукрасил его речь. В действительности Пшеничные Усы употребил слово, которому было не место в лексиконе советского человека. Увы, «кто-то кое-где у нас порой», как пелось в известном фильме, позволял себе, как сказали бы сейчас, неполиткорректные высказывания.
Андрей хотел было возмутиться, но его опередил Сергей.
– Это картина «Над городом» Марка Шагала, французского художника еврейского происхождения, – пояснил он, выказывая неожиданную для простого моряка эрудицию. – Родом он из Витебска. И тут он изобразил своих соотечественников. Они евреи. А ты что, дядя, имеешь что-то против?
– Да нет, – ответствовал Пшеничные Усы, – я не против. Пусть летят. Пусть бы уж они все улетели… А то лезут из всех щелей, – продолжал бурчать со своей полки усатый антисемит. – Был у нас магазин как магазин. А теперь директор – Фельдман, бухгалтер – Фридман. А я, коренной сечевик, должен под их дуду плясать…
– Ты, папаша, Фельдмана-то не трожь, – встрял, не отрывая глаз от кубика, в разговор Земеля. – Служил у нас в полку майор Фельдман, зампотехом. Мужик настоящий, все его уважали. Офицеров мало оставалось, так он сам вызвался в рейд идти, хоть не его это дело было. И когда в засаду попали, погиб геройски, пацанов наших прикрывая. Ему орден дали посмертно. А ты говоришь – «магазин»… Получилось! – вдруг расплылся в улыбке Земеля, сунул Андрею собранный по всем граням кубик и куда-то убежал.
– А у нас в части, – добавил Серёга, – один слон к духу докопался: мол, фамилия у тебя неправильная и нос не тот. Так тут же от дедов в бубен получил и потом неделю по ночам сортир драил. Не любили у нас таких.
Эдик, сидевший до этого с отстранённым видом, тоже не выдержал:
– У нас все нации равны. Вот я – армянин, к примеру, – с гордостью заявил он. Хотя до сих пор о своём армянском происхождении он вспоминал нечасто, сейчас ему показалось важным его подчеркнуть. – К армянам претензии есть?
– К армянам нет, – пробурчал Пшеничные Усы, огорошенный таким дружным отпором. – При чём тут армяне… Армяне, я понимаю… народ полезный… Не то, что… – И он повернулся лицом к стене, давая тем самым понять, что дискуссия исчерпана.
На почве единства мнений по столь деликатному вопросу атмосфера в четвёртом купе изменилась. Холодок отчуждения куда-то исчез. Завязался разговор.
– У нас на судне был кок-армянин, – начал Сергей, обращаясь и к Эдику, и ко всем остальным, – и звали его Гамлет. Так вот он женился. Тоже на армянке, из Феодосии. И как думаете зовут его жену? Не поверите – Офелия.
Все прыснули.
– Да, наши любят такие имена, – усмехнулся Эдик. – Дядю моего друга школьного зовут Шекспир. Это имя, не фамилия. По паспорту он – Шекспир Самвелович Маркаров. Дома его звали Спиря. А я – Эдуард, – представился он наконец, и все обитатели купе тоже.
– А не выпить ли нам за знакомство чего-нибудь? – бросил клич Сергей.
– Заметьте, не я это предложил, – отреагировал Андрей цитатой из популярного фильма, который, правда, выйдет в прокат только через полгода после описываемых событий. С этими словами Андрей извлёк из рюкзака трёхлитровую банку домашнего портвейна, купленную перед отъездом у крымских аборигенов.
Тут бы и закончить этот эпизод мажорным аккордом, но я ещё должен сказать, что был в вагоне один человек, который слушал перепалку молодых людей с Пшеничными Усами с особым чувством. Это тот самый болезненный мужчина в длинном пальто из шестого купе. Фамилия его была Залкинд. Но не только поэтому этот разговор разволновал его и вынудил прибегнуть к валокордину. Почему так случилось и с какой целью он вообще оказался в этом вагоне, я расскажу позже.
Место номер три в пятом спальном вагоне занимала сорока с лишним лет женщина, примечательная во многих отношениях. Элегантный брючный костюм из джерси обтягивал её крупное, привыкшее к тяжёлому труду тело, более подходящее мужчине, чем женщине. Тонкой работы золотые серёжки спорили с небрежно прокрашенными каштановыми волосами и высокой аляповатой причёской. Золотые же кольца с камнями чужеродно смотрелись на пальцах грубых натруженных рук. Не первой молодости декольте украшали сразу несколько цепочек того же жёлтого металла. Дорогой и даже изысканный наряд выглядел на ней так, словно взят взаймы.
Женщину звали Маргаритой Николаевной. В кругах, в которых она вращалась в последние годы, её за глаза называли Королевой Марго, и тому была причина.
Впрочем, начнём с начала. В юности Марго именовалась просто Ритой. Отец её, кадровый военный, погиб под Смоленском в самом начале войны, а мама и бабушка умерли от голода и холода в блокадном Ленинграде. Вывезенная на большую землю пятилетняя Рита получила воспитание в детдоме. За это тридцать лет спустя государство выделило Маргарите Николаевне небольшую квартирку на окраине Москвы. В остальном жизнь её не складывалась. Мимолётный брак оставил ей маленького сына, но муж затерялся где-то на стройках народного хозяйства и не давал о себе знать ничем, кроме редких и ничтожных алиментов.
Карьера Маргариты тоже пошла не в гору, а под неё. Начала она неплохо – продавщицей молочного отдела в продовольственном магазине рядом с домом. Но в самом начале трудового пути случилась неприятность: внезапная проверка ОБХСС выявила в отделе недолив сметаны, к тому же разбавленной чуть более положенного. Обвешивали в магазине все без исключения, но списали всё на юную Риту – заступиться за неё было некому. За нарушение правил советской торговли её разжаловали в подсобные рабочие, а затем и вовсе определили в уборщицы. От такого труда руки Маргариты огрубели, на лицо легли ранние морщины, тело потеряло привлекательность и обаяние молодости исчезло навсегда.
Выжить вместе с растущим дитём на нищенскую зарплату в стране победившего социализма было непросто. Неизвестно, чем бы всё обернулось, если бы не соседская молодая семья. Аспиранты-гуманитарии, они страдали от извечно присущего интеллигентам чувства вины перед всем миром и возомнили себя народниками. Мать-одиночку они жалели и, презрев классовый барьер, опекали и подкармливали из своих тоже невеликих аспирантских доходов.
Но затем судьба исполнила пируэт и продемонстрировала, что в советской стране для человека труда все дороги открыты. Маргарита устроилась на работу в палатку вторсырья, и это место стало для неё Клондайком, а вторичное сырьё очень скоро обернулось золотом на её ушах, шее и пальцах.
Дело в том – поясняю я для молодого читателя, – что в те годы правительство придумало обменивать макулатуру на книги. В самой читающей стране, наполовину поросшей тайгой, с бумагой была напряжёнка, как говорила героиня фильма того времени. С книгами тоже. То есть магазины книгами были завалены под завязку, хоть печи ими топи, но народ их читать не хотел. А те, что он хотел – детективы, исторические романы, фантастику, литературу вечно загнивающего Запада, – покупали втридорога с рук. Некоторые – чтобы читать, другие – для украшения интерьера. Иметь в румынской мебельной стенке рядом с чешским хрусталём полку дефицитных книг было доказательством того, что жизнь удалась. Двухсоттомная «Библиотека всемирной литературы» стоила на чёрном рынке дороже «Жигулей».
Теперь за сорок килограммов старых газет и упаковочной бумаги давали талон на право покупки одной дефицитной книги. Из таких как раз и была «Королева Марго» Александра Дюма-отца, отсюда и пошло прозвище нашей героини. Макулатурные талоны стали разновидностью валюты: их продавали, покупали, ими обменивались. Нехитрые манипуляции с весом принимаемого и сдаваемого сырья позволяли приёмщикам самим стать обладателями талонов, которые были всё равно что деньги.
В считаные месяцы Маргарита преобразилась и расцвела, как природа весной. Она вошла в избранный круг торговой элиты микрорайона, которая оказалась сплошь библиофилами, и стала уважаемым человеком. Сам заведующий мясным отделом универсама называл теперь её по имени-отчеству. Дом её ломился от яств и шмоток, каковых в магазинах ни за какие деньги не купишь. Сын Риты из зачуханного недокормленного ребёнка превратился в жиреющего нагловатого подростка, способного в один присест сжевать коробку финских шоколадных конфет между обедом и ужином.
Маргарита Николаевна раздобрела, прибарахлилась и почувствовала себя хозяйкой жизни, но, к чести её, душой не очерствела и прошлое добро помнила. Частенько заходила она к соседям с примерно такими словами: «Я тут балычка-сервелатику принесла. Возьмите, покушайте, нам всё равно столько не съесть, пропадёт ведь». И даже позволяла иногда соседу-аспиранту рыться в сданной макулатуре в поисках редких изданий, которые жаждущие Дюма граждане тащили в палатку вторсырья. Но смотреть на соседей стала иначе, свысока, не как на ровню. Жалела их – ерундой занимаются…
Аспирант же был гораздо больше рад вторсырью, чем «балычку-сервелатику». Ему тогда удалось извлечь из Ритиной макулатуры первоиздания Ахматовой, Северянина и Кручёных и даже экземпляр зарубежного репринта скандального альманаха «Метрополь». Не говоря уже о полном комплекте книжек «Нового мира» времён Твардовского. Наверное, внимательный читатель уже догадался – да, этим аспирантом был я сам, ваш автор.
Итак, материальные потребности Маргариты были удовлетворены, и на первый план вышли потребности матримониальные. Иными словами, настало время подумать о муже. Это оказалось непросто. Товарный вид, важный для брачного рынка, был потерян, и даже золото не могло его заменить. Маргарита внимательно рассмотрела местных товароведов, мясников, продавцов из мебельного и прочих воротил теневого рынка, за ними – пожарных инспекторов, офицеров милиции и работников санэпиднадзора. Все они оказались либо безнадёжно женаты, либо столь же безнадёжно примитивны. Всё же общение с нашей семьей не прошло для Риты даром, она не желала опускать планку ниже нынешнего уровня и составила чёткое представление о своем идеале.
Маргарита мечтала о военном, крепком и надёжном, который не только будет хорошим мужем, но и заменит её погибшего отца. С такими мыслями она взяла отпуск и отправилась в Крым. Отдых прошёл впустую. Но на обратном пути, в Джанкое, в её купе явился он – высокий, широкоплечий, с волевым лицом, командирским голосом и идеальной выправкой. Ну «настоящий полковник», как пела Алла Пугачёва, правда лет на пятнадцать позже.
Интересна ли жизнь закоренелого вора? Казалось бы, на этот вопрос уже дан ответ в известном фильме: «Украл, выпил – в тюрьму!», и добавить к этому нечего. Нет, дескать, в воровской жизни никакой романтики. Так-то оно так, но поездной вор Валентин Горелый будто специально явился на свет, чтобы доказать, что из любого правила есть исключения.
Валентин был необычным вором. С криминальным миром он не имел никаких связей, воровских «малин» не посещал и даже не знал, где они находятся. С перекупщиками краденого не знался и привычного в этой среде «погоняла» не имел. Он был вор-одиночка и при этом весьма ловкий. Своё непочтенное ремесло он превратил в высокое искусство, и жизнь его оказалась полна азарта и приключений. Вопреки своей фамилии за почти пятилетнюю карьеру Валентин не погорел ни разу, хотя ориентировки на него и фоторобот имелись во всех вокзальных отделениях и у всех поездных милиционеров Советского Союза.
Дело в том, что Валентин в своем деле был артистом, и не только в переносном, но и в прямом смысле этого слова. Он обладал удивительными способностями к перевоплощению, и эта особенность, отличающая его от обычного щипача, делала его неуловимым. С одинаковой естественностью он изображал из себя сибирского вахтовика-нефтяника и столичного профессора, узбекского дехканина, везущего дыни на базар, и депутата провинциального горсовета, спешащего на совещание в областной центр. Валентин не просто изображал их, но, как отличный актёр, вживался в очередной образ и на время становился одним из привычных людских типажей многоликой страны. А профессиональное владение гримом, парики, накладные усы и бородки, имевшиеся в арсенале, делали образы совершенными. К этому надо добавить, что Валентин был человеком начитанным и мог поддержать разговор на любую тему: от квантовой физики до особенностей разведения мериносов.
Правоохранители сбивались с ног, разыскивая Валентина, но тщетно. Свидетели и потерпевшие давали разноречивые показания. Одни описывали его как чернявого коренастого мужчину лет тридцати с кавказским акцентом, другие утверждали, что он высокий сухопарый и седой старик, акающий по-московски, третьи и вовсе несли такую чепуху, что милиционеры хватались за голову.
Конечно, Валентин – он был весьма неглуп – понимал, что рано или поздно его поймают и посадят. Но занятие своё не бросал и раз за разом выходил охотиться в различных поездах большой страны. Дурачить благопристойное общество своими метаморфозами стало для него разновидностью наркотика. С этим обществом у него были свои счёты.
С детства Валентин выступал на сцене. Сначала на детских утренниках и школьных спектаклях, потом в драмкружке Дворца пионеров и театральной студии при Доме культуры. В четырнадцатилетнем возрасте он снялся в нашумевшем кинофильме о подростках, и имя Валентина Горелого прогремело на всю страну. Ему прочили блестящее актёрское будущее. Но судьба распорядилась иначе.
Как написали годы спустя в статье о том самом кино, «из всех школьников, участвовавших в фильме, только трое стали артистами кино, остальные по окончании школы стали настоящими людьми».
На собеседование в театральную школу старейшего московского театра Валентин шёл заранее уверенным в успехе. Не заметить его выдающихся способностей мог только слепой, а члены приёмной комиссии все без исключения были зрячими. Но они оказались в неловком положении. Мало того, что в тот год на курс поступали сразу двое сыновей влиятельных театральных деятелей, так ещё и директор магазина «Океан» возжелал, чтобы его дочь обучилась актёрскому ремеслу. Мельпомена, конечно, Мельпоменой, но и балычок с икоркой ещё никто не отменял, знаете ли. Пришлось отказать этому симпатичному и талантливому парню.
Другой бы на его месте не сложил руки и добился бы своего. Но Валентин озлобился на весь свет и решил ему мстить. Он стал искусным и неуловимым вором. Так он доказывал самому себе и окружающим, что в актёрстве он лучший.
Были у вора Валентина и свои принципы. Сшибать кошельки небогатых пассажиров плацкарта и тырить их чемоданы он брезговал. Обитателей купе трогал тоже редко. Валентин предпочитал работать в спальных вагонах, где ездили жирные коты, хозяева жизни. Дело было не только в деньгах, которые у них водились, но и в том, что именно таких людей Валентин считал виновниками несовершенства бытия. Он мнил себя Робином Гудом.
Вот и в описываемый мною день Валентин сел в поезд в Джанкое, имея билет на место номер 4 в вагоне СВ. В этот раз он был в образе полковника в отставке, а может, даже и генерала. Соседкой его оказалась не первой молодости тётка мужиковатого телосложения, с большими сильными руками и огрубевшим лицом, сохранявшим, правда, следы былой миловидности. Женщина была одета вызывающе дорого, обвешана золотыми украшениями, и охотничий нюх Валентина учуял законную добычу. Такое честным трудом не заработаешь, решил он, пощипать барыгу – дело святое. Зверь сам шёл на ловца.
Ничто так не сплачивает любой коллектив, как разумная доза домашнего крымского портвейна, сладковатого и маслянистого. Когда трехлитровая банка этого волшебного напитка опустела на четверть, от первоначальной скованности обитателей Андреева купе не осталось и следа. Начало положил Эдик. Он произнёс длинный и витиеватый тост, умело копируя при этом кавказский акцент, и закончил довольно смешной шуткой. Девушки засмеялись, а Эдик церемонно заложил руки за спину, ухватил свой стакан зубами за край и так, запрокинув голову, выдул его целиком. Все зааплодировали. Атмосфера в купе теплела с каждым глотком вина. Развязались языки. Серёга сыпал остротами и выдал серию сальных анекдотов. Девушки сначала хихикали смущённо, но вскоре освоились и смеялись уже в голос. Затем инициативу перехватил Андрей – если надо, он умел быть душой компании – и рассказал пару забавных баек из жизни археологов. Обе Наташи, перебивая друг друга, принялись вспоминать весёлые истории из своего артековского лета. Поездная жизнь входила в правильную колею.
Наташа – та, что потемнее – принесла из пионерского отсека гитару и спела песню Новеллы Матвеевой. Пела она тепло, с душой, и Андрей пригляделся к ней повнимательней. Девушка была хороша: её темные локоны красиво обрамляли правильной формы лицо, в глазах мелькали озорные искорки, а лёгкий загар лишь подчёркивал гладкость кожи. Она была мила и оживлённа и поглядывала на Андрея с интересом.
Андрей попросил у неё гитару – дескать, и мы не лаптем щи хлебаем, петь тоже умеем – и исполнил гимн археологов и песню про древнего скифа. Он знал, что глубокий, с лёгкой хрипотцой тембр его голоса действует на женский слух безотказно. Затем, чтобы закрепить эффект, спел «Чай» входившего в моду Гребенщикова. Свидетельством успеха стал брошенный как бы невзначай одобрительный взгляд серых Наташиных глаз, и в голову Андрея вдруг полезли игривые мысли.
Потом Андрей с Наташей пели дуэтом. Остальные слушали, одобрительно кивая и притоптывая в такт. Даже Пшеничные Усы в соседнем отсеке на верхней боковой развернулся лицом в их сторону, чтобы видеть исполнителей.
Не обошлось, конечно, и без Земели. Дембель возник в купе в ещё более расхристанном виде, чем прежде. Пару минут он, привалившись к переборке, слушал пение, затем сделал попытку отобрать у Андрея гитару, чтобы спеть про Афган. Гитару ему не дали, портвейна тоже не налили – и так хорош. Но намечавшегося было скандала не случилось. Земеля на удивление легко смирился с поражением и удалился в поисках других приключений.
На звуки гитары пришла и Ламцадрица. Ей плеснули портвейна, она присела рядом с Андреем и всем своим видом давала понять, что он ей интересен. Андрей почувствовал, как тяжёлое бедро проводницы всё плотнее прижимается к его собственному, и ощутил горячее дыхание возле своего уха. Его это не взволновало. Проводница больше не занимала его воображения, он во все глаза глядел на Наташу и ощутил легкий холодок в шее, который, наверное, чувствует охотник, напавший, наконец, на след долгожданной добычи. В своём обаянии он был уверен и приготовился к решительному натиску. Предстоящая поездка уже не казалась ему скучной.
Эх, молодость! Ты хороша, как вечеринка в прибрежном ресторане. Играет музыка, звучат шутки, красивые женщины бросают на нас призывные взгляды, и лёгкий ветерок с моря доносит прохладу и плеск волны. Вино льётся ручьём, и печень не проявляет признаков беспокойства. Ешь, пей, веселись на всю катушку, не теряй времени и не думай ни о чём – счёт принесут позже.
Тем временем поезд прибавил ход, и, словно подчиняясь ускоряющемуся ритму колёс, спонтанная пирушка в двенадцатом купе набирала обороты. О пионерах вожатые и думать забыли, и те, предоставленные самим себе, устроили какую-то шумную игру с беготнёй по коридору. Время от времени они с криками проносились мимо купе, где вовсю развлекались взрослые, но те не обращали на расшалившихся детей внимания. Сергей не забывал подливать вино в стаканы. Гитара пошла по рукам, и запело уже всё купе, и кто умел, и кто не умел тоже: веселье достигло той стадии, когда это уже никого не смущало. Дружно спели «Пора-пора-порадуемся на своём веку», затем «Пусть бегут неуклюже» – в пику Заевшему Мальчику. С подачи Серёги хором грянули про крейсер «Варяг». Потом ещё что-то и ещё. Андрей пел, пил и веселился со всеми, но теперь все его мысли были заняты другим.
Основной инстинкт, придавленный тяжёлой работой в степи и загнанный в дальний угол подсознания, вырвался на свободу. Невидимые мурашки желания пробежали по позвоночнику, щекоча кожу, и нескромные картинки в воображении Андрея сменились совсем уже откровенными. В глазах сидевшей напротив Наташи он углядел отблеск чего-то такого, от чего совершенно осмелел. Незаметно для окружающих, под столом, Андрей коснулся ногой Наташиной лодыжки и сделал недвусмысленное поглаживающее движение вверх. Наташа не отняла своей ноги, лишь выдохнула глубже обычного.
Не беспокойся, дорогой читатель, я вовсе не собираюсь свернуть этот рассказ в колею чистой эротики. Просто я привык описывать вещи такими, какими они были на самом деле. Не секрет, что многие из тех, кто знает о той эпохе из советского кино и книг, убеждены, что в СССР секса не было, а отношения между мужчиной и женщиной до брака имели исключительно романтический характер. Другого в кино не показывали. Но в моей повести всё будет так, как и должно было быть в таких обстоятельствах. Когда между молодыми людьми, надолго оторванными от дома, пробегала искра нескромного желания, гормоны брали верх над приличиями и традициями.
Я не знаю, как бы повернулся сюжет этой повести, если бы в этот самый момент из конца вагона, где резвились пионеры, не раздались громкие вскрики, а за ними детский плач.
– Это мои! – Наташа Тёмненькая вскочила с места и бросилась прочь из купе.
Выяснилось, что в азарте игры двое подростков столкнулись головами. Теперь у одного из носа текла кровь, на лбу другого набухала шишка, и у обоих слёзы лились ручьём. Девушкам-вожатым пришлось на время оставить вечеринку, чтобы привести подопечных в относительно пристойный вид: назавтра их предстояло сдать на руки родителям.
Пока Наталья сидела рядом, Андреем владело возбуждение. Теперь оно спало, и накатила усталость: ещё вчера Андрей ворочал лопатой землю, и это давало о себе знать. Однако расслабляться теперь он был не намерен – появились интересные планы на сегодняшний день. Взбодрить себя крепким кофе, пока Наташа занята пострадавшими детьми, – вот что стоило сделать. И Андрей отправился в вагон-ресторан.
Ламцадрица за портвейном уже успела рассказать сотрапезникам, что в поезде едут киношники и вечером, после закрытия вагона-ресторана, они будут снимать там какой-то фильм. Поэтому Андрей не удивился предсъёмочному ажиотажу в восьмом вагоне, где размещалась киногруппа. Коридор был заполнен галдящими и жестикулирующими людьми, и все они чего-то добивались от человека в модной водолазке и белой кепке, похожего как брат-близнец на режиссёра из фильма «Начало». Режиссёр мрачно смотрел в окно, не обращая внимания на подчинённых. Андрей с трудом протолкался через эту толпу в ресторан, который находился сразу за восьмым вагоном.
Почти все столики были свободны, только за одним восседал уже знакомый нам представительный мужчина, и обе официантки хлопотали вокруг него. Андрею не сразу удалось привлечь к себе их внимание. Минут через пятнадцать Эля всё же принесла кофе. Он оказался вкусным и крепким, и Андрей заказал ещё чашечку.
Вдруг распахнулась дверь со стороны восьмого вагона, и в ресторанный зал буквально влетела какая-то девица с озабоченым лицом. Увидев Андрея, она ойкнула и выбежала обратно в дверь, но через минуту вернулась, держа в руках фотокамеру. Следом за ней в ресторан вошёл режиссёр. Он был всё так же хмур.
– Вот, смотрите, Арсений Андреич, – вскричала девица, указывая на Андрея, – вот вам Семён. Ну чем вам не Семён?
И, наведя аппарат на Андрея, она часто-часто защёлкала кнопкой затвора.
Режиссёр стоял, набычившись, широко расставив ноги, и в упор разглядывал Андрея. Тот с удивлением глядел на режиссёра, и оба молчали.
– Может быть, – протянул наконец режиссёр, прервав немую сцену.
– В чём дело? – не выдержал Андрей.
– Извините, – сказал режиссёр и присел за столик, пока девица продолжала фотографировать Андрея во всех ракурсах. – Мы тут кино снимаем.
– Я догадался, – сухо ответил Андрей. – Но я-то тут при чём?
– Видите ли, такое дело… Произошла накладка, – пустился в объяснения режиссёр. – И только вы можете нам помочь. Актёр эпизода, понимаете, позволил себе лишнего…
Режиссёр начал вежливо и спокойно, но накопившееся раздражение взяло верх, и он перестал выбирать выражения:
– Напился, скотина, вдрабадан, с какими-то солдатом посторонним. У нас вечером съёмки, а он, зараза, «мама» сказать не может, мычит только. Вы по типажу подходите. Мы вам заплатим по расценкам.
– Вот как? И что же нужно делать?
– Да почти ничего! Просто сидеть, как вы сейчас сидите, и смотреть в окно. А когда я дам отмашку, вы встанете, положите руку на плечо человеку, который будет сидеть вот здесь, спиной к вам, и скажете… Как скажете – не имеет значения, мы всё равно потом переозвучим. Вы скажете…
Что именно нужно было сказать, Андрей так и не узнал. В дверях появилась чья-то всклокоченная голова и прокричала:
– Арсений Андреич, он это… Очнулся, кажется. Уже разговаривает. Говорит, могу играть. Я ему соды дал. Думаю, оклемается.
Оба – и режиссёр, и девица с фотоаппаратом – буквально выпорхнули из ресторанного зала, даже не взглянув на Андрея. Их появление и поспешное бегство напомнили Андрею о тех внезапных круговых вихрях, которые возникают в степи в хорошую погоду ниоткуда и, мгновенно пронесясь мимо, исчезают никуда. Недавно один из таких смерчей-малюток вырвал из рук начальника экспедиции и унёс в небеса генеральный план раскопа – плод работы всей команды за сезон.
Андрей усмехнулся. Он понял, что больше здесь не нужен, и пора возвращаться в свой вагон. Эля как раз принесла второй кофе. Андрей выпил его чуть не залпом, не почувствов вкуса, только слега обжёгши горячим язык, расплатился и… Но не тут-то было.
Раскрылась дверь противоположного тамбура, и в ресторан вошёл милиционер. Он внимательно посмотрел на мужчину в костюме, затем на Андрея и решительно направился к нему.
– Сержант Федоренко, – представился милиционер, поднеся руку к фуражке. – У вас паспорт с собой?
– Да, – машинально ответил Андрей. – А в чём дело?
– Пройдите, пожалуйста, со мной. Тут рядом, – вежливо, но твёрдо произнёс сержант.
– За что? – удивился Андрей.
– Не беспокойтесь. Всё в порядке. Будете понятым, – сержант говорил отрывисто, тоном, не терпящим возражений.
– Да что случилось? Объясните толком.
– Пассажир пропал. Наверное, отстал от поезда на остановке. Или на ходу выскочил. А может, выпал. Или его… Да мало ли что могло случиться? Чуть не полдня прошло, чемодан его здесь, а сам он нигде не объявлялся, – объяснил милиционер. – Я должен досмотреть багаж. Нужны двое понятых.
– Зачем? – искренне удивился Андрей. – Зачем досматривать?
Год назад, зимой, он сам едва не отстал от поезда. И теперь мысль о том, что, случись такое, кто-то будет рыться в его белье, была ему неприятна.
– Как зачем? А документы! Нужна ориентировка, в розыск объявлять, а кого – неизвестно. Может, человек не в себе… И вообще. А вдруг там что-нибудь запрещённое? Тогда надо запротоколировать.
«А если в чемодане бомба? – подумал Андрей. – Ведь может такое быть? Сам вышел незаметно, а бомбу оставил в чемодане. Каково?»
Андрей задумался. К началу восьмидесятых число терактов в СССР стало пугающе большим. Чаще всего пытались угонять самолёты. Но не только. Москвичи хорошо помнили о недавних взрывах в метро и такси. Слышал Андрей и о подрыве трамвая в Челябинске год назад. О таких вещах не писали в газетах и не говорили по телевизору, но слухи всё равно расползались по стране, да ещё и обрастали выдуманными подробностями. Андрей вынужден был признать, что милиционер, пожалуй, прав – осмотреть багаж пропавшего необходимо.
Больше всего в этот момент Андрею хотелось поскорее вернуться в своё купе, к Наталье и новым друзьям. Он и так уже отсутствал там куда дольше, чем планировал. Да и мысль о возможной бомбе не добавляла желания идти на досмотр каких-то подозрительных вещей. Но делать было нечего – предстать трусом перед самим собой Андрей не мог. И он кивнул в знак согласия. В конце концов, лишние пять минут делу не повредят, решил Андрей.
– Эля, иди-ка за мной, – позвал милиционер официантку, и все трое вышли из ресторана.
Пятью минутами дело не ограничилось, хотя далеко идти и не пришлось. Сержант привёл понятых в проводницкое купе седьмого вагона. Там на столике лежал потёртый вишнёвый чемодан из дешёвого кожзаменителя, который тогда называли дерматином. Чемодан был закрыт на молнию и обтянут двумя ремнями с пряжками. Прежде чем открыть его, сержант уселся заполнять протокол осмотра, вписывать туда данные понятых. Писал он медленно, аккуратно выводя буквы. Андрей нетерпеливо притоптывал.
Наконец с формальностями покончили, и милиционер расстегнул молнию на чемодане. Андрей инстинктивно прикрыл глаза, вспомнив о возможной бомбе, но, конечно же, никакой бомбы в багаже не оказалось. Документов там тоже не было. А был обычный для советского командировочного набор вещей: бельё, носки, пара рубашек, бритвенный прибор, кусок мыла, рулон туалетной бумаги, кипятильник и прочая незамысловатая ерунда. Единственное, что выбивалось из этого ряда – это лежащая на дне редкая книга: издание 1929 года «Искусства кино» Льва Кулешова. Андрей, конечно же, слышал об «эффекте Кулешова», и в других обстоятельствах это букинистическое издание он с удовольствием полистал бы. Но сейчас ему не терпелось вернуться в свой вагон.
Ещё несколько минут, и потокол был подписан. Андрей вздохнул с облегчением и открыл дверь ресторана. Там его ждало очередное препятствие. К знакомой уже мизансцене с мужчиной в костюме и официанткой Галиной добавился сержант Земеля. Он сидел с расстроенным выражением небритого лица за крайним столиком, вертя в руках какой-то металлический предмет. Галина, уперев руки в бока, нависала над ним, как разгневанная Валькирия, и что-то громко выговаривала. Сразу было понятно, что происходит скандал, и виновник его – дембель.
Выяснилось, что Земеля, блуждая по вагонам, ухитрился так дёрнуть ручку двери ресторанного тамбура, что вырвал её «с мясом». Язычок замка заклинило, и открыть дверь теперь не получалось. Нужны были инструменты. Проход в двенадцатый вагон для Андрея был пока закрыт.
Эля побежала за милиционером. Тот вызвал по рации некоего Алихана. Этот самый невидимый Алихан долго препирался с сержантом, используя неодобряемые в обществе русские выражения, но расцвеченные витиеватым восточным колоритом. Голос из рации упирал на то, что дел у него и так невпроворот, и чинить дурацкие двери, которые ломают безрукие идиоты, не его забота. Потом рацию у милиционера вырвала Галина. Несколько минут она в тех же выражениях, но с добавлением малороссийской специфики, объясняла Алихану, что и как именно она с ним сделает за срыв плана выручки вагона-ресторана. Андрей слушал с интересом, он расширял свой этнографический и лингвистический кругозор.
Вся эта катавасия заняла ещё минут двадцать, пока не пришёл наконец Алихан, злой, как абрек, промахнувшийся в кровника, но с нужными инструментами. Вскоре путь был открыт, и Андрей поторопился покинуть злосчастное заведение железнодорожного общепита.
В коридоре восьмого вагона было ещё более оживлённо. Люди сновали туда-сюда с озабоченным видом. Режиссёр и девица с фотоаппаратом яростно о чём-то препирались. Андрей с извинениями протиснулся между ними, при этом они не обратили на него ни малейшего внимания.
Едва войдя в свой двенадцатый вагон, Андрей услышал звуки продолжавшегося веселья, среди которых выделялись звонкие голоса обеих Наташ. Подхваченный волной воодушевления, Андрей добежал до своего купе, и тут его ждал неприятный сюрприз.
За столом, уставленным стаканами, были всё те же лица: две Наташи, Ламцадрица, Сергей, Эдик, но диспозиция заметно изменилась. Рядом с Натальей Тёмненькой сидел Сергей. Да не просто сидел, а обнимал её за талию. Голова Наташи – той самой Наташи, которую Андрей мысленно уже назвал своей – недвусмысленно покоилась на Серёгином плече. Лицо девушки раскраснелось.
Что произошло за то время, пока Андрей отсутствовал в купе, неизвестно. Он был озадачен и даже почувствовал себя обиженным. Первым его побуждением было – действовать: включить всё своё обаяние, всё своё красноречие, затмить соперника, уничтожить его и вновь завоевать внимание девушки.
Случись такое двумя-тремя годами раньше, он бы ни секунды не колебался. В амурных делах он привык добиваться цели во что бы то ни стало и сметать соперников с пути без раздумий. Чаще всего это удавалось, а редкие неудачи он переживал как болезненный удар по самолюбию. Но в последнее время что-то в его душе изменилось. Возможно, Андрей просто повзрослел. Жизнь уже успела научить его, что побед без поражений не бывает. Победа не даёт ничего, кроме кратковременного чувства удовлетворения. Поражение же заставляет искать новые пути.
Конкурировать с Сергеем ему не хотелось особенно – к этому парню Андрей чувствовал безотчётную симпатию. Почему, он и сам не смог бы объяснить. Столичный аспирант и крымский рыбак, они принадлежали к разным мирам, но было нечто, что делало это различие несущественным. Так люди, имеющие врождённое представление о достоинстве и наделённые способностью не поддаваться общему течению, узнают друг друга в толпе. И Андрей, наверное, впервые в жизни, решил отступить и выйти из боя.
Сюжет этой повести мог повернуться иначе, будь Андрей понастойчивее. А так его место у трона прекрасной Натальи занял Серёга. Эдик же подсел поближе к Наташе Светленькой и выразительно поглядывал на неё своими карими глазами, сияющими и бездонными, как ночное небо. Страсть и печаль бесчисленных поколений армянских предков отражались в этих взглядах.
Короче говоря, Андрей оказался не у дел.
Блеск красивых Эдиковых глаз не ускользнул от внимания Ламцадрицы, уже изрядно разгорячённой портвейном. Её женское самолюбие грыз червячок досады от того, что Андрей проигнорировал посылаемые ему знаки приязни.
– Эдуард, – промурлыкала она грудным голосом, стараясь копировать бархатистые интонации Татьяны Дорониной, – вы такой загадочный, многозначительный. Молчите, смотрите так выразительно. Как тот человек… из кино… ну, помните, мы в школе про него учили…
– Печорин, – подсказал Сергей.
– Ага, Печорин… Расскажите же что-нибудь о себе. Кто вы, куда едете?
– Я спортсмен, – скупо отвечал Эдик. – Мастер спорта по парашюту. Сейчас в отпуске.
– Вы парашютист? – воскликнула Наташа Светленькая и взглянула на Эдика с удвоенным интересом. – Как романтично!.. И опасно! Расскажите же, что вы там чувствуете. Каково это: парить в небе, как птица!? Смотреть на землю свысока!
– Ничего романтического. Режим, тренировки, укладка… Работа как работа, – пробурчал Эдик и, конечно же, покривил душой. Он и сам был неисправимым романтиком и к своим воздушным приключениям относился с неиссякаемым душевным трепетом. Но это чувство было слишком интимным, чтобы делиться им с окружающими.
– Нет, нет! Ну, пожалуйста, расскажите, – настаивали девушки наперебой.
– А давайте я лучше расскажу историю, которая произошла со мной в поезде, – нашёл как выкрутиться Эдик. – Ну раз уж мы здесь, в поезде, собрались. История загадочная, почти мистическая. Случилась она в Сибири, на станции Зима, это в Иркутской области.
– Знаем. У поэта Евтушенко есть такая поэма – «Станция Зима». Он, кажется, родился там, – вставил Сергей, и Андрей ещё раз отметил про себя, что морячок не так прост, как казалось.
– Вот-вот. Ехал я в прошлом году поездом Москва – Владивосток, – начал рассказ Эдик. – Фирменный поезд, главный поезд страны. Вагоны красивые, вишневого цвета, на борту металлическая надпись «Россия», занавесочки на окнах особенные – короче, этот поезд ни с каким другим не перепутаешь. Я ехал из Красноярска – там сборная тренировалась – в Читу, на чемпионат РСФСР. Ехал за «золотом», я тогда фаворитом был. К тому времени у меня уже были два союзных «золота» и одно мировое, а российских медалей не было. Предыдущий чемпионат я провалил: сорвал прыжок и не попал даже в призёры. И очень хотел это недоразумение исправить. Волновался, всю дорогу в уме предстоящие прыжки прокручивал, спал плохо. Ну, думаю, так ведь и перегореть можно. Надо, думаю, отвлечься как-то, почитать что-нибудь лёгкое. А тут как раз станция. В Зиме поезд по расписанию 23 минуты стоит: есть время сходить в вокзальный киоск.
Эдик отхлебнул портвейна и продолжил:
– Итак, перешёл я через пешеходный мостик с платформы к вокзалу и купил там детективчик и свежий номер «Техники – молодёжи». На всё про всё ушло минут десять. Поднимаюсь опять на мостик и вижу – на тебе! Мой фирменный поезд вздрагивает и начинает медленно отползать. Что такое! Ничего не понимаю! Рассуждать было некогда, бегом скатился я по скользкой лестнице, чуть ноги не переломал, и заскочил в последний вагон. Хорошо, дверь проводник не успел закрыть.
– Такое часто бывает: если поезд опаздывает, стоянку сокращают, – прокомментировала проводница. – Всегда надо на часы смотреть.
– Погодите, это ещё только начало. Итак, отдышался я и пошёл через весь состав в свой третий вагон. По дороге – вагон-ресторан. А время завтракать было. Ну, я и присел за столик, взял кофе с бутербродами, раскрыл журнал, стал читать и увлёкся. У них там есть рубрика «Антология таинственных случаев», и в ней статья была интересная: про поезд-призрак. Был, оказывается, в Италии, ещё в начале века, такой загадочный случай. Поезд с пассажирами заехал в тоннель и исчез бесследно, будто его и не было.
– Точно, – перебил Андрей. – Я тоже про это читал. А потом этот поезд вроде бы видели через много лет то в Мексике, то в Крыму… И даже ещё где-то.
– Ага, там так и написано. И вот в этой статье учёные рассуждали, могло ли такое случиться в действительности, исходя из законов физики. Мог ли этот поезд попасть в пространственно-временную дыру… ну или в другое измерение… и переместиться во времени и пространстве? Два часа я читал, не мог оторваться. Дочитал и пошёл в свой вагон. Открываю дверь купе и – ничего не понимаю! На моей полке спит какой-то мужик лицом к стенке. И сумки моей нет на багажной полке! Там у меня прыжковая форма была и специальная обувь. В купе вроде всё по-прежнему, те же стаканы на столе, газеты, занавески на окне, за стеклом мелькают те же сопки и тайга, а публика другая. До Зимы со мной в купе молодой парень ехал и пожилая пара на нижних полках, а теперь – женщина с сыном-подростком и усатый какой-то мужчина. Смотрят на меня с недоумением. Ну, думаю, вагоном ошибся. Переспросил – всё верно, третий. Мистика какая-то!
Наташа Светленькая ойкнула, а Эдик продолжал:
– Пошёл я тогда к проводнику разбираться, почему моё место занято. Стучу в дверь, открывает незнакомая девица в проводницкой форме. А где проводник? Васильич? – спрашиваю. Какой, отвечает, Васильич? Не знаю, мол, такого. Я здесь проводник, говорит, а вы – кто? Билет, говорит, есть у вас?.. Тут мне совсем дурно стало. Вспомнил я статью из «Техники – молодёжи». А что, думаю, если я попал во временную дыру и переместился непонятно куда. Не то в прошлое, не то в будущее. Тогда всё складывается. Не нашёл ничего лучшего, как спросить у неё: какой сейчас год и число? У проводницы глаза округлились, испугалась, видно, решила, не в себе товарищ. Дверь захлопнула у меня перед носом и, через дверь слышу, по рации бригадира вызывает. А я стою как бревном ударенный и гадаю, куда это я попал.
Эдик замолчал и сполна насладился произведенным эффектом. Девушки, да и Андрей с Сергеем смотрели на него так, как смотрят увлекательное кино в ожидании развязки. Пшеничные Усы тоже навострил уши. Даже Алёна на верхней полке ненадолго отвлеклась от своих переживаний и прислушалась. Выждав нужную паузу, Эдик широко улыбнулся:
– Всё оказалось донельзя прозаично. Надо же такому случиться, что на той станции, в Зиме, одновременно останавливаются два фирменных поезда: номер второй Москва – Владивосток и номер первый из Владика в Москву. Выглядят они как близнецы. Вот я и заскочил впопыхах не в тот. И три часа ехал, сам того не понимая, обратно, на запад.
– А как же чемпионат? – поинтересовался Андрей.
– Да никак. Так я и остался без медали. Видно, не судьба.
– За это надо выпить, – провозгласил Серёга, разливая портвейн. – За то, что не занесло тебя, Эдуард, куда-нибудь в Средние века. Или на Соломоновы острова, к аборигенам на шашлык. А свои медали мы ещё возьмём, правда?
Звякнули стаканы, Андрей взял гитару, и веселье снова покатилось по нужной колее.
Мелитополь – Запорожье
А что же наши искатели чужих денег Валера и Виталик из седьмого вагона? Дождались ли они своего суженого лоха?
Судьба оказалась к ним благосклонна и послала им подходящую кандидатуру. Потенциальный лох явился на свободное четвёртое место в их купе в Джанкое. Войдя, он не представился, поэтому мы будем называть его просто Лохом.
Лох был чудо как хорош. Одет он был в такое, что в советских магазинах не купишь ни за какие деньги. Мягкий кожаный пиджак, водолазка из ангорки, синие американские джинсы и последний писк заграничной моды – замшевые мокасины, – такой прикид тянул на «чёрном рынке» не менее чем на полтысячи рублей. Это промтоварное великолепие в сочетании со жгуче-чёрными глазами и лёгким восточным акцентом Лоха нарисовало в Валерином воображении соблазнительный образ преуспевающего «цеховика».
По короткому, но внимательному взгляду, брошенному вновь пришедшим на карточный расклад на столе, Валера и Виталик поняли: с преферансом Лох знаком. И, судя по пухлому «лопатнику», из которого тот доставал билет, чтобы предъявить его проводнику, был при деньгах. Друзья приободрились, но виду не подали: продолжили метать карты, а Лоха как бы и не замечали. Тот присел рядом и раскрыл газетку, всем своим видом показывая, что происходящее его вовсе и не интересует, но вполглаза за игрой поглядывал. Через полчасика природа всё-таки взяла своё:
– Какой интересный расклад! Давно такого не видел, – подал голос Лох, увидев на столе необычную комбинацию, и Валера понял: клиент дозрел. Он тут же предложил:
– Садитесь третьим. Распишем двадцаточку. – И, видя колебания Лоха, добавил: – По маленькой, только для интереса. Пять копеек за вист. – Лох кивнул в знак согласия.
Правильная работа с лохом требует терпения и выдержки – азы своей науки наши ловкачи усвоили давно. Для начала клиенту надо позволить освоиться, почувствовать себя в своей тарелке и увериться, что удача на его стороне. И только тогда можно с успехом его потрошить.
Всё дело чуть не испортил Георгий: он слез со своей полки и стал проситься в игру четвёртым. В планы друзей-аферистов такой расклад не входил, но и отказать Георгию означало вызвать ненужные подозрения у Лоха.
«Чёрт с ним, пусть играет, – подумал Валера. – С паршивой овцы хоть шерсти клок». И про себя окрестил Георгия «болваном». Для тех, кто не знаком с терминологией преферанса, автор должен пояснить: «болваном» называют отсутствующего третьего игрока при игре вдвоём. В этом случае картами «болвана» играет один из тех, кто за столом. Этим определением Валера имел в виду, что в грядущей партии против Лоха роль Георгия – быть «болваном» в чужой игре.
За пару часов Лоху дали выиграть пятёрочку. Успели бы и быстрее, если бы не Георгий. Тот полностью оправдал данное ему прозвище: подолгу обдумывал простые ходы, тормозил игру. Впрочем, играл он аккуратно, не рискуя, и по итогам остался «в нулях», без проигрыша.
После игры обитатели четвёртого купе пили чай и болтали о том, о сём. Виталик жаловался на маленькую зарплату и дороговизну жизни, Георгий ему поддакивал, Лох снисходительно молчал. Затем трое выходили в тамбур покурить, а Лох читал газетку. Потом все сидели молча, глядя в окно на прекрасные виды Каховского водохранилища. Наконец Валера решил, что пора приступать к главному.
– Не люблю поездов, – начал он издалека, не обращаясь ни к кому конкретно. – Сидишь целый день как дурак, делать нечего. Только карты и спасают. Может, ещё партеечку сгоняем? – этот вопрос адресовался Виталику. Тот подхватил, следуя не раз отрепетированному сценарию:
– По пятачку неинтересно. Нет азарта. Давайте по рублю, я готов.
– По рублю крутовато будет, – возражал Валера.
Далее следовала мастерски разыгранная сцена, в которой Валера от игры по-крупному сначала отказывался наотрез, но затем начинал понемногу поддаваться уговорам Виталика. Лох молча слушал их препирательства: играть он был не прочь, денег у него было предостаточно, но привычка делового человека не позволяла сразу соглашаться на рискованные предложения. Неожиданно в дело вступил Болван-Георгий:
– Я играю по рублю, – заявил он. И в ответ на удивленные взгляды всех троих добавил: – Деньги у меня есть, не сомневайтесь. Премию на заводе получил. Жгут карман, так сказать. – И он извлек из кармана пачку пятирублёвок.
Валера как бы нехотя согласился, и Лоху не осталось выбора: оказаться единственным в компании, кто испугался крупной игры, не позволяла гордость восточного человека.
Лох, как и Георгий, ехал в Харьков. Поэтому играть решили на время: закончить игру за десять минут до харьковской остановки, чтобы успеть подсчитать результат и расплатиться. Лох, конечно, и не догадывался, что главный сюрприз ждёт его в самом конце игры.
Веселье в двенадцатом вагоне не утихало. Песни перемежались анекдотами и забавными историями из жизни. Банка с портвейном пустела на глазах. Когда устали петь, Серёга достал из сумки колоду карт и научил всю компанию забавной игре «Кукареку». Следующие минут сорок вагон сотрясали смачные шлепки рук по столу, кукареканье и взрывы смеха. Радостно было не только игрокам, но и всем вокруг. Даже Пшеничные Усы не сдержался и прятал улыбку в этих своих усах.
Единственной из окружающих, кого не радовали, а раздражали и пение, и анекдоты, и этот весёлый кавардак за спиной, была Алёна. Она не могла понять, как могут веселиться люди, когда мир полон предательства и боли. Шёл уже седьмой час её добровольного затворничества под простынёй, левый бок её онемел от неподвижного лежания, давно хотелось в туалет, но спуститься к людям было выше её моральных сил. Запас слёз казался неиссякаемым.
Хуже всего было то, что её по-прежнему, несмотря на смертельную обиду, тянуло к Славе на почти животном уровне. В ней оживали прежние ощущения, она почти физически почувствовала мягкость его мальчишеских губ, гладкость шелковистых волос, дурманящий запах кожи, и сладкая волна возбуждения прокатилась по её телу от шеи до пяток. Разбуженная плоть требовала своего.
Никогда, никогда больше она не испытает этих удивительных ощущений – это было Алёне очевидно. Никогда мужская рука не коснётся её тела. Представить кого-то другого на месте Славы мозг отказывался. Впереди серая, постылая жизнь, не расцвеченная радостью физической близости. Тогда зачем она нужна? Не лучше ли закончить её сейчас, на подъеме эмоций, чем обречь себя на мучительное затухание чувств?
Алёна погружалась в мизантропию, как пчела, увязшая в патоке. Из института её, видимо, исключат. Как она оправдается за это перед родителями? Они столько сделали для того, чтобы Алёна туда попала, отказывали себе во всём, нанимая репетиторов. Как они были счастливы, когда она успешно прошла отбор. Нет, объяснения с родителями надо избежать любой ценой. Получается, что выход есть только один. Да, только так…
Решение принято. Но как его осуществить? Выйти на остановке и броситься под поезд, как Анна Каренина? Нет, это слишком театрально. И, наверное, очень больно. Алёна представила себе хруст раздавленных железом костей, и её передернуло. Вскрыть вены в туалете? Бритва у неё с собой… Тоже не подходит. Алёна панически боялась вида крови. Да и не дадут ей закрыться в туалете на долгое время. И тут Алёна вспомнила, что в её сумке лежит нераскрытая пачка снотворного. Вот оно! Нужно только спуститься вниз за водой и – незаметно и без боли уснуть навсегда. Умереть во имя любви – только так можно оправдать своё существование на этом свете.
Всё стало простым и ясным, и у Алёны отлегло на душе. Когда эти бузотёры за спиной успокоятся наконец и лягут спать, она тихонько проскользнёт в тамбур, наберёт воды и примет спасительное лекарство. А пока она закрыла глаза и стала представлять себе, как Слава ласкает её тело. Ей было тепло и спокойно, и она задремала.
…Проснулась Алёна от того, что кто-то дернул её за штанину. Алёна замерла, но неизвестный был настойчив: дёрнул ещё раз, другой, третий.
– Петрович! А, Петрович! – раздался за спиной мужской голос. – Петрович! Просыпайся. Давай кирнём. У меня водка есть.
Алёна не выдержала и обернулась. В проходе стоял Земеля. Одной рукой он вцепился в Алёнин клёш, в другой была неизменная бутылка. Увидев вместо неизвестного нам Петровича девичье лицо, припухшее от слёз, со следом от подушки, обрамлённое прядями нечёсаных светлых волос, но всё равно юное, прекрасное и безмерно удивлённое, сержант окаменел, словно узрел не девушку, а чудовище. Челюсть его отвисла, глаза выкатились, и лицо приобрело выражение до такой степени дурацкое, что Алёна улыбнулась, в первый раз за последние дни. Несколько мгновений эти двое смотрели друг на друга, а затем Земеля, не произнеся ни звука и не спуская глаз с Алёны, с тем же выражением на лице стал пятиться назад и исчез где-то в проходе.
Вся эта сцена выглядела настолько комически, что обитатели четвёртого купе покатились со смеху. Теперь они все смотрели на Алёну, а Алёна на них. Алёна увидела молодые, красивые, смеющиеся от души лица и прыснула сама. Напряжение последних дней разом покинуло её, будто она скинула с себя тяжёлые, сковывающие движения рыцарские латы.
– Спускайтесь к нам, – предложил парень с хэмингуэевской бородкой. – У нас весело. У нас вино есть.
«А он ничего так, даже красив, – подумала Алёна. – Немного похож на Славу, только выглядит постарше и более мужественно». Лежать на полке ей надоело до смерти.
Вскоре Алёна уже сидела за столом рядом с Андреем, отхлебывала портвейн из гранёного стакана, смеялась над анекдотами и вместе со всеми кричала «кукареку» при появлении шестёрки. Мысль о том, что ещё час назад она собиралась отравиться, казалась теперь дикой. В девятнадцать лет трагедии переживаются быстро.
А Андрей, забыв про Наташу, во все глаза глядел теперь на Алёну. Восторгу его не было предела: Алёна без сомнения оказалась самой красивой девушкой в их компании. Она обладала тонкими чертами лица, глубокими голубыми глазами и длинными ресницами, волнистыми светлыми волосами ниже плеч, длинными нервными пальцами, словом, была красива утончённой изысканной красотой, а печать недавнего страдания только оттенила эту красоту.
Что ж, история Славы и Алёны закончена, и началась другая история. Но я, по праву автора, хочу сделать одно заявление. Я хочу обратиться к Славе с такими словами: «Хотя я сам тебя придумал, не могу не сказать: ты, Мстислав, самовлюблённый болван. Пройдёт немного времени – ты сам не заметишь – как исчезнет юношеская припухлость твоих щёк и губ, как плешь проест твою роскошную причёску, как округлится животик, потухнет взор, ослабеют члены, и женщины перестанут бросать на тебя восхищённые взгляды. И тогда вспомнишь ты девушку Алёну как лучшее, что было в твоей жизни. А теперь уходи прочь из моей повести».
Запорожье – Павлоград
К вечеру к Леночке-Элеоноре вернулась способность к осмысленным действиям. Мечта о столичной жизни заставила её собрать волю в кулак, подавить страх, и она решилась подойти к столику, где сидел предмет её вожделения, с твёрдым намерением завязать разговор. Он оказался коротким:
– Ещё триста коньяку и лимон, – не глядя на официантку, властно произнес посетитель, и Элеонора, так и не выдавив из себя ни слова, отправилась в буфет. Когда же она вынесла поднос с заказом, то увидела такое, от чего её сердечко упало куда-то вниз и дыхание прекратилось. За столиком мужчины её грёз уже сидела какая-то девица, а сам он приподнялся, чтобы поцеловать эту особу в щёку. Красивая мечта Элеоноры рассеялась как мираж в пустыне, не оставив следа. Этого она вынести не могла – убежала в своё служебное купе, бросив рабочее место, и разревелась, как девчонка.
На вакантное место тут же заступила Галина. Её, испытанного бойца любовных фронтов, такая мелочь, как неожиданное появление соперницы, ничуть не смутила. Тем более что от внимательных глаз официантки не укрылось: между этими двоими не всё ладно. Оба были напряжены и глядели друг на друга не так, как влюблённая парочка. Галина продолжала вертеться у столика, отпуская томные вздохи в адрес мужчины. Спутницу его она как бы и не замечала.
А зря… Я не Галина, и скажу вам прямо, там было на что посмотреть. Девушку звали Анна, было ей 25 лет, и она была очень привлекательна. Возможно, что в рабочем посёлке Нижние Бодуны её бы не сочли красивой – слишком неявны были выпуклости на её теле и слишком тонки черты лица – но в среде ленинградской богемы она не могла остаться незамеченной. Анна обладала исключительным шармом и была красива изломанной и холодной красотой Серебряного века. Что неудивительно: в четвёртом поколении девушка приходилась внучатой племянницей поэтессе Зинаиде Гиппиус. Прочие ветви родового дерева Анны плодоносили исключительно филологами и искусствоведами. Крону этого дерева изрядно проредили репрессии сталинского периода, но уцелевшие члены семьи бережно хранили культ эстетики эпохи символизма. Жила эта семья в самом центре Ленинграда, на улице Рубинштейна, в большой фамильной квартире.
Анна росла в хрустальном сосуде, наполненном стихами, музыкой, живописью и философией. Проза жизни обошла её стороной, всё низменное для неё будто и не существовало. К двадцати двум годам Анна, уже выпускница филологического факультета ЛГУ, так и не овладела обсценной лексикой. То есть слова такие она, конечно, слышала – не на небесах живём, – но об их значении только догадывалась. Это чуть было не стоило ей диплома.
Дело было так. От сокурсников Аня не раз слышала в адрес уважаемых преподавателей филфака такие слова: «этот старый мудак Петров» или «этот мудак Сидоров». По чистоте душевной она уверилась, что слово «мудак» – похвала и означает «пожилой высокоучёный человек», что-то вроде профессора. Поэтому на защите своего диплома выразилась в отношении оппонента, доктора наук и заведующего кафедрой, так: «Как верно заметил уважаемый мудак Кукушкин…». Председатель дипломной комиссии побагровел, пытаясь не рассмеяться в голос, «уважаемый мудак» подавился чаем, но девушке всё сошло с рук. Дескать, девица не от мира сего, что с неё взять?
Так и жила Аня в своём заповедном мире, почти не соприкасаясь с советской действительностью, пока судьба не свела её с Дмитрием Олеговичем, тем самым холёным мужчиной, который сидел сейчас перед ней за ресторанным столиком. В роли «судьбы» выступила Анина тётя, женщина, хотя и высококультурная, но при этом, в отличие от остальных высококультурных родственников, расчётливая. Её не радовала перспектива иметь в качестве любимой племянницы старую деву с зарплатой младшего научного сотрудника. Хитроумная комбинация знакомства увенчалась успехом: Дмитрий Олегович крепко взял Аню под своё покровительство и спустил с небес на землю.
Дмитрий Олегович был из тех, для кого американский адвокат Генри Клей придумал определение self-made man, что в переводе означает «человек, сделавший себя сам». Наш герой был номенклатурным работником, то есть членом привилегированного класса, своего рода «советского дворянства», и добился он этого исключительно благодаря труду и настойчивому стремлению «выйти в люди».
Дело в том, что вырос Дмитрий Олегович в Красноярском крае, в маленьком рабочем посёлке Кодинский, со всех сторон окруженном тайгой. И посёлком-то он стал совсем недавно, когда туда приехали строители гидроэлектростанции, а раньше был просто селом, местом ссылки для спецпереселенцев. О более или менее приличных людях в Кодинском говорили так: «Он человек интеллигентный – не сидел». Папа Димы в этом понимании к интеллигентам не принадлежал, покидал исправительные учреждения редко и ненадолго, и в воспитании будущего представителя советской элиты никакого участия не принимал. Сына тащила мать, измученная тяжёлой работой и бытовой неустроенностью, а воспитывала улица с её понятиями, мало отличавшимися от уголовных. У мальчика, выросшего в этих местах, было немного шансов не пойти по стопам отца и ещё меньше возможностей сделать блестящую карьеру.
Но Дима обладал волей и плыть по течению не желал. Вопреки всему он окончил десятилетку с хорошими отметками в аттестате и в положенный срок отправился служить по призыву. И судьба подкинула ему шанс. В часть, где Дмитрий отдавал воинский долг, приехал эмиссар из Москвы. Он агитировал дембелей поступать на рабфак МГУ. Дима не колебался ни минуты. Получив нужные направления, он рванул в столицу, и уже в следующем году был зачислен без экзаменов – такие тогда были правила – на экономический факультет.
Учился Дима упорно, даже с некоторым фанатизмом. Презрев соблазны столичной жизни, он жадно впитывал знания и, наверное, стал бы неплохим специалистом нижнего звена, но фортуна сделала ему ещё один подарок. Однокурсницей Дмитрия оказалась дочка большого партийного чиновника. Такую возможность упускать было нельзя, и сразу после окончания первого курса сыграли свадьбу. Затем было свадебное путешествие в Крым – впервые Дима увидел море и вкусил жизни, о которой раньше не мог и мечтать. С этого момента его карьера понеслась галопом. Тесть, который и сам оказался выходцем из низов, Диме благоволил. Это он устроил перевод своей дочери и её молодого супруга в МГИМО, а после его окончания – престижное трудоустройство для обоих. Дима оказался служащим внешнеторгового ведомства, где быстро взобрался по служебной лестнице и к сорокалетию уже сам стал начальником департамента.
Жизнь складывалась как нельзя лучше. У Дмитрия Олеговича было всё, что он желал: должность, статус, служебные машина и дача, большая квартира в центре и гигантская по советским меркам зарплата. К тому же поднадоевшая уже супруга отбыла служить в советское торговое представительство в Вене, забрав с собой их единственного сына, в Москве появлялась редко, мужем интересовалась мало: ничто не мешало Дмитрию Олеговичу заводить краткосрочные романы и интрижки и жить в своё удовольствие.
Но жизнь устроена так, что кризис среднего возраста не щадит никого – даже самых успешных. Маленький червячок неудовлетворённости поселился в здоровом организме чиновника и со временем вырос в проблему. Хотелось чего-то ещё – а чего именно, не мог понять и сам Дмитрий Олегович. Неизжитый комплекс провинциала засел где-то глубоко внутри, время от времени он давал о себе знать и мешал наслаждаться жизнью своему хозяину. В такие минуты блестящий мир вокруг казался Дмитрию чужим, он ощущал себя бедным мальчиком из рабочего посёлка, злой рукой брошенным во враждебную среду. А потом в этом мире появилась Анна.
Поначалу отношения между Дмитрием Олеговичем и Анной обещали быть взаимовыгодным мезальянсом. Московский начальник часто приезжал по делам в Ленинград и был не прочь иметь там красивую любовницу. Да ещё такую образованную и начитанную, с которой не стыдно появиться на культурных мероприятиях. Анна же отчаянно нуждалась в человеке, который заберёт её из воображаемого мира стихов и научит прозе жизни.
Будучи профессиональным экономистом, Дмитрий сразу увидел в Анне перспективный объект для инвестиций и денег не жалел. Он одел её как принцессу, выполнял любые её прихоти и решал неразрешимые, казалось бы, бытовые проблемы одним движением пальцев. Анина жизнь изменилась решительно. Первое время её омрачали моральные терзания – статус содержанки унижал достоинство девушки аристократического воспитания, – но со временем она привыкла и перестала обращать на это внимание. Надо отдать должное Дмитрию – ни словом ни полсловом он ни разу не намекнул на прагматический характер своего отношения к любовнице, вёл себя с ней уважительно и заботливо. Взамен он получал её молодость и красоту, а также то, чего ему больше всего не хватало в жизни, несмотря на все достижения, – возможность прикоснуться к закрытому для него миру интеллектуальной элиты. Анна стала для него проводником в мир искусства.
Дмитрий стал читать, и это занятие понравилось ему. Он даже выучил наизусть пару стихотворений Аниной двоюродной прабабки и мог теперь блеснуть цитатой в среде своих высокопоставленных коллег. Ему льстило считать себя культурным человеком. Аня водила его на все громкие театральные премьеры обеих столиц, благо доставать дефицитные билеты не было проблемой для Дмитрия Олеговича. В скором времени он уже мог различать режиссёрские манеры Товстоногова и Эфроса и, главное, рассуждать об этом в обществе.
Дмитрий Олегович приезжал в Ленинград почти каждые выходные. Такие отношения устраивали обе стороны. Но вскоре они изменились. Любовь – понятие трудноопределимое и загадочное, и никто не скажет, в какой именно момент между этими двумя пробежала её искра, из которой потом разгорелся огонь чувств. Как-то вдруг оба поняли, что им хорошо вместе и плохо порознь. Ночи любви, к которым Аня поначалу относилась как к неизбежной повинности, стали ей желанны, оказалось, что она ждёт их и торопит. Дмитрий Олегович любил, как и жил, властно, со всей своей природной силой. В моменты страсти он крепко сжимал любовницу в объятиях и вертел её, как куклу, но никогда не переходил ту тонкую грань, которая отделяет властность от грубости и насилия. Неожиданно для себя Анна осознала, что ей нравится чувствовать себя игрушкой в сильных, но нежных руках. Будни стали для неё серыми и томительными, а выходные обернулись праздниками.
Это чувство оказалось взаимным, и вскоре московские подружки Дмитрия Олеговича оказались в отставке. Он, сидя на бесконечных заседаниях и планёрках в своём ведомстве, всё чаще ловил себя на труднопреодолимом желании бросить всё и мчаться на Ленинградский вокзал. Те злосчастные три недели, которые его супруга провела в Москве в отпуске, могли стать адом для обоих любовников, но Дмитрий Олегович исхитрился придумать себе внеплановую командировку в Ленинград. Он стал подумывать о разводе, и даже угроза мести со стороны высокопоставленного тестя уже не пугала его.
Всё складывалось для любовников как нельзя лучше, если бы не одно обстоятельство – алкоголь. Нет, Дмитрий Олегович не был пьяницей. Пить он умел и мог пить много не пьянея – это входило в круг его профессиональных навыков. Даже выпив сверх меры, он держался на людях так, что деловые партнёры и коллеги об этом не догадывались. Но иногда – очень редко, всего два раза за время знакомства с Аней, и исключительно в домашней обстановке, без посторонних глаз – Дмитрий, выпивая, преодолевал некую невидимую черту, за которой его приобретенная интеллигентность куда-то испарялась, и в нём просыпался кодинский уличный пацан с его полууголовными манерами. Он становился груб и заносчив с Анной. Оба раза дело заканчивалось ссорой и временной размолвкой.
