Мамона и музы. Воспоминания о купеческих семействах старой Москвы
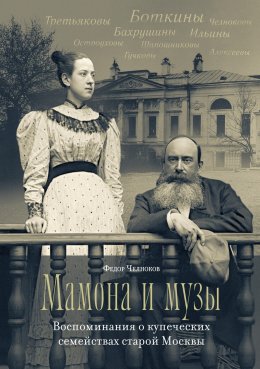
© Alexis & Natalie Nikouline
© Фонд сохранения фотонаследия имени С. В. Челнокова
© Издание на русском языке, оформление ООО «Издательство АЗБУКА», 2025 КоЛибри®
Рукопись предоставлена потомками Федора Васильевича Челнокова – Наталией и Алексеем Никулиными (Бахрушиными)
Издание проиллюстрировано стереофотографиями, фотографиями и монотипиями Сергея Васильевича Челнокова, предоставленными Фондом сохранения фотонаследия имени С. В. Челнокова
Автор предисловия Дмитрий Новиков
Автор комментариев Михаил Шапошников
Дмитрий Новиков
Федор Челноков и его воспоминания о московских семействах
Братья Челноковы[1] – автор воспоминаний Федор, мой собственный прадед и автор фотографий Сергей, а также Михаил и Василий Васильевичи – принадлежали к купеческому семейству, обосновавшемуся в Москве еще в середине XVIII века. Кирпичное производство Челноковых во второй половине XIX века стало одним из самых востребованных: из кирпичей с клеймом «Челноковъ» построены здание МХТ, северное крыло Политехнического музея, здание Московской думы (ныне Музей Отечественной войны 1812 года), почти вся Остоженка. Челноковы состояли в родстве со многими известными московскими купеческими династиями – Третьяковыми, Бахрушиными, Боткиными, Алексеевыми, Ильиными.
Челноковы – москвичи в особом смысле этого слова. Они принадлежали к тому слою московской потомственной промышленной интеллигенции, из среды которой вышли выдающиеся меценаты и коллекционеры, деятели искусств, ученые, политики. Достаточно вспомнить Щукина, Третьякова, Морозова, Алексеева (Станиславского), Гучкова, Шехтеля, Боткина. Почти все они так или иначе знали друг друга. Они принадлежали к одному кругу и были объединены вначале происхождением и достатком, а затем уже и общим пониманием жизни, тем, что называют «общей культурой».
Эта московская культура – умение жить по неписаным правилам сообщества – оказывается в центре воспоминаний Федора. Его интересуют детали человеческих характеров, в которых эти правила воплотились. Федор Челноков не прибегает к обобщениям, на которые обычно опираются авторы в эмиграции, описывая жизнь московского купечества. Здесь почти отсутствует «взгляд сверху» стороннего наблюдателя, антрополога или историка. Его антропологическая галерея вполне пристрастна и художественна.
Описание исчезнувшего московского мира вписано в автобиографию, что позволяет автору максимально широко охватить круг своих знакомств. Однако вместо рассказа о себе мы находим у него описание других. И в этом ускользании автора, когда его самые главные мысли остаются за пределами текста, обнаруживается личность пишущего, его способ не только писать, но и, возможно, жить. Именно через описание людей открывается общность внутреннего мира повествователя и тех, о ком он рассказывает. Мы видим то, что его с ними связывает, мы видим его как одного из них.
Рукопись Федора Челнокова была не нейтральным текстом, написанным автором, на досуге припоминающим прошлое, но погруженным в реальные переживания – ностальгии, одиночества, поиска опоры в настоящем, из которых рождался этот удивительный текст, где автор словно видит тех людей, о которых он говорит. Эта особенность памяти в воспоминаниях Федора Челнокова неожиданным образом сближает его с «Поисками утраченного времени», где детали туалета, обстановки, манеры говорить или привычки коллекционировать дорогие вещи становятся началами текста, как знаменитое печенье «мадлен» у Пруста. Достоверность памяти разворачивается подчас, словно кинематографическая сцена из «Дэвида Копперфилда». Действительно, из более 350 имен, встречающихся на страницах дневника и воспоминаний, неверное отчество было указано Федором Челноковым лишь в трех случаях, и это при отсутствии интернета!
Наиболее ценная черта воспоминаний Федора заключена в том, что он описывает этот мир изнутри, где главное – это обыденность, ее особое устройство, основанное на привычках, нравах, традициях или «менталитете». Устоявшаяся общность этого круга создает ощущение стабильности московского мира, где солидарность не только в родственных связях, в которых, как пишет Федор Челноков, «сам черт не разберется», не только в совместности капитала, но и в определенной культуре достоинства, внутренней интеллигентности, по которой отличают «своего» от «чужого». Она и будет тем общим звеном, которое связывает описанных Федором предпринимателей – воротил-старообрядцев – с новым поколением, получившим хорошее образование и повернувшимся к искусству и наукам.
Конечно, за этим присутствующим в тексте чувством «принадлежности к классу» стоит также определенная привычка к бытовому и интеллектуальному комфорту, культивированию красивой жизни, отсюда – коллекционирование, выливающееся в нечто большее. Многие из этих коллекций стали впоследствии национальным достоянием. Но напрасно мы будем искать разговора об искусстве, это не входит в задачи рассказчика: художественные, библиотечные собрания присутствуют здесь лишь как характеристики персонажа и его обстоятельств, атмосферы московских домов. Вместе с Федором, молодым человеком, мы впервые оказываемся в большой гостиной Боткиных, испытывая удивление от соприкосновения с новым для Федора миром – утонченной атмосферой семейства, давно вошедшего в верхи московской жизни, где произведения искусства стали привычной частью домашней обстановки.
Меня несколько отдаляло подробное описание светских развлечений, матримониальных союзов и всей материальной стороны брачных да и человеческих отношений, которая, не будучи главной в описаниях, тем не менее присутствует не только как фон описываемого характера или события, но как его конструкция. Сколько было приданого? Что в него входило? Был ли брак равным или морганатическим? Каково было финансовое положение самого автора на тот момент? Подчас, по школьной привычке искать в жизни «высокое», мне хотелось упрекнуть автора в материализме и бездуховности, поскольку я не находил следов всех тех знаковых дискуссий, столкновений мнений, которыми для меня была отмечена эпоха. А как же Серебряный век русской культуры в литературе, философии, искусстве? Где знаменитые похороны князя Трубецкого, всколыхнувшие всю Москву и ставшие прологом к Декабрьскому восстанию? А уход и похороны Толстого?
Постепенно я стал понимать, что именно хочет рассказать Федор Челноков. Концентрируясь на описании своего опыта, он намеренно сужает рамки разговора, приземляет, стараясь передать базовые моменты описываемого им мира. И здесь его рассказ оказывается удивительно точным описанием самой системы сложившихся отношений, где все материальное – вещи, дома, богатство, капитал – является важнейшей составляющей жизни этих людей, строящих новую материальную культуру. Вопрос не только в том, какой вы получаете доход и какое вам оставили наследство, но и в том, что вы из этого сделали. Материальное – часть этого мира. И вот Федор описывает те или иные московские дома, подробно останавливаясь на привлекших его внимание креслах, шкафах, безделушках как продолжении персонажа: они оживают и сами рассказывают о владельце. Эта поэтика вещного – важная черта текста Федора Челнокова, характеризующая не только автора, но и среду, эпоху. Однако и сами вещи, состояния, капиталы – все это не самоценно, все подвижно.
Но важнее характеры, создающие богатство. Здесь Федор Челноков раскрывает свой талант портретиста. Чего стоит история Бахрушина, помощник которого, войдя к нему в доверие, стал обкрадывать своего хозяина на очень значительные суммы. Поняв это в конце года, Бахрушин просто тихо уволил помощника. На вопрос Федора Челнокова, почему же он не заявил в полицию или не сделал публичного выговора вору, Бахрушин объяснил, что сам во всем виноват, поскольку это именно он дал возможность человеку впасть в соблазн, чрезмерно доверяя.
Удивительно видеть в его описаниях людей, ворочающих миллионами. То здесь, то там мелькнет небывалый, из каких-то иных времен вынырнувший характер, по-библейски целостный, причудливый, крутой. Федору Челнокову интересно говорить о людях, ему удается воссоздать портреты людей, которых он когда-то знал, словно он старается подобрать к ним финальный ключ, прежде чем мысленно расстаться. Чем характер самобытнее, тем больше внимания он ему уделяет, заново вглядываясь в человека. За описаниями угадывается не только наблюдательность и проницательный ум автора, но и симпатия, взгляд с близкой дистанции. Эта пристрастность превращает описание московских купеческих династий – задачу, которую Федор себе поставил, – в доверительный рассказ, постепенно погружающий читателя в московский мир, каким его помнит Федор Челноков.
Можем ли мы ему доверять, соглашаться с его оценками? Отдельные портреты могут показаться кому-то не совпадающими с представлениями о человеке, которые устоялись в литературе. Московские легенды, бывшие на слуху, могут быть пересказаны Федором по-своему. Действительно, в его оценках людей случается резкость, он старается смотреть прямо, без иллюзий, невзирая на то, чего человек добился в той или иной области. Его ирония часто может показаться несправедливой. И в этом ценность его свидетельства, которое дает еще один взгляд на московский мир, совмещая в своем рассказе факты и то уникальное, личное, ту точку обзора, откуда он наблюдает.
Удивительным образом в повествовании Федора Челнокова о прошлом мы не найдем и упоминания значимых исторических или культурных событий, о которых мы готовы услышать в рассказе очевидца, – о Русско-японской войне, о выборах в Государственную думу, наконец, об открытии памятника Гоголю в 1909 году. Хотя к организации торжеств по поводу открытия памятника брат Федора, Сергей Челноков, имел непосредственное отношение, сохранились его фотографии Станиславского и Немировича-Данченко на могиле Гоголя. Почему так?
Дело в избранной манере воспоминаний, где рассказчику важно говорить о том, что знает только он, постепенно перемещаясь по этому театру прошлого, возвращая ценность жизни в ее повседневном течении. Недаром все потрясения – войны, революции, манифесты, выборы – упоминаются автором не с точки зрения их исторической оценки, но лишь в той степени, в которой они конкретно затрагивали жизнь его родных, знакомых, почти всегда вынося за скобки оценивающую позицию историографа. В чем-то это напоминает фильм Алексея Германа – младшего «Гарпастум», где герои регулярно собираются играть в футбол, и это единственное занятие оказывается тем, что выдерживает испытание временем и позволяет пережить исторические катаклизмы. Но чего-либо подобного «гарпастуму», изобретенному режиссером, в мире реальном не случилось, когда исторический контекст, старательно выносимый автором за скобки, заявил о себе.
Сохранились шестнадцать пронумерованных тетрадей с мемуарами Федора Челнокова. Некоторые части рукописи были уничтожены его дочерью Лидией после его самоубийства в 1926 году. Авторский текст не был разбит на главы в соответствии с темами, о которых идет речь. Это были воспоминания в той изначальной форме, в которой они записывались, автор их не правил – новые заметки писались в продолжение уже написанного, а не вставлялись в соответствующее место в более раннем тексте. При подготовке к изданию для удобства чтения воспоминания о московской жизни были заново разбиты на части (тетради) и главы, чтобы соединить фрагменты на одну тему: «Под опекой Боткиных», «Бахрушины» и так далее.
Это издание восстанавливает связь между рукописью и фотоснимками, которые родной брат Федора Челнокова, Сергей, делал непосредственно во время описанных мемуаристом событий. Именно эти фотографии и привели к обнаружению рукописи: на выставке «Сергей Челноков. Открытие коллекции», проходившей в Музее Москвы в 2015 году, оказался небольшой снимок, на котором запечатлена девочка с куклой. Такая же фотография обнаружилась на комоде в парижской квартире Наташи Бахрушиной-Никулиной, правнучки Федора Челнокова.
Федор и Сергей Челноковы оба эмигрировали после революции, однако дочь Федора Лидия – девочка с куклой – осталась в Берлине, а затем перебралась в Париж. Дочь же Сергея, Наталия, после смерти отца в Копенгагене в 1924 году вернулась вместе с матерью в Советскую Россию – и связь между двумя ветвями челноковского рода была потеряна. В историю рукописи все время вклинивается другая, ненаписанная история, другой роман, где имеется множество персонажей, чувств, переплетений судеб, событий, приведших к тому, что фотографии Сергея Челнокова и мемуары Федора Челнокова встретились на страницах этой книги.
Тетрадь первая
Детство
Бабушка
Cо старческим смехом [бабушка][2] рассказывала, как они с Анной Димитриевной в былое время играли в карты. «Вокруг нас, – говорила она, – лежали кучи золота, которое мы выигрывали и проигрывали, а сами курим трубки с такими длинными чубуками, что трубка-то лежит на полу». В наше-то время она от табака открещивалась, отплевывалась и бранилась, если пустить на нее дым.
Все в ней было своеобразно, и особенно ее шутки, ее смех, ее мировоззрение, отношение к людям и даже наружность. Несмотря на годы, она любила одеваться. Помню, было у нее платье темное, как бы посыпанное мелкими красными ткаными цветочками. Она была единственная женщина с плешью, которую я знал, а плешь у нее была огромная и спускалась за макушку. Чтобы ее скрыть, она носила шиньон, покрытый черными кружевами с тонкими ленточками черного бархата или темно-лиловыми шелковыми. Ее собственные черные волосы немного курчавились, она расчесывала их средним пробором, распределяла пышно по вискам, а там уж были шиньон, кружева, ленты. Голова получалась несколько велика. Красотой она, должно быть, никогда не отличалась, цвет лица был какой-то нездоровый, желтоватый, но больна она никогда не была.
В дополнение к туалету всегда была в больших золотых серьгах мудреной конструкции, причем серьги своей тяжестью прорезали за время когда-то маленькие ушные дырки. Серьги были и тогда старинные и до того отполированные от постоянного употребления, что бывшая на них когда-то гравировка на выпуклых местах исчезла. К серьгам была большая и такая же старинная брошка. Лицо было длинноватое и никакими особенностями не отличалось. Привыкла она смолоду к платьям широким, такие и употребляла, хотя кринолинов по моде она не носила. Эти широкие платья скрывали ее худобу, и она представлялась совсем полной. Голосом обладала она ни тихим, ни громким, но своеобразным, с какой-то маленькой трещиной; смех веселый, заразительный, но не продолжительный и не закатистый.
Она положительно была умна. С женой «братца» – так звала она моего деда, Михаила Петровича[3], – была не близка: та была для нее суха, вероятно, ядовита и практична, чего в бабушке абсолютно не было, особенно ядовитости. Братца она положительно боготворила, а когда он бывал нездоров, то и брила. «Братец-то мой, – говорила она как-то, – идет по фабрике, красота-то, красота неописуемая, а на шее галстук – рублей в 50!» И на «рублей» делала особенное ударение. «Недаром, – говорила она, – княгини и графини по нем обмирали».
Именины ее бывали в Татьянин день, 12 января[4]. Тут уж все к ней являлись; а кто не явится, [того она] целый год корить будет. С самого утра, после обедни, являлся причет, и с этого начинался круговорот гостей. А квартира была крохотная: узенький коридор, направо кухня, налево спальня темная: ее всю заполняла одна двуспальная бабушкина кровать – великолепная, красного дерева и тогда уж старинная. Впрочем, все у нее было старинное и великолепное. Дальше была гостиная шириной в спальню и коридор в два окна, рядом еще комната в одно окно – и все. Мебель же была громоздкая, было ее много, всюду были натыканы тумбочки с цветами, канделябрами, стеклянные шкафчики с фарфором; часы башенные, с которыми, как говорила она, одна и умела справляться; потом часы находились у меня и после починки ходили отлично, хотя были очень чувствительны и не любили, чтобы их толкали. А как не толкнуть в такой тесноте?
В другой комнатке у нее во всю стену, что была поуже, стоял чудный туалет[5], громадный, весь заставленный фарфором. В двух стеклянных шкафчиках фарфор с самого пола был нагроможден чашка на чашку, кукла на куклу. Тут же между вещами виднелись разные фотографии ее друзей и родных. Здесь находились старинное-престаринное серебро, сервиз, чарки, бокалы. Тут лежали странного вида раковинки, звездочки из перламутра: это были денежные знаки, чуть ли не из Индии, оставшиеся ей от мужа, и она сама не знала, что это такое. Были тут и эмалевые вещи, и соблазнительного содержания, как и большинство кукол. Только сама бабушка могла разобраться во всей этой груде, а если что разобьется, клеила воском. Капнет горячим воском – и держится. На шкафчиках тоже нагромождено было всякой всячины на манер гипсовых испанцев с гитарами, кашпо с растениями. Кружевной порт-букет[6], пропылившийся, почти с одними проволочками вместо цветов, был воспоминанием давно-давно минувшего бала. Если б он заговорил и рассказал, о чем напоминал бабушке. Тут же старался пыжиться старинный черепаховый веер. В нескольких местах, где его шелковая ленточка уж истлела, он поделился на части. Я думаю, каждая планшетка этого старого друга бабушки могла бы рассказать интересную историю ее побед, брошенного слова, скрытой улыбки или намека, а может быть и поцелуя. Ох, эти веера – много они знают, но молчат.
В такой-то обстановке жила наша старушка. Кругом все молчало, но все было полно значения, и как будто эти старинные вещи шептались между собой о минувшем времени, к которому нет возврата. Мог заговорить громко только один ящик верного туалета, хранившего бабушкину корреспонденцию. Но когда бабушка умерла, Агашка, знавшая все, как цербер, никого не подпустила к туалету, при наследниках извлекла содержавшиеся там много-много лет письма, записки и бильеду[7] – разрозненные, связанные розовыми лентами, отложенные отдельно в драгоценные бювары, баулы, – и, бросив в печь, уничтожила. Она не отошла от печи, пока все прошлое бабушки не погибло в огне. А дóроги были бабушке эти клочки разноцветной бумаги, если она сохраняла их всю свою длинную жизнь! Умерла она без малого в 90 лет. Таких жизненных людей, пожалуй, теперь и не найти.
Бабушка принимала гостей в светлом платье, в старинных блондах[8] на голове и плечах, в бриллиантах. Немного последних сохранилось у нее, но с этими она не рассталась в самой крайней нужде. Тщеславия, старой спеси было в ней целое море. Эти вещи и знаменитый на всю Москву черно-бурый салоп, шитый в неведомые времена, играли в ее жизни первенствующую роль. Они употреблялись главным образом на удивление всего прихода. Она говорила: «Я угол полы заколю булавочкой и иду в церковь причащаться. Все и видят, какой мех-то. Натка Кроткова, небойсь, такого и не видала». А Кротковы были ее соседи, страшные богачи. «Агашка как салоп-то снимет да вывернет мехом наружу, так все и ахнут – медведь сущий!» И действительно, редкостная была лисица. «А то, – рассказывала, – приду в церковь, так незаметно стану на колена позади Кротковой, сама будто молюсь Богу, вся в землю да в землю, а улучу минутку, возьму ее за юбку – поверишь ли, из материи наперстки шить можно».
Завистлива она не была, а в богатстве было для нее что-то чарующее. Про Надежду Кондратьевну Боткину[9] говорила: «Неудивительно, что она такая покойная, ведь ее во всю жизнь блоха не укусила. А как чуть что, так и Петр Иванович тут». А «Петр Иванович» был доктор Боков, редкой красоты человек, составивший благодаря Надежде Кондратьевне громадную практику и состояние. Бабушка в этом случае говорила на два смысла: хоть Надежда Кондратьевна была всегда вне всяких подозрений, но уж у бабушки такой склад ума был. Она не судила, а [просто] так выходило интересней, пикантней.
Я все отвлекаюсь от именин. Церемониал был самый деспотический, никто и ни под каким видом уклониться от него не мог, хотя и упирались для приличия и для того, чтобы доставить ей удовольствие угощать. Начиналось истязание сладкой вишневкой, но отпускалось не больше двух рюмок: пьяных она не любила. Сейчас же она или Агашка подставляла тарелку с пирогом (курником): он бывал вершка в два с половиной вышиной, в нем лежали цельные куски курицы и фарш. Кричишь: «Бабушка, да я так много не могу». – «Да что ты, батюшка, Петр Петрович был, кушал, очень хвалил». Петр Петрович Боткин[10] был неоспоримый авторитет. «Бабушка, да ведь он с тарелки валится, я не могу столько». – «Да ты что, в самом деле, к себе домой, что ли, приехал? Сказано: кушай – и кушай на здоровье». Ну и ели, и всякий знал, что ему предстоит еще по такому же куску поросенка с хреном и знаменитой, белой, как молоко, индейки.
Чем дело шло дольше, тем у бабушки было больше доводов, почему все это надо есть: то эту индюшку мясник нарочно заказывал кормить орехами, то поросенок как-то особенно сварен, но самое безысходное было то, что в доме у нее надо было покориться судьбе, а ей можно было противоречить ровно настолько, насколько это поджигало ее хозяйские обязанности – угощать. Когда все было исполнено по-ее, она была довольна: «Ну вот, спасибо, доставил удовольствие, спасибо, теперь пойдем чай пить». А какой там чай, когда хлястик штанов уж давно распущен, иначе дышать было бы невозможно! Она провожала тебя в соседнюю комнату и сдавала там какой-нибудь родственнице, разливавшей чай, а на твоем месте шло истязание вновь прибывшего поздравителя. С чаем таких мучений не было: можно было пить или нет, чай уходил из-под ее контроля. Насчет сладостей она тоже не настаивала, все равно ими наполнялся изрядный кузовок, и они впихивались в последний момент в карету, набитую битком пятью ребятами и гувернанткой.
Над попами она подтрунить допускала и сама другой раз расскажет, что далеко было от уважения. Но службы, но обряды – о, это она знала до тонкости и все исполняла как по часам! В пятницу на Страстной необходимо было подержаться во время крестного хода за кисточку плащаницы. Это было так важно, как будто могло иметь влияние на всю жизнь! Она всю жизнь это и проделывала, только года за три до смерти уж слаба стала на ноги, что ли. «Только это я за кисточку-то, а кто-то подтолкнул, сам за нее ухватился. Я упала, так крестный ход по мне и прошел», – говорила она потом. Сильно помяли старушку – в первый раз в жизни в кровати лежать пришлось. Отлежалась, только уж той бодрости не было и как-то глаза раскосило.
Особенно сблизился я с ней, когда мне было лет 18. Наскучило мне ученье, а бросить его характера не хватало. Как в детстве развивался я особняком, так и в этом случае мне не хотелось поднимать разговора с братьями: начались бы пересуды, ядовитые насмешки. Словом, я не знал, как это будет принято, и вместо школы уходил с утра к бабушке и сидел до тех пор, пока время было возвращаться из школы.
Долго бы так продолжалось, только из училища был командирован к нам надзиратель – справиться, почему я так редко бываю в школе. Тут-то все и выяснилось, пришлось сделать решительный шаг, прошение подать об исключении из училища. Вот в это время бабушка и показала свою верность. Я ходил к ней часто. Раза три в неделю и в течение месяцев трех. Каждый раз она пыталась меня бранить, уговаривала учиться, а потом спохватится: «Да что же это я, ты, небойсь, озяб, выпей, выпей, говорят тебе, вишневки», – ну и начиналось кормление, конечно, не такое обильное, как в именины, а «что было в печи, все на стол мечи». Тут уж, можно сказать, она делилась своим последним куском, хозяйство у нее было крохотное: она да Агашка, обе древние, средства крохотные. Ну я старался ее не объедать, да и она бывала не так настойчива, привыкла ко мне, установились какие-то особенные отношения, основанные на тайне, а тайну мою никому не выдала, никому о моих визитах не проронила ни слова. А мне как-то везло, никто меня у нее не накрыл. Да кому, правда, была нужда тащиться к ней во всякую погоду, по будням, на Палиху с 10 часов утра и до часу. В это время все занимались своим делом и готовились к завтраку. Следовательно, расчет мой был верен, а мы-то с бабушкой в это время благодушествуем, болтаем про все домашние дела, как цветы растить надо: я уж в это время по этой части был авторитетом.
Прошло сколько-то времени, опять я у нее скрываюсь, опять она журит, а потом ушла в другую комнату и, вернувшись, сунула мне в руку маленький сверточек и говорит: «Бери да никому не говори». Вернувшись домой, я развернул бумажку и нашел две бриллиантовые пуговицы, очень старинные. Я потом из них сделал себе кольцо в форме змеи с двумя головами, а в головах у них были эти камни. И вот всю жизнь ношу это кольцо и вспоминаю деликатность бабушки, желавшей таким образом компенсировать мне. Через несколько времени Елена Васильевна подарила нам по неважному колечку из материнских вещей – на память. Очевидно, это было бабушкино воздействие.
Все бриллианты попали к сестре; и все еще оставалось их на крупную сумму, а у матери было их, должно быть, очень много. Бабушка рассказывала, что на один из маскарадов у Д. П. Боткина она явилась в костюме, подол которого весь был обит ее собственными бриллиантами. «И отчаянная была! – добавляла бабушка. Не боялась, что потерять могла. Когда танцевала – так вся и горела огнями». Насчет бриллиантов бабушка ничего не сказала, считая это добро фамильным, только вспомнила недобрым словом отца, что пропустил срок и детских вещей не выкупил.
Отрывками вспоминаю, как они с Марковой гоняли на тройках. Как и у Ильиных, на заднем крыльце висело полотенце, пропитанное лягушечьей икрой: люди приходили утираться этим полотенцем и это будто помогало от рожи[11]. «Так поверишь ли, – говорила она, – все полотенце-то черное стало, сколько народу им терлось». Куда девалось это чудодейственное полотенце – не знаю. Но, по словам бабушки, вся Москва того времени знала о нем – и помогало. Рассказывала она, что дедушка был поставщиком экипажей у Закревского. А Закревский был генерал-губернатор, любимец Николая I, временщик того времени. Фигура всесильная. Могу себе представить, что творилось, когда он куда-нибудь приезжал.
Деда Закревский любил и по делам ездил к нему сам и обязательно требовал, чтобы при разговоре присутствовала моя мать[12]. Она же была настоящая красавица, о чем можно судить по оставшемуся дагеротипу, относящемуся к этому времени. Уезжая, Закревский оставлял ей на булавки по 1000 рублей. Бабушка говорила об этом с удовольствием, но не думаю, чтобы мать чувствовала себя хорошо во время этих визитов и от этих подачек. Но время было такое. Многие бы желали добиться такой чести, и в словах бабушки чувствовалось, что она это и понимала как честь. Я думаю, что если бы попытаться объяснить ей, что я тут никакой чести не видел, то она, наверное, накинулась бы на меня и сказала бы: «Да ты что, в самом деле, ведь это Закревский дарил ей!» И, действительно, Закревский был всесилен и мог творить все, что вздумается. Мог без суда и следствия ссылать в Сибирь и по своему произволу миловать.
Бабушка уж выезжать и к Мякишевым[13] стала редко. Добралась как-то до нас после плащаницы. Глаза у нее почему-то раскосило, и это, должно быть, была причина ухудшения зрения. В этот раз я уговорил ее сняться – тогда мы занимались домашней фотографией, бывшей в новинку. Бабушка во всю свою жизнь ни разу не снималась, несмотря ни на какие просьбы ее родни, но тут дала себя уговорить. Снимать пришлось с магнием, фотография вышла неважно, а главное – нехорошо вышел глаз, очень заметно было, что он на боку, и я по глупости негатив уничтожил. Потом-то я себя ругал, да поздно было.
Шло время, пошло здоровье бабушки под горку. Стали пухнуть ноги, делали массаж, да уж где там – началась водянка. Слегла и довольно долго боролась она с ней, но смерть осилила, умерла бабушка. Первый, кто явился к ее праху, был Петр Николаевич Ильин[14] с мешком. Он запрятал туда знаменитый салоп и, как ворон, добывший пищу, умчался к своей супруге Марии Николаевне, которая, конечно, погнала его за ним, чтобы другие наследники не воспользовались. А наследников было пропасть: нас пятеро, Мякишевых четверо, Креска, Петр Николаевич да Морозова.
Александр Федорович вступил в исполнение душеприказчищьих обязанностей. Он оповестил родственников. Бабушку уж честь честью похоронили на Лазаревском кладбище, где хоронились все Ильины и вообще каретнорядские родственники. Наши командировали меня. А я и всегда был малый застенчивый и стеснительный. Приехав на это собрание и получив от Александра Федоровича предложение взять, что пожелаю, взял чайный сервиз, из которого чай пился только в именины, уж порядочно побитый, но все еще прекрасный как формами, так и удивительной окраской, какой потом мне и не попадалось, еще знаменитую куколку, ищущую, вероятно, и по сие время блох, и штук пять старинных чарок. Какой-то напал на меня стыд, и больше я ничего взять не мог – и сделал глупость. Куда девались потом все бесчисленные фигурки, чашки и всякие штучки? Так я никогда и не дознался и их не видал.
Через несколько времени, однако, нам были присланы еще часы, что только одну бабушку слушались, а сестре – великолепный серебряный умывальник с тазом и бархатное платье, какого на ней никогда не видал. Что получше, разобрали другие родственники, а мебель, считавшаяся уж в это время немодной, и много всякого «хлама» были свалены у Мякишевых в сарае, где, наверное, погибли зря. А за весь этот хлам через немного лет я рад был бы отдать большие деньги! Ведь в этом хламе погибли и гравюры, и гипсовые испанцы, и много такой старины, какой не найти ни за какие деньги, хоть сами по себе вещи были незначительные.
«Креска»
Самый любимый приезд Крески – [крестной], Елизаветы Михайловны Ильиной, в замужестве Мякишевой[15] – бывал весной, когда установится сухая, теплая погода. Этот приезд приносил с собой интереснейшее развлечение и занятие на целый день. С ее приездом ворота и калитки запирались наглухо, никто во двор не впускался с улицы. Отпиралась кладовая, и из таинственных саркофагов-сундуков извлекалось содержимое, выносилось во двор, развешивалось по веревкам, выколачивалось, чистилось, пересыпалось новым табаком и перцем и, взобрав свежего воздуха, «тени минувшего» опять на целый год отправлялись по своим саркофагам.
Любопытные это были дни, чего-чего не перевидаешь да и наслушаешься. Вот сундук с платьями матери, сколько их там? – целый сундук. Моды уже устаревшие, материи, каких в наше время уж не бывало – наперстки шить было можно. Вот белое платье из атласа, строчено лебяжьим пухом, в нем [мать] была на балу у Грушеньки Лепешкиной[16]. Вот с кружевами, подвенечное; к нему цветы и свечи, и газ, и кружева – все хранится и хранится по своим местам. Несут бархатное черное платье, широкое, гладкое, без отделок. В нем [мать] ездила в оперу, недавно сшитое, надевала всего два-три раза, а бархат настоящий лионский, в то время за аршин 12 рублей плачено, а материи пошло – счету нет, узенький. Такая была прочность, что сестра моя всю жизнь в торжественных случаях рядилась в этот бархат, перешивавшийся все на новый лад. Несут платья все новые: темное с полосками, белое с черными полосками. Рукава узкие, рукава греческие, с раструбами; под них поддевались рукава кружевные, широкие, чтоб из-под матерчатого выглядывали, как облако какое-то, перевязанное около кисти узенькими ленточками.
Из других сундуков появляются аксессуары: тут и кружевные накидки, и мантильи, и целые брюссельские воланы, испанские, серебряные от старости, блонды и чего-чего нет. Шали турецкие длинные, шали квадратные, самые драгоценные, с белыми середками, с середкой желтой, и бабушкина шаль тут, что на портрете изображена. Несут меха: тут и чернобурая, и бурая лисица, и банная шуба из красной лисицы; муфты, ротонды, боа, как змеи, круглые, длинные, все из соболей; отцовские шубы дорожные, громадные, из енотов, и много их – и городские, и для ходьбы, с бобрами. Шапка соболья – громадная, мы в нее рядимся, весело!
Появляется белье – батистовое шитое, строченное, – сколько глаз погублено! – уже пожелтелое, еще от Анны Григорьевны, от матери ее, все по сундукам валялось. Тут и столовое белье: одна скатерть человек на 60, с лебедями, к ней весь прибор – скатерти средние, поменьше, салфеток груды, и все с лебедями. Китайский ящик с китайской белой шалью, еще со страусовыми перьями, длинными, цветистыми, белыми – какая красота! Появляется обувь, шляпы, маскарадные костюмы. Между ними настоящее платье прабабушки времен Директории – узкое, короткое, из легкой плотной материи цвета коричневато-розоватого сомон[17], с полосками, и по ним тканым тонким рисунком в цвете, с поясом под самую грудь; декольте большое обшито шелковым тонким кружевом; рукава длинные, в обтяжку, а на плечах пуфы громадные, кисти рук в кружевах скрываются. К платью шляпа задорная, перья так и торчат пуком, а во все стороны и чулки, и обувь, и веер в два вершка величиной, черепаховый, с акварельной картинкой, по содержанию современной костюму. Тут и костюм субретки, с громадным чепцом, и ящик со стеклянными фруктами, связанными длинными гирляндами, – остаток от костюма «осень». Целая школа художественной промышленности и безумной роскоши.
Отец всего этого видеть не мог, на такой день уезжал куда-нибудь. Не вынесло бы сердце бедняги, ведь каждый клок материи, каждый башмак, перо, терзали бы его сердце воспоминаниями о потерянном счастье – исчезнувшей Леничке. Ко всему и мы относимся с благоговением, но наклонность к изящному, красивому так и тянет развернуть, посмотреть да и на себя напялить.
Был там еще зеленый железный сундук с музыкой: как его отпирать, так он звонит на весь дом – от жуликов. Знали мы, что в нем серебро лежало, а какое, сколько, не знали, [так как] сушить его не требовалось. Со временем добрались: чуть ли не битком набит был солонками в виде калачей, куличей, деревенских домиков; были кубки, бокалы, корзинки, сервиз чайный и много всякой всячины, кроме дедовского обеденного прибора. Толкового только мало было, добро больше дареное, и покупал всякий на свой вкус; были вещи и стильные. И куда все добро подевалось? Рассыпалось, чисто ветром разнесло.
Так гибло у нас наше старое русское добро, обрисовывавшее быт, вкусы, нравы. Насколько бабушка была креатурой начала XIX столетия и носила на себе отпечаток Екатерининской эпохи, настолько Креска восприняла влияния эпохи Великих реформ. Помню я ее с тех пор, как только себя помню, так как заботы о нас, хотя и поверхностно, она взяла на себя: раз в неделю приезжала к нам обедать. О ее детстве и юности знаю немного. Была у нее еще сестра родная, Людмила, и брат Сергей, дядя Сережа, как мы его звали[18]. С нашей матерью у нее большой разницы в годах не было, всего лет пять или семь. По-видимому, с ней она дружила. Сестру Людмилу очень любила, о ней рассказывала анекдот, случившийся при ее рождении.
Дед ждал во что бы то ни стало сына, а родилась дочь. Он так рассердился, что не хотел знать бедной, ни в чем не повинной девочки. Надо ее крестить, а ему дела нет. Поп спрашивает, как назвать? – как хотите, так и назовите, был ответ. Тогда поп и говорит: если отцу не мила, так пусть будет людям мила – и окрестил ее Людмилой.
Наконец дед дождался сына. Почему-то у Ильиных в родне особенно чтился преподобный Сергий. У всех старшие сыновья назывались Сергеями. Так было у Мякишевых, у Епанешниковых[19]. Епанешникова – дочь Николая Петровича Ильина[20], сестра Петра Николаевича. Муж ее был Василий Иванович, отличавшийся шишкой на лбу. У них старший сын был Сергей, Ильины назвали сына тоже Сергеем, и в нашей семье старший назывался тоже так. Чисто сговорились. Но, странное дело, все три ильинских Сергея, достигнув 18-летнего возраста, скончались[21], один наш остался цел.
Дядю Сережу, можно сказать, я почти не помню. Но хорошо помню день, когда утром рано, чего никогда не бывало, к нам приехала Креска, расстроенная, вся в слезах. Что такое? Брат скончался. Перед этим незадолго мы от излишнего баловства запустили кубиком в громадное зеркало, бывшее в комнате братьев, и его разбили. М. Ф., ворча на нас, сказала: «Теперь кто-нибудь умрет». И правда, через несколько дней умер молодой, прекрасный, подававший большие надежды юноша, которого все в доме на руках носили. Для Ильиных удар был ужасный. Гордость матери, надежда отца, друг сестры – все с ним погибло, он был единственный. Перед тем незадолго, достигнув 14–15 лет, умерла Людмила, осталась одна Креска. Она впоследствии в честь сестры окрестила свою единственную дочь Людмилой. Приезд к нам огорченной тетки доставил нам, ребятам, великое удовольствие. Мы ее любили. Приехала она не на один день, а надолго, мы радовались.
В отношении покойников тетушка была особенный человек: она боялась их так, что по случаю смерти любимого брата покинула дом и не возвращалась туда до тех пор, пока жилище его не было отделано заново так, чтобы ничто ей его не напоминало. Первым покойником, которого она увидала, был ее муж, умерший, когда ей было порядочно за 50 лет, а потом видела мать и больше во всю жизнь никого. Живых существ она не выносила – ни птиц, ни собак. С лошадьми примирялась, как с неизбежным злом. Особенно не любила собак, при виде которых поднимала руки вверх и кричала чуть не до слез.
C замужеством у нее вышел страшный карамболь[22]. Должно быть, на роду у нее написано было влюбляться в родственников. Вышел пламенный роман с братом ее матери, Валентином Кондратьевичем Шапошниковым[23]. Они друг в друга влюбились безнадежно, однако хотели надуть судьбу. Зная, что родители благословения не дадут, сговорились сыграть свадьбу в Питере, куда тетенька под благовидным предлогом и укатила, но вдруг открылся заговор отцу. Он помчался к Филарету, послали в Питер телеграмму: «Не венчать!» Филарет, митрополит, был гроза всех попов, моментально в Питере дело было обнаружено, и свадьба в самый последний момент была нарушена. Думается, это обстоятельство на всю жизнь наложило некоторую холодность на отношения между дочерью и отцом ее. Всю жизнь она носила траурное черное кольцо с дивным бриллиантом, подарок Валентина.
Долго держался Валентин и женился, когда был совершенно седым и с сильнейшей «пляской святого Витта»[24], на дочери Епанешникова, Елизавете Васильевне[25]. Не впрок старику пошла поздняя женитьба. Красавица Елизавета Васильевна пустилась во все тяжкие, посыпались Валентиновы денежки, как горох, и ребята тоже посыпались, только все на разные лица, сходства ни с отцом, ни между собой ни у кого не было[26].
«Креска», достигнув 38 лет, вышла замуж за 24-летнего Федора Александровича Мякишева[27]. Было то так. Свадьба состоялась в феврале 1880 года, а дед умер 1 апреля[28]. Он их благословлял образом, ничего не понимая, – за него образ-то придерживала все та же бабушка. А понимай он, что делал, не бывать бы этой свадьбы. Жених и невеста [не то] были двоюродные, не то она ему приходилась теткой – родство кровное да еще такая разница лет! Долго длился этот роман и все не мог разрешиться из-за его упрямства. А когда он лишился всякого смысла, тогда уж дело оборудовали.
Отцу нужен был женский глаз в дому, он был рад ей; у нее была уж испытанная дружба с ним, да и мы с заботами об нас были ей нужны; мы заполняли ее время и отвлекали от собственной несложившейся жизни. Она была большая и толковая франтиха. Когда приезжала к нам, только и толку бывало, что о модах; отец был человек со вкусом, она поверяла ему свои туалетные предположения, вертелась перед ним, показывая свои обновки, он критиковал их. Она занималась и нашими туалетами, но не скажу, чтобы сестра Леничка бывала хорошо одета, может быть, потому что шилось нам все дома. Заботы о приискании гувернанток были на ней; если это было неудачно, то не ее вина.
Нас было пять сорванцов, почти без высшего начальства. Отца, как я уж писал, мы почти никогда не видали, а она бывала не чаще чем в неделю раз. А тут еще безграничная любовь отца к дочке. Стоило ей сказать отцу слово, и гувернантки летели из дома. Мы это чувствовали и пользовались. Один был случай, ошеломивший даже нас, привыкших к таким переменам. Была нанята гувернантка с тем, что она переезжает к нам со своей мебелью. Переехала она к нам часам к четырем, а Леничка жила с ними в одной комнате. У нее были излюбленные кошки, которых она тискала и мяла как хотела, кошки становились как бы без костей, так она их вымучивала, чтобы не сказать дрессировала, укладывала их во всевозможные позы – одни ноги направо, другие налево. Кошки ее любили и не царапались. Одна из этих чудо-кошек всегда спала с ней. Пришло время ложиться спать, и новая гувернантка запротестовала, повернула разом больно круто, схватила кошку и вышвырнула из комнаты. Сестрица была ошеломлена таким невиданным поступком и бросилась к отцу с ревом и жалобами. Отец, как с ним часто бывало, сорвался, прилетел к ним в комнату и произнес только одно слово – «вон!» – указуя перстом на дверь. Была заложена лошадь в телегу, другая в пролетку, через 20 минут и вещи, и гувернантка уж удалялись со двора; торжествующая сестрица мяла кошку, мы за дверью торжествовали. Вереницы этих беспомощных особ проходили перед нами. Были блондинки, были брюнетки, были певицы, были кокетки. Всяких было, но не нашлось такой, которая забрала бы нас в руки. В большинстве случаев они были институтки, и их институтское воспитание никуда не годилось в такой шайке безначальных баловников. Как дети мы были неплохие, отцовское наследство только сказывалось в нас. Ольга Макарова лучше всех поняла нас, придумав характерное прозвище: «горячие печенки».
А самое замечательное, что Креска дожила до глубокой старости и, возможно, она еще и теперь здравствует, имея больше 80 лет. Но дожив до таких лет, переплыв через значительные и часто очень тяжелые житейские невзгоды, она осталась все так же молода душой. Так же кричала «ура», когда били немцев, так же плакала, когда ее патриотическое чувство страдало от поражений. Ее можно назвать патриоткой чистой воды. Будучи русской, она любила Россию всеми фибрами души, Россия для нее было все, Россия была ее честолюбием. Кабы все были, как она, не то было бы на Руси! Монархия – не монархия, давай так, чтобы было лучше; за то и Александра любила, что большие надежды подавал, а когда запнулись эти надежды, осторожно критиковала; а при понятном движении Александра III ругала всех и вся, а в то же время бывала в неистовом восторге, если узнает что-нибудь на манер того, как Александр Бисмарку стол вдребезги кулаком расшиб. Хотелось ей видеть Россию сильной, с Константинополем; от речи Алексеева после закладки Черноморского флота, сказавшего царю, что крепнет надежда наша на то, что воссияет Крест на Софии, ревела, хоть [потом] «курс наш полетел», а в Европе поднялась тревога.
Любила она музыку, понимала ее и хорошо сама играла на рояле. Концерты Рубинштейна приводили ее в неистовство, она плакала, и хлопала, и ногами топотала, сидя где-нибудь на галерке, что «по-ильински» и «[по-]боткински» было недопустимо. А ей было все равно, бабушкиного «салопного тщеславия» у нее не было, а была у нее любовь к музыке, гордость этой музыкой и, наверное, было у нее такое чувство: «На-тка, Европа, такой у тебя нет!» Прочтут, пожалуй, наши умники мои строки и скажут: «Квасной патриотизм». А какому же ему и следовало быть? С «шампанским патриотизмом» дошли теперь до состояния – хуже татарщины. Я думаю, если б французы пожелали отдать на беженцев одни проценты за деньги, что пропиты были на шампанском за последние десять лет царствования Николая, то свободно хватило бы прокормить беженцев с полгода, а пожалуй, и целый [год]. «Нет, – говорят, – нам и самим жрать нечего. Ступайте под расстрел к большевикам или в Бразилию в рабство и к желтой лихорадке в гости».
Портрет
В комнате братьев на стене рядом висели портреты дедушки, Федора Никифоровича, и бабушки, Прасковьи Ивановны[29]. Были портреты довольно большие, в золотых рамах. Деда мы любили, а к бабушке относились без уважения, за что-то ее не любили и в конце концов избрали ее [портрет] мишенью при стрельбе из луков, которые сами себе и устраивали. Собственно, «бабушке» от наших луков большой опасности не было: луки делались из тонких палок, а вместо тетивы употреблялась простая бечевка. При таких условиях прорвать полотно было трудно, главным же нашим желанием было угодить ей в глаз. Но так как все на свете усовершенствуется, то и лук наш был однажды сделан из сучка любимого дуба, натянута здоровая веревка, о «бабушке» в это время не думалось, она уж привыкла к нашим покушениям, не прорывалась, а мы тоже привыкли думать, что она терпелива. Одним из первых выстрелов стрела угодила ей в горло и повисла. Мы струсили, бросились к портрету, стрелу стянули, а на месте ее зазияла в горле у «бабушки» порядочная рана. В испуге кое-как постарались выровнять бока раны – и стало не особенно заметно. Происшествие обошлось безнаказанно, но мы спохватились и свои нападки на «бабушку» бросили.
Прошло время, дом был продан, часть обстановки поехала на новую квартиру, а хлам отправлен на дачу, в то число попали и портреты. Они висели там в гостиной и оставались на месте до смерти отца. Деда мы любили, и брат мой, Миша, взял его портрет в Москву, где он был умыт и вычищен, покрыт новым лаком и получил новую раму, а бедная «бабушка» осталась на даче, оторванная от супруга, и наконец исчезла, вероятно, попав на чердак. Шли годы, мы и забыли, что была у нас бабушка; в 1900 году завод и дачи были проданы заграничной компании. Хорошую мебель мы постепенно вывозили, а какую считали неважной, так и оставили там, а об чердаках никто и не подумал.
Опять шло время, был я женат, любил по воскресеньям бывать на Сухаревке. Иду однажды и вдруг вижу: в лавчонке на гвоздике, в скверной раме, висит портрет. Я так и остолбенел: да никак это бабушка? Глазам не верю, присматриваюсь – она. Сделав равнодушный вид, подхожу и спрашиваю: «Что стоит?» А лавочник знал меня и говорит: «На что вам такая рожа?» Я было опешил, но спохватился и говорю: «Ставим любительский спектакль, будем играть из Островского, так такой купеческий портрет нам для обстановки пригодится». – «Если так, лучше не найти, – говорит лавочник, – цена же по этакому случаю пять рублей». Я – торговаться, чтобы не показать своей радости, дал трешник, наконец сторговались, и я в некотором волнении возвращаюсь домой. Зову жену, кричу: «Смотри, что я купил – бабушку!», а она: «Да ты почем это узнал? На что нам Бог знает чей портрет?» Долго пришлось ее убеждать, но она относилась недоверчиво.
Вдруг я разглядел дыру в горле – и мне все стало ясно. Кому-то пришла охота почистить мытищинские чердаки, и «бабушка» наша увидала опять свет Божий. Одно было удивительно – что вернулась она опять домой. Я заказал хорошую раму и устроил ее в своем кабинете. Долго жена моя не могла примириться с ней, но кроткий вид бабушки ее победил наконец. Прошло еще несколько лет, приехал ко мне реставратор эрмитажных картин Д. Ф. Богословский, я просил его избавить «бабушку» от старинной раны, что он с удовольствием и сделал, так как нашел портрет работы высокого мастера. Наконец-то бабушка попала в почет, с портрета была снята крупная фотография, а один экземпляр включен в альбом портретов Третьяковской галлереи с объяснением, чей портрет. История поучительная, но как она разыграется дальше – это вопрос, так как портрет этот вместе со всем моим имуществом попал в лапы большевиков и вероятно, что после кратковременного счастливого периода попал в условия неблагоприятные. Как схожа история этого портрета с моей!
Чашка
Несмотря на такое варварское отношение к бабушкиному портрету, у нас всех было чувство, мерившее красоту вещей. Даже между двумя портретами мы разобрались – один любили, другой нет. Но тут были личности, ценность самих портретов роли не играла, да и вообще, время такое было. Не мы одни были варварами. Сами антиквары говорили мне, что приблизительно в это время сами топили печи мебелью красного дерева. Некуда было девать. Дворянство, сильно пострадавшее при отмене крепостного права, разорялось и выбрасывало на рынок свое излишнее движимое имущество, а входившая в силу буржуазия обставляла свои жилища мебелью новой. В красном дереве выработался строгий и часто громоздкий стиль империи. Буржуазия, не обладая тонким вкусом дворянства, требовала чего-то нового, игривого, легкого, и с появлением в Москве фирмы Шмидта вошел в моду хоть и не новый, но обновленный стиль Людовика XV. В это время женился отец, и Шмидт, обставляя ему дом, тоже наполнил его такой мебелью, старая же вся была убрана в специальную кладовую. Туда же попал и дедовский секретер, мы его знали и любили, и никогда не посягали на его целость. То же было и с фарфором.
Были еще в старом шкафу удивительные графины старинного богемского хрусталя светло-зеленого цвета, с насечкой или инкрустацией – не знаю, как назвать, – из серебра и золота. Они попали к Сергею Васильевичу, и как я ни старался потом выручить их от него, так и не удалось. Мне же из этого добра досталась всего одна чашка, не привлекавшая никого. Это была чашка отца, которую он всегда употреблял. Она была большая, синего кобальта, с большим медальоном из цветов и золотым орнаментом. Не знаю, сколько лет употреблял ее отец, но почти все золото с нее стерлось, в одном месте она была ушиблена и в общем имела вид очень непрезентабельный. Отец же к ней привык и никакой другой знать не хотел.
Однажды случилось несчастие. У отца в гостях был его приятель, некто Иван Федотович Кравченко. Для чего-то ему потребовалось блюдечко от этой чашки, он взял его, а оно и выскользни да на пол – и разбилось. Он ужасно был смущен и огорчен. Отец же совершенно был выбит из позиции: он и не воображал, что когда-нибудь чашка разобьется. Чай он часто пил с блюдечка. Положение стало трагическим: отец мог умереть от жажды, так как другого сосуда не допускал. Скоро потом приходит Иван Федотович и приносит чашку императорского завода с маркой «А II». Но она была совсем другого фасона: это была скорей кружка с крышкой и на большом блюдечке, белая и с золотым рисунком. Отец взглянул на чашку, поблагодарил Кравченко, взял блюдечко, а кружку отдал обратно. И опять начал пить чай из своей чашки с другим блюдцем.
Это трагическое происшествие напомнило мне об Иване Федотовиче. Он был из хохлов, сухенький, тоненький старичок, весь бритый, с короткими и жидкими волосами на голове, с остреньким носом и беззубый, почему, когда он говорил, шамкал. По наружности нельзя было сказать, сколько ему лет. Долго потом мы его знали, и все он был такой же. Отец любил его за великую честность. Знакомство же с ним было старинное. Он был юрист и в это время служил в сиротском суде, где честные чиновники были за редкость. Отец ему был обязан за услугу, оказанную еще деду. Был у деда какой-то путаный процесс, а в те времена, бывало, не дай Бог начать судиться, можно было потерять все. Крючкотворы-чиновники выматывали души у судившихся, и процессы тянулись десятками лет. Дед мой и попал в такую историю. В чем она заключалась, не знаю, но сыр-бор загорелся, кажется, с того, что к деду во двор забежала бубновская курица, а Бубновы были богатые купцы и жили неподалеку от нас. Они пошли судиться, и завязалась такая каша, что дед умер, а процесс не кончился. Деду грозило разорение, возможно, что и печень у него разболелась от этой причины, следствием чего он и скончался. Вот Кравченко-то и распутал весь этот узел, процесс был выигран, и все обошлось благополучно.
Времена были глубоко монархические. Царь и власть обоготворялись, и деды наши были людьми самыми верноподданными. Проявление какого-нибудь вольнодумства было невообразимо. Помню, как отец мой, сидя за вечерним чаем, разговаривал с кем-то не то о каракозовском покушении, не то о нечаевском происшествии в Разумовском[30], взглянул на нас и сказал: «Если кто из вас пойдет по этому пути, так я лучше…» – и не договорил, а провел себе пальцем по горлу, как бы желая сказать «покончу с собой». Как мало потребовалось времени, чтобы перекувырнуть эту твердыню, казавшуюся тогда слитой из стали! Всего через 38 лет после смерти отца от царизма даже пыли не осталось.
Монастырь
Несомненно, природа моя имела большую наклонность к идиллии. Маленький, любил я ходить гулять по нашей Воронцовской улице. Там в одном доме росла верба, и ветви ее перегнулись через забор – ходили наблюдать, как развивались ее шишечки, смотря на них, ожидали весну. А еще пройдем подальше – там Ново-Спасский монастырь. В него ходили редко, но всегда производил он впечатление и поэзии, и святости. Пройдем под громадной и великолепной колокольней, а там приземистый старый собор о пяти голубых главах с золотыми звездами. Идем по чугунной звонкой лестнице на паперть. Вся она зарисована: на низких сводах по потолку родовое дерево бояр Романовых, в склепе под собором их могилы. Все думалось – святые, коль изображены в соборе. А изображено было в каждом листе этого дерева по Романову, во весь рост в соответствующих костюмах. Что-то было в связи этих могил и этого дерева, что настраивало душу высоко, благоговейно. По стенам же паперти были разные картины, но внимание привлекал Страшный суд; на нем изображался громадный змей, перевитый белой лентой, а на ней написаны были всякие грехи, между прочими – «плясание». Жуть брала от этой картины, а каждый раз, как мы попадали в монастырь, так в первую очередь я стремился взглянуть на нее.
В храм вела заделистого рисунка решетчатая дверь, весь он в золоте, образа старинные – все производило глубокое впечатление. Но действительно потрясающее впечатление производил Спаситель в темнице: была при соборе маленькая комнатка и в ней находилась статуя Спасителя в страдальческой позе, с терновым венцом на голове, кровь струилась по изможденному лицу, освещенному через маленькое оконце с железной решеткой. Через это окно и смотрели. Как заглянешь в него, так ужас тебя и охватит. Во всей России только в двух или трех монастырях и была такая штука.
Побродив по собору, выберемся на кладбище, а было там несколько замечательных памятников, а один так прямо просился в музей. На нем из бронзы, больше человеческого роста, были изображены Вера, Надежда, Любовь; памятник был работы знаменитого русского скульптора времени Александра I, Витали. Не уйду с кладбища, не полюбовавшись на него. Да и вообще задумчивая обстановка кладбища привлекала. Старые березы, пошатнувшиеся памятники близ старых стен, храм с небольшими окнами в амбразурах, кругом же крепостные стены, башни и тишина. Много поэзии в наших старых монастырях.
Покровский такого впечатления не производил, весь он был новый, однако туда приходилось при отце попадать несколько раз в год: служили панихиды, заказывались обедни. Все это совершалось торжественно, потому что отец платил хорошо, и был там положен капитал на вечное поминовение. Служба наша при отце обычно совершалась в большом соборе. Говорили, что в алтаре была колонна, в которую ударил гром (так и говорилось, что гром ударил). Я сам ее не видал, а думаю, что монахи нарочно разболтали эту штуку, чтобы святей казаться. Настоящей святости в этом монастыре было мало, братия была распущена, пьянствовала. Монастырь был страшно богат, так как хоронилось в нем богатейшее купечество.
Образ
А между тем домашняя жизнь шла своим чередом. Должно быть, увидал отец, что урастать мы от гувернанток стали, и по рекомендации Русаковых пригласил к нам в репетиторы Димитрия Николаевича Димитриева. Сперва был он и сам гимназистом, а за время, пока жил у нас, поступил в университет по юридическому факультету. Собственно, он был нашим не воспитателем, а старшим товарищем, и опять-таки – для старших братьев, а я оказался ни в тех, ни в сех. Гувернантки относились теперь целиком к сестре, а я, младший, к той компании не пристал: шел мне всего восьмой годок. Так я около Ольги Макаровой и притирался, а кроме куренья и, правда, благонравия от нее ничему научиться не мог. А так как дом у нас небольшой был, то в комнате у братьев появилась третья кровать и Димитрий Николаевич в самое короткое время получил прозвище «дядя Митяй». Впоследствии вся Москва его иначе не величала.
Парень он был длинный, как мы все, некрасивый, волоса торчали у него во все стороны, негустые, тонкие, но не подчинявшиеся прическе, а по складу своего характера он за ними и не гнался. Тем больше, что он знал, что некрасив и что ни делай – не исправить. Его особенно безобразила кожа на лице: она была красная, угреватая и вечно в волдырях и бутонах. Человек же он был жизненный, умный, всегда веселый и готовый выкинуть самый неожиданный фортель. Чем больше жили мы вместе, тем больше сближались, хотя, я все говорю, эта касается больше страших, а так как я путался в хвосте, то и я любил его, и мы были приятели. Меня он репетировал, и горькое осталось от этих занятий воспоминание.
Был праздник, с вечера я басню какую-то не вызубрил, заставил он меня зубрить ее с утра. Погода чудесная, зубрю-зубрю, а сам все в окно смотрю. Дело было весной, наши все в саду, пошли все без пальто, как в комнате были, а переход от зимнего положения всегда радует. Зубрю-зубрю – не только запомнить не могу, просто смысла не понимаю, что зубрю. Приходит раз Митяй, пришел второй – я все ни с места, пришел в третий – все то же; рассердился, поставил на колени в угол, под образ. Конечно, горе! Реву как белуга, а он ушел – где же тут что-нибудь учить? Присел я на каблуки, горюю – и пустился в горькую философию насчет печальной моей судьбы. Так ничего и не выучил до самого вечера, пропал чудный день. Это единственное наказание, какое помню. Но наказывали нас, наверное, все, да толку было мало. Нужно было что-то другое.
Вспомнив об образе, не могу пройти его молчанием. Висел он в комнате старших. Это был большой образ, пожалуй, в аршин вышиной и в три четверти шириной. Как попал он к нам в дом, никто не знал, вопрос об этом возбуждался с отцом, но и он разводил руками. Знал он только, что в доме у нас образ известен с 12-го года, а где был раньше – неизвестно. Перед образом этим горела неугасимая лампада. Отец очень его уважал и ценил за то, что весь был он в мощах. Изображал он овальный венок, в который были вплетены красные камелии, и в центре каждого цветка были мощи. Внутренняя часть венка имела белое поле или фон. В нижней части этого поля был месяц, и на нем во всю вышину венка стояла Божья Матерь в короне и с Младенцем на руках. Она была одета в хламиду темно-аквамаринового цвета, с золотыми тенями, над короной реял голубь, и выше, вне венка, виднелась фигура Бога Отца по пояс, распростершего руки над венком, а из уст Его в виде сияния расходились тонкие золотые полоски. Пространство, выходившее за пределы венка, было темно-зеленоватое с золотыми мазками. В углах располагались медальоны с мощами и миниатюрные образы святых. Свободное же место над венком и до миниатюр представляло из себя звездное небо, и тут же красовалась круглая красная луна с обычным, как и рисуют, лицом.
Исключительно тонкая работа образа, необыкновенное его содержание интересовали многих. Приезжал даже Мартынов, известный знаток русской старины. Смотрел, смотрел, но ничего сказать не мог. Сделал только предположение, что образ католического происхождения. Но какой он там ни был, для нас он был удивительно красив и ощущалась какая-то гордость, что у нас есть такой образ, какого нигде нет. Для отца же он был святыней, он не считал себя достойным обладать таким количеством мощей. После смерти матери он хотел отдать его Покровскому монастырю при условии, что образу будет дано место, соответствующее святости, но монахи отклонили предложение, так как достоверность мощей нельзя было доказать. Так, слава Богу, он у нас и остался и потом перешел к старшему брату, где был до последнего времени и, вероятно, и теперь цел, так как не было слухов, чтобы имущество его было ограблено. А поскольку зять его у большевиков на службе, то тем больше это вероятие.
Был еще у нас серебряный овальный медальон большой древности. Если его открыть, то показывался образок Божией Матери, его можно было отложить, и под ним была слюда, прикрывавшая темную массу, заключавшую в себе прямо невероятные святыни – [частицы] ризы Господней, ризы Божией Матери, древа Господня и т. д. Об этом гласила мелко награвированная надпись на обратной стороне образа. Этот медальон был у меня и теперь, конечно, погиб. Можно сомневаться в подлинности этих святынь, но у отца, верившего слепо, медальон был в большом почете. В киоте у него стояла еще стеклянная баночка, завязанная простой бумажкой. В ней находились выварки от веществ, из каких варится миро. Это была темная масса с хорошим запахом. Мы между собой говорили, что в банку запрятан кусок египетской тьмы и, если банку развязать, она выскочит и наступит опять тьма.
«Серебряный пятачок»
Чем больше пишешь, тем больше открывается горизонт таганских воспоминаний. Еще задолго до Митяя специально к Сергею Васильевичу и Мише ходил учитель. Это был Алексей Павлович Кикин. Я его не помню, знаю только, что у него была черная борода, очевидно, он занимался первоначальной подготовкой братьев к училищам. О нем сохранилось два воспоминания. Он был потомок Кикина, которого Петр Великий велел повесить. Кикин наш ненавидел Петра и ругал его всячески. Другое помню, что поглощал он невероятное количество воды. Он разом выпивал целый графин, а за сутки, сказывал отец, он выпивал больше ведра.
Архитектором у отца был Никифоров, звали его Михаил Илларионович. Я с ним почему-то был страшный приятель – как приедет, так я у него на коленях. Это был черный красивый человек с особенной походкой: идя, он как-то приседал, и это мне нравилось. Он обещал подарить мне тросточку и действительно подарил; я был ужасно доволен.
Отец начал заниматься выпиливанием рамок, кронштейнов и всяких таких штук. Такие работы тогда были в большой моде, даже Креска и та занималась этим делом. Эти работы отец производил в зимнем саду. Сад был небольшой. Прямо против двери из спальной была устроена горка, на которой стояли растения; перед горкой находился какой-то мудреный комнатный парник, отапливавшийся лампой, от которой шла копоть, воняло, и, кажется, у отца ничего не выходило.
Налево по стене стоял письменный стол нашей матери – крохотный, изящный, с решеткой кругом, на двух гнутых ножках, переходивших в подножье, расходившееся уж в четыре ножки. Между этими двумя ножками на подножье была устроена мягкая подушка для ног. Где он? – пропал бесследно. На столе стояла чернильница матери из темной бронзы: это был тюк, увязанный веревками, он открывался, и в нем была крохотная чернильница; рядом стоял моряк, он снимался и превращался в печать; на нижней его части было выгравировано «Е. Ч.».
На противоположной стене, на полках лежало много отцовских инструментов, а к стене был приделан его верстак, на котором он и работал. У нас осталась единственная его работа – рамка из какого-то очень крепкого дерева; в нее вставлен портрет матери во весь рост с отцовской надписью, если не ошибаюсь, «1866», годом моего рождения.
Помню, как, очень еще маленьким, нашел на нашей Воронцовской улице в снегу серебряный пятачок. Мне говорили, что я счастливый. То же говорили и по поводу моего красного пятна на лбу. Еще помню радость и горе по случаю красного шара. Кто-то подарил мне шар, довольно большой, я любовался его цветом – и упустил. Счастье и горе сменились чрезвычайно быстро. Помню ощущение случившегося несчастия.
«Верба»[31] бывала на дровяной площади, аккурат против дома Мякишевых. Это было очень давно. Базар тогда был еще невелик, покупка «морского жителя»[32] радовала, а манипуляции «жителя» приводили в недоумение: то книзу, то кверху, а то еще танцует. На другой день завязка ослабла, «житель» напился воды, я его вытащил, воду высосал, а резинку завязать не мог, мала была – так, к горю, игрушка и пропала. Всегда потом «жители» были недолговечны, но всегда я любил их.
Именины
Мои именины, бывающие на третий день Рождества[33], всегда собирали у нас родственников. Утром отправлялись в Покровский монастырь, служилась панихида: дед в этот день бывал тоже именинник. Служился молебен, потом возвращались домой к завтраку. К обычному времени приезжала Креска с фунтом конфет и бабушка, привозившая свой фунт карамели для всех, а другой специально для меня; бывала Вера Михайловна («кислая тетка») Челнокова[34] – тоже фунт эйнемовских. И кто бы ни приезжал – все по фунту эйнемовских конфет. Урожай бывал различный, когда фунта два-три, а доходило иногда и до десяти. Отец обыкновенно дарил рублей три-пять – деньгами. У нас эти деньги скоро исчезали, а Миша был бережлив, отдавал их отцу, и они хранились в кабинете в шифоньере, в копилке-домике.
К этой копилке у меня было особенное отношение. Она была хорошенькая, запиралась маленьким висячим замочком, а в ней лежали свертки небольшие с нашими крестильными крестами и золотыми монетами, подаренными, вероятно, «на зубок». На свертках рукой матери были надписи, кому принадлежит. Впоследствии и это добро попало к сестре. Монеты как-то выручили, и я, помню, проел их, когда жили в доме Дабо на Чистых прудах, где умер отец, на груши Бере Александр[35], тогда только что появившиеся. А что касается крестов, то сестрица уже после замужества дала мне какой-то, по году совершенно не подходящий к моему рождению. Ее часто звали крестить – то управляющий заводом, то Курочкин, и, вероятно, чтобы не тратить своих денег, пускала в оборот наши кресты. А когда я спросил – сунула, что было.
Почему-то конфеты сыпались мне больше, чем другим. Но однажды братцы подложили мне свинью. Мне очень нравились по виду буль-де-гом[36], я себе купил. А они распространили известия, что Федя любит буль-де-гом. Пришли именины, урожай был особенно удачный, но все один буль-де-гом. Настоящий град буль-де-гомный! Но каков бы ни был конфетный урожай, через один-два дня он исчезал. Я ел досыта, до отвала, помогали наши. Но ужасный буль-де-гом весь обрушился на мой бедный желудок. Я его возненавидел.
Смерть отца
Между тем смерть приближалась к отцу и его похитила [в октябре 1879 года]. Началось обсуждение, как с нами быть. Появился на сцене дядя, Иван Федорович. Он был назначен попечителем над старшими, а Курочкин – моим опекуном.
Новая жизнь начиналась в условиях очень печальных. Был сделан баланс, и по нему оказалось, что все наше состояние, за исключением движимости, выражалось в 15 000 рублей. То есть по 3000 на душу. Дядя настаивал завод продать. Он, вероятно, больше всего боялся за деньги, которые мы были ему должны. Остаться жить в нашей квартире мы не могли, она была дорога и ни к чему велика. Продолжать отцовский образ жизни было невозможно. С Екатериной Ивановной пришлось расстаться, лошади были проданы.
Была найдена квартира в особняке, разделявшемся на две части. В одной поселился Курочкин с женой и [устроена] контора с молодцами, другую часть с мезонином заняли мы. На нашу долю пришлось пять комнат: гостиная, столовая, Ленина и две для нас. У Курочкина было две комнаты. Домик был маленький, комнатки крохотные. Но обставились они очень красиво, лишнее все уехало на дачу.
Нас занимала новизна положения. Собственно, последняя тень начальства в лице отца отсутствовала. Курочкин, обращавшийся ко мне «хозяин», тоже не был лицом, имевшим власть над нами. Дяде Ивану Федоровичу до нас дела было мало. Я думаю, он и от своей семьи был в ужасе, а тут еще пять человек, о которых надо заботиться; он, конечно, заботился только о своих деньгах. Вся движимость поступила в наше распоряжение, и помню, как Сергей Васильевич, усевшись у отцовского письменного стола, вытаскивал бумаги, рвал их – и пол все больше покрывался рваной бумагой. Какой это был критик, взявший на себя производство такой экзекуции над отцовскими бумагами? Теперь думаю, что погибло там много интересного.
Елена Васильевна стала полной распорядительницей всего того, что было в знаменитой кладовой, и мы толком и не знали, куда теперь девались ее «саркофаги». Мы трое были ни в тех, ни в сех. Кому-то надо было управлять делами, а если не управлять, то приучаться к ним, чтобы со временем мог управлять. Естественно было, что бразды правления должны были попасть к Сергею Васильевичу как к старшему. Так это и было сделано. Но при жизни отца он не получил никакой подготовки и попал в совершенно несвойственную ему обстановку. Фирменные деньги находились у мальчика, которому только что минуло 19 лет. Он начал кутить. Не хватало денег, он закладывал отцовское золото – часы, дивную табакерку, что подвертывалось. Положение было совершенно ненормальное. Дядя настаивал на продаже всего дела.
Курочкин наш, привыкший к старым Челноковым как к своим властелинам, против дяди идти не решался, но в то же время чувствовал, что мы окажемся абсолютно без средств. А что делать с такой охапкой уже сильно набалованных ребят? А кроме того, дело он узнал и видел в нем «золотое дно», как выражался о нем отец. Он начал интригу через меня. Я должен был ехать к Валентину Шапошникову и просить его воспрепятствовать продаже дела. А Валентин был заинтересован в наших делах, так как мы были должны и ему. Затем он послал меня к Надежде Кондратьевне Боткиной объяснить, в чем дело, чтобы Петр Петрович принял участие в нашем деле.
Тем временем А. А. Шапошникова стала приглашать нас всех к себе, и мы нашли у них радушный прием и сверстников, и в конце концов образовался триумвират из П. П. Боткина, Валентина Шапошникова и К. К. Шапошникова, взявших наше дело, так сказать, под свой финансовый контроль. За спиной триумвирата стояла Надежда Кондратьевна, жена одного и сестра двух других.
Как только это выяснилось, так во всех банках открылись для нас кассы, и дело наше не боялось больше выданных векселей, кредит наш стал на твердую почву. Миша был отправлен на завод. Когда Миша стал говорить, что в заводском деле он ничего не понимает, Петр Петрович ему сказал: «Тебе и не нужно ничего понимать, сядь у окошка, чтобы все видели хозяина – и одного этого будет достаточно». Миша поселился в конторе завода, было ему тогда около 16 лет. Сергей Васильевич был хозяином в Москве. Делом же управлял Курочкин. Дядюшка, успокоенный за судьбу своих денег, лишь подписывал необходимые для Сиротского суда бумаги. На счастье, цены на кирпич сильно поднялись, кирпич наш оказался лучший в Москве, его не хватало. Домашний расход понизился до минимума.
Мы с Васей, конечно, шелаберничали[37], но вреда делу не причиняли, а поведение Сергея Васильевича становилось все шумней. Здоровье жены Курочкина становилось критическим, и в один летний день она умерла и лежала на столе их гостиной. Сергей Васильевич отсутствовал целый день, ничего об этом не знал. Он вернулся домой, когда настал другой день. Не желая обнаружить своего позднего возвращения, звонить он не стал, а полез в открытое окно курочкинской гостиной, где была спущена занавеска, а за занавеской стояла монахиня и читала по покойнице. Вскочив в окно, он увидал картину, о которой за минуту и не думал. Жизнь и смерть столкнулись. Сергей Васильевич моментально улепетнул, покойница осталась лежать, но монахиня вообразила, что черт пришел за ее душой, и подняла страшный крик. Выскочивший из соседней комнаты Курочкин выяснил, в чем дело, и чтение пошло дальше.
Так начинала разбираться наша жизнь. Рассказанное происшествие не образумило братца, он продолжал в том же стиле. И если бы не Курочкин, а с ним триумвират, то мы пошли бы по миру. Тогда были приняты меры к устранению старшего братца, и в январе 1881 года П. П. Боткин отправил его в ссылку в Кяхту[38] под начало Алексея Васильевича Швецова, а его место занял Миша. С тех пор дело пошло, быстро развиваясь, а мы с Васей шелаберничали. Об нас никто не думал.
Живя на заводе, Миша ознакомился, что там делается, и, приняв московское дело, получил разом общий надзор за всем делом. Он начал проводить мысль, что печь была так велика, что если приставить к ней незначительную пристройку, то она будет в состоянии работать за две. Он убедил в этом Петра Петровича и остальных, деньги нашлись, а требовалось построить для этого почти такой же комплект сараев, какой уже был. Все это осуществилось, завод пошел работать марш-маршем, тем больше, что цены росли, Москва взялась строиться, доходы увеличились больше чем вдвое, так как администрация оставалась все та же. И уж в немного лет мы вышли на чистый воздух, а через лет десять наше состояние выразилось в цифре больше чем в 200 000 и все долги были уплачены. Отцовское название «золотое дно» оправдывалось.
Всем своим благополучием мы были обязаны Курочкину. Как воспитатель он, конечно, ничего сделать не мог. Но он не дал продать завод, а не давши совершиться этому делу, он разрывался на части, чтобы не дать ему погибнуть – он закладывал свое последнее достояние, чтобы оплачивать наши долги. Не успевали его выигрышные билеты выскочить из закладной конторы, как попадали туда же. Когда же открылся Боткинский кредит, то в этом нужда миновала. Но, как это часто бывает, плохо мы, глупые мальчишки, отблагодарили этого исключительного по благородству души человека. Мы его любили, но ценить по заслугам не умели, о чем будет дальше. Все-таки этот грех главным образом лежит на душе Василия Карповича Шапошникова[39].
Тетрадь вторая
Отрочество
Дом
Дом наш, благодаря отсутствию матери и болезненному состоянию отца, был не таким домом, как Боткины, Мякишевы или Самгины. Люди на манер Самгиных, Шапошниковых придут, понюхают и уйдут. У нас не было, что называется, теплого домашнего очага, около которого всем вновь приходящим было бы уютно и тепло. На самом деле жизнь была невеселая. Отец все больше опускался, хотя мы толком не знали, в чем дело, но чувствовалось, что средства слабеют. Бывали дни, когда Курочкин, озабоченный, не знал, где взять денег для оплаты векселей. Приехал как-то дядя Иван Федорович[40], был шумный разговор, о чем – не знаю, при нем не присутствовал, но говорили громко, и мы узнали, что бриллианты матери погибли в залоге. Узнали, тоже случайно, что завод заложен – и опять потому, что проценты не из чего платить. Курочкин погнал к Валентину, заплатили, однако должны были и по закладной, и Валентину.
Отцу было нелегко, он делался все мрачней и опускался больше; опускаясь, больше сторонился нас. Мы чувствовали домашнюю тяготу, она сильнейшим образом отразилась на нас; конечно, молодость растушевывала особенно мрачные тени, в общем же жилось как бы под тяжелым гнетом. Однажды отец пришел к нам в комнату, сел – вдруг схватился за грудь, начал рвать с себя жилет, разорвал рубаху и тер грудь. На лице было видно страдание. Что это было, мы не знали, а должно быть, какой-то сердечный припадок. Как с погибающего корабля крысы бегут, так и от нас уходили люди: и Креска, и бабушка, да и неизменные «Русачихи»[41] появлялись редко. Мы оставались одни, да и между собой спайки не было. Стали, однако, умней, дружили с Екатериной Ивановной: имея громадную квартиру, искали приюта в ее комнате. Я же все больше привязывался к Курочкину, который с молодцами и бухгалтером продолжали жить, как и в Таганке, с нами. Прибежишь к Курочкину и играешь с ним в пикет[42]. Что делал Сергей Васильевич, не знаю, но на Мясницкой он уж не учился, баталии с отцом продолжались, вероятно, по случаю его шелаберничанья.
Итак, Митяй жил у нас, внося оживление, появления Русаковых его усиливало. В нашей юной компании жило веселье, кажется, тут уж появились пассии. Необыкновенно красивая Саша Русакова тронула сердце Сергея Васильевича, дружба была неразливная, но она скоро вышла замуж за красивенького полужидочка Ф. М. Блюменберга и почти сошла с горизонта. Остались Паша и Оля. С Митяем и со старшими была дружба бесконечная, но «без амуров» – резвились, как дети, а мы с Василием Васильевичем околачивались около, во всем принимали участие, но как настоящие дети, которых любили, но которыми командовали.
Лютра наша, громадная собака, в баловстве нашем принимала большое участие, я ездил на ней верхом, таскал за хвост, валялся по полу. Лютра всегда была добродушна и допускала всякие истязания. Когда же поднималась в нашей компании всеобщая свалка, то есть гомерическая возня на полу, она философски смотрела, а потом вдруг вваливалась в кучу, хватала кого-нибудь за что ни попало и начинала растаскивать кучу с самым добродушным видом. Большая радость была, когда у нее появлялись щенята, росли они быстро и возились с матерью не хуже нашего. Она была породиста, но щенки бывали всякие. Они отправлялись на завод: такие громадные собаки были нужны, но зато приблудных собак там хватали, сажали в вагоны с кирпичом и отправляли в Москву.
Появление у нас Митяя совпало с постройкой дачи. Дача была новая, было в ней комнат 12. Было где и народу набиться. И одно или два лета действительно набилось народу много. Отец денег не жалел на наше воспитание и образование. Одновременно жили у нас Митяй, А. В. Соколов и гувернантка Ольга Васильевна.
По типу она была настоящая цыганка, очень смугла, и волосы черные, курчавые, как у негров, и ходила всегда в красной шелковой кофточке. Было у нее сильнейшее контральто, и она целый день только и делала, что за роялем пела: «Я хочу вам рассказать, рассказать, рассказать, как стрелочек шел гулять». Даже я выдолбил этот навязчивый мотив, слышавшийся тогда во всей Москве. Другой романс был «Спрятался месяц за тучку, не хочет он больше гулять, дайте же вашу мне ручку к пылкому сердцу прижать».
Приезжали надолго жить Оля с Пашей Русаковы, да в доме, где раньше была наша заводская контора, поселилась на лето семья Кричь, с которыми наши скоро познакомились. Там была очень кислая и вечно плакавшаяся на бедность мамаша Мария Яковлевна, а мы ее звали «Яко Плевна»: Плевна была прославлена в войне в 1877 году как укрепление турок, стоившее русским громадных жертв. Маменька эта всегда ходила в трауре по мужу и от бедности носила батистовое белье, о чем мы имели точнейшие сведения от Русаковых, а те от ее дочки Наны, или Наталии Александровны, только никто и никогда ее так не звал.
У Наны был брат Николай Александрович – парень громадного роста, красивый, страшно деловитый, но всегда в жульническом направлении, и страшный любитель лошадей, которыми барышничал. Однако и брат, и сестра пришлись, как по мерке, к нашей компании. Пошла писать губерния! Ольга Васильевна орет свое «Я хочу». Александр Васильевич с мукой слушает и не знает, как добраться до рояля, чтобы давать уроки, доберется – наших нет. Посылаются пололки[43], Ольга в поиски, мы в малиннике сидим – и ни гугу, только смех разбирает. Наконец Ольга накроет Елену Васильевну, влекут несчастную на заклание. В доме гаммы, в саду Ольга Васильевна с кавалерами, беготня, игра в лошадки. У Оли и Наны громадные косы были, мы их незаметно забирали под мышки, концы кос оказывались на спине – и пошел! Не хочет бежать – принимались меры принуждения: тянули за косы так, что голову пригнет, в конце концов бежим, летим, хохот.
Лиза[44] была сошкольница Елены Васильевны[45] по пансиону Эвениус и тоже была живущая. У нее было великолепное меццо-сопрано. Была она подвержена лунатизму и, когда приходило время, она ходила ночью по дортуару[46], пугая товарок, или задавала им во сне дивные концерты. Она была мамашина любимица и, когда отец умер, перетащила мать к себе и так прибрала к рукам, что после ее смерти ничего не оказалось, и Мария Александровна осталась с теми крохотными средствами, какие получила в приданое. А у матери было состояние не меньше ста тысяч. Дело замужества у нее тоже не клеилось, хороших женихов не подворачивалось. Тогда она женила на себе брата ее подруги, Протопопова, звали его, кажется, Иван Иванович. Рожа он был ужасная, настоящий гостинодворец. После замужества видал я Лизу очень редко. После многих лет разлуки наконец встретились у Рубинштейна в магазине. Она обратилась в целую гору; обладая громадным ростом, она потолстела страшно и сделалась просто противна.
Леничка несла на себе всю хозяйскую заботу, кухарка Василиса приходила уж к ней за приказаниями. Она шила в своей хорошенькой комнате всем нам белье, называла нас «мерзавцами», так как ее хлопоты нами никак не ценились. Целый большой гардероб, получивший полки, был наполнен бесчисленными банками с вареньем, которое мы с Васей усиленно расхищали. Бывало, подберем ключ, как настоящие воры, заберемся в шкаф и из разных банок наложим целый стакан, возьмем ложки, шасть в свою комнату – и разом поедали все. Варенье же варилось сестрой все лето, хлопот было много с ним. Один раз она даже чуть не сгорела. Было на ней легкое платье, Леничка стояла близко к жаровне, платье и загорелось, но она не растерялась, бросилась на землю, стала кататься и своей тяжестью старалась затоптать огонь. Тем временем пришли люди и, кажется, водой залили. Кроме неожиданного купания, это происшествие последствий, слава Богу, не имело. Но такое отношение к сестре ее к нам не приближало. Она оставалась особняком.
Так жили мы на Мясницкой под сгущающимися домашними облаками. Этот гнет рассеялся лишь со смертью отца. Но пока все еще жаль покончить с таганской жизнью.
Учеба
Очень рельефно помню первое отправление в институт, бывший теперь близко от нас – и лошадь не требовалась, но самый выезд из дома ускользнул из памяти. Несомненно, отцу это должно было быть страшно тяжело, а мы увлеклись новизной и не понимали, с чем прощались. Ведь мы прощались с детством, и никогда больше не гулять нам по дорожкам милого сада, каждый куст, каждое дерево которого были связаны с каким-нибудь происшествием; мы теряли этот простор, жизнь уносила нас в узкие рамы квартирной жизни. Мы отрывались от старой московской жизни, от хозяйственного широкого уклада.
Удивительно было впечатление выхода на шумную Мясницкую и то, что идем пешком. Интересно было видеть новые невиданные дома, все было непривычно и необыкновенно. Возвращение домой опять пешком. Звонить приходилось с улицы у громадной стеклянной двери, лестница на третий этаж очень занимала, бегать с нее было занятно, а то спускались по перилам. Комнаты были большие, высокие. Комната сестры казалась дворцовой, так как мебель была обита заново зеленой материей с амурами и разводами. К ней были поставлены трюмо и письменный стол матери, но на окнах оказались сложные драпировки. Мебель в гостиной оказалась другая: то была с медальонами удивительно красивых цветов, а тут красная штофная. Зал огромный. Мы все четверо помещались в одной большой-большой комнате. Все было ново, а потому ужасно интересно. Настолько новизна увлекла нас, что лишь спустя много лет появилось желание взглянуть на наше старое пепелище.
Но и здесь жизнь вошла в свое русло, и отец устроил тоже что-то вроде бала: было много народа, играл тапер, танцевали, был ужин, шипучка, лакей, повара, но как-то мало я помню. Помню одну Екатерину Федоровну Челнокову в светло-лиловом бархатном платье, что очень шло к ее сединам.
А зубристика шла плохо, и после второго года еле в первый класс перевалился, да и не я один: и у Васи дела шли одинаково. Миша учился лучше и «ехал на тройках», а у нас с Васей все колы да двойки, особенно в первом классе латынью донимать стали. Еще и по-русски-то еле читать обучился, а тут еще и латынь, а преподавал ее Кононов[47] Георгий Ильич, инспектор института. Красавец был, франт, а за уши так драл, что ухо мне надорвал! Пришлось Митяю ехать объясняться. Скандал вышел: у других таких менторов не было, а наш горячий был и нас любил – так сконфузил инспектора, что тот потом и пальцем не трогал. Однако страх такой поселил, что и знаешь урок, а язык не ворочается – и растет забор из «колов».
Опять я на второй год остался, и Вася тоже, а Миша потихоньку пробирается. Перешел наконец во второй класс, там немец Зейман, чтоб ему пусто было, так преследовал, что беда! К этому времени я, говоривший до шести лет почти только по-немецки, настолько забыл язык, что с помощью «милого» учителя окончательно вышиб его из своей головы, и заборы пошли все гуще, стали немецкие и латинские – опять застрял.
Но тут умер отец, и мы с Василием Васильевичем решили, что больше мучиться не стоит, тем больше, что его в третьем классе принялись мучить греческим языком. Как похоронили отца, так все и устроили революцию и в институт ходили не больше месяца, а там и перестали, и Михаил Васильевич тоже. А Сергей Васильевич добрался еще в Таганке до восьмого класса академии, но с попом были у него нелады, так на экзамен выпускной не пошел и остальных [экзаменов] держать не стал. Вероятно, из-за этого у него с отцом бывали баталии.
Леничку же отец из пансиона Эвениус взял и отдал в гимназию, открывшуюся в Таганке; сделалась она приходящая. Долго ли, коротко ли ходила она туда, не помню, но уж в Таганке она у нас хозяйничала, да и какой-то уж жених нам подвертывался, да молода была – отец не отдал.
Коротка история нашего образования, а времени взяла много. О Лазаревском[48] только отвратительное воспоминание осталось; ни товарищей, ни учителей вспомнить нечем. Да ни одного и не помню, кроме названных. Товарищи же все были с Кавказа. Была у них игра, прозывалась «Салик-Малик». Зала была громадная, а игра заключалась в том, что один скачет на одной ноге и должен догнать кого-нибудь из играющих, бегающих на обеих ногах, и обсалить. Те же наши салки, только на армянский фасон. Можно себе представить, что тут делалось; бывали такие, что прыгают-прыгают да с налету бросались на бегущего: обсалит – хорошо, тому прыгать надо, а то так к полу приложится, что и в больницу попадали.
Единственно, кто еще учился там с нами, были Вово и Коко Алексеевы. Коко – будущий Станиславский. Ребята были громадные. Коко был с Мишей одноклассник, я любил этих двух громад. Возьмет он меня на руки и кувыркает, а в саду занимался тем, что зажмет между каблуками кирпичину, подпрыгивает, причем сгибом ног так подбрасывал кирпичину, что она ему через голову летела.
Думается, обуревало отца честолюбие, торговлю-то и он недолюбливал. С самого детства с ней возиться пришлось, а по тем временам еще больше оправдывалась пословица «не обманешь, не продашь», а натура у него благородная была. Хотелось ему вывести нас на дипломатическое поприще, а ничего не вышло, кроме ошибки. Учись мы в гимназии, пожалуй, другое бы было, хотя программа-то была одна и та же, да были бы товарищи русские, может быть, и подружились бы, и соревнование бы было, да может быть, состав учителей подвернулся бы другой, не столь свирепый. Итак, в школе у нас дело ни с кем не задалось, и то, что знал, – немецкий язык – и тот забыл.
Мазурины
Рядом с нами был настоящий дворец Митрофана Сергеевича Мазурина[49]. Сестра его, София Сергеевна[50], была замужем за Димитрием Петровичем Боткиным. Сам же был женат на какой-то итальянке. Говорили, что [когда-то] она была очень красива, но в это время обратилась в толстую и безобразную мегеру. Из нашего окна был виден их большой сад, о своем мы не вспоминали, но любили наблюдать, что творилось у Мазуриных в саду. Бывало, эта мегера рассядется там и заставляет своих лакеев – а было их, должно быть, много и были они одеты в великолепные ливреи с чем-то малиновым и с серебряными пуговицами, в чулках – таскать ей какие-то сундуки. Пороется она в одном, гонит обратно, несут другой. Характер у нее был прескверный. Говорили, что Митрофан пил шампанское. Сам был толстый и безобразный, а дети удивительной красоты. Старшая, Надежда, вышла замуж за какого-то известного музыканта и сама потом была известна в музыкальном мире. Мария вышла за Струкова, порядочного прохвоста. Обе они страшно расплылись и стали не хуже маменьки.
Сын же Константин[51] женился на удивительной красавице Голиковой. Говорили же про нее, что красива-то она красива, да дура. После долгого сожительства с Мазуриным она развелась с ним и вышла замуж за Павла Павловича Рябушинского, который по этой причине развелся со своей женой. Во время мировой войны он увлекся какой-то сестрой, захотел разводиться опять, но почему-то это не осуществилось; так они и продолжают свое сожительство, изгнанные из России, где-то во Франции. Мазурин же женился на какой-то толстой певице. Унаследовав от матери итальянскую талантливость и красоту, а от отца русскую безалаберность с некоторой предприимчивостью, Константин скоро пропустил отцовское наследство, продал знаменитую Реутовскую мануфактуру иностранцу, другую – питерскому купцу Александрову, которого в вечно пьяном виде Ялта могла наблюдать за последние три года.
[Константин] Мазурин уехал за границу и принялся за скульптуру, пел, сочинял стихи. Вернувшись в Москву, купил нескладный дом на Собачьей площадке[52] в готическом стиле; столовая у него была в виде католической капеллы. Пока хватало остатков громадного состояния, он занимался художествами, изумляя Москву не своими произведениями, а тем, что он пытался производить их. Наконец карман его опустел, и он открыл гинекологическую лечебницу на проезде Александровского сада, где работал до большевиков. Потом я видел его в Землине, в довольно печальном виде.
Солдатенковы
По другую сторону нашего жилища находился дворец Солдатенкова. Это был дом в греческом стиле с колоннами, с мезонином, окрашенный в темно-шоколадный цвет. Перед домом был маленький сквер и каменная балюстрада с вазами, которые наполнялись смолой и во время иллюминаций зажигались. Ничего такого еще в Москве не было, потому производило исключительное впечатление. Кузьма Терентьевич Солдатенков[53] был столпом московского старообрядчества. Благодаря его богатству и связям, вообще, не одни московские староверы, а и по всей России чувствовали себя спокойней и знали, что он их в обиду не даст. Еще так недавно, в царствование Николая I и в филаретовские времена особенно, жилось им туго на Руси. Они рассылались почти без суда и следствия и в Вологодскую губернию, и в Сибирь; при заступничестве Солдатенкова это было сделать трудней. В дому у него была моленная, что одно могло служить причиной для ссылки. В наше-то время – то есть Александра II – такие условия были значительно смягчены, старообрядчество за это было много обязано Солдатенкову.
Будучи ярым заступником староверчества, Солдатенков был человеком шестидесятых годов и заслужил в Москве особенное сравнение. Говорили, Солдатенков – Кузьма Медичис. Он и был московским медичисом. Около него группировались писатели, художники, профессора, ученые – словом, чистая интеллигенция. Он поддерживал их всех, покупая картины, собирая библиотеки, издавая сочинения и часто такие, которые не могли расходиться в большом количестве по своей тяжеловесности и научности, суля издателю одни убытки. Все это Солдатенков делал охотно из своего обширного и щедрого кармана. Его картинная галерея обогатила Румянцевский музей, где русской живописи, кроме картин Иванова и нескольких картин старых русских мастеров, до его пожертвования совсем не было. Она поступила туда после его смерти.
Его нераспроданные издания – а их было очень много – после смерти поступили в город вместе со значительными капиталами, за счет которых была сооружена Солдатенковская больница. Она оказалась в Москве первой между сооружениями такого рода. Главный доктор этой больницы, Федор Александрович Гетье, был любимый доктор моей жены, да и вообще его любили все, с кем ему приходилось иметь дело. В нем не было никакого ломания, и чудотворца он из себя не ломал. Там же был и хирург Владимир Николаевич Розанов, милый и славный человек, очень талантливый. Я сблизился с ним во время моей службы в Союзе городов, во время войны.
Сам же Кузьма Терентьевич никогда женат не был и век свой прожил с француженкой, жившей, конечно, от него отдельно. Помню его обыкновенное крестьянское лицо с длинными седыми волосами и средней седой бородой, в мягкой черной фетровой шляпе с довольно большими полями. Ростом он был невелик, но имел животик порядочный и производил впечатление приземистого, коренастого человека.
Его громадное состояние перешло к его племяннику, Василию Ивановичу Солдатенкову[54]. Этот гнался за чинами и орденами, жил в Питере, но ничем не отличался. Сына В. И. Солдатенкова я встретил в Неаполе молодым моряком – он служил на стоявшем там русском станционере[55]. Название его, к сожалению, я забыл[56]. Моряки нас пригласили к себе обедать, а был я там с женой, ее братом и доктором С. И. Соколовым. Очень весело провели время, потом корабль отбыл в Алжир; помню, как мы его провожали во время сильной качки. Входить же на судно уж было нельзя. Со своей лодки в их люки мы передавали бокалы с шампанским, запасенные нами в городе. Соколова постигла жестокая морская болезнь, его перегрузили на другую лодку и отправили на берег, а мы все качались и расплескивали шампанское, пока наконец корабль не снялся и не ушел в море. Бокалы же были перебиты о борт судна, и мы вернулись в город.
Из молодых Солдатенковых, кажется, толку большого не вышло. Впрочем, они сошли с горизонта, и я о них ничего не слыхал. Появление в московской купеческой среде, особенно в то время, исключительно талантливых людей было не диво, но печальное исчезновение с горизонта их потомства – явление почти постоянное. Вероятно, много таких примеров придется записать, если хватит у меня терпения писать дальше.
Между тем отношения к семье Шапошниковых у нас все укреплялись, то есть не всех, а старших братьев, мы же с Васей все время были позади. Там не было у нас настоящих сверстников, мы болтались.
Под опекой Боткиных
Увидав воочию и, вероятно, слыша, что идет у нас в доме разухабистое веселье (Шапошниковы в нем участия не принимали: когда бывали они, все бывало чинно), Надежда Кондратьевна решила подумать обо мне. И я получил приказ явиться к ней обедать. Чуяло мое сердце, что замышляется против меня что-то недоброе. Отправляясь к ней, я уж волновался, а когда поднимался по дубовой лестнице их дома в Петроверигском переулке, сердце било тревогу. Рука еле поднялась дать звонок. Дверь моментально открылась, на пороге стоял Матвей – сухой лакей с бритым лицом. Он играл у Боткиных значительную роль. Сняв пальто, он открыл зеркальную дверь в приемную и сказал: «Надежда Кондратьевна вас ожидают у себя».
Я вошел в приемную. Это была сравнительно небольшая комната в два окна, с высоким зеркалом между ними, с кожаной мебелью по стенам; на стенах висели картины разных величин и стояли башенные английские часы. Какая-то величавость была во всем, и охватывала какая-то ненарушимая тишина, только тикали часы. Налево и направо были двери – одна в зал, другая в гостиную. Охваченный тишиной и этой величавостью да еще взволнованный предстоящим свиданием, я боялся громко ступить и чуть не на цыпочках вошел в гостиную. Там царили пурпур и золото множества картинных рам, бронзы, отдушников. На полу под мебелью были разложены три персидских ковра мельчайшего рисунка, комната была велика и высока, что-то было в ней торжественное. Передо мной была дверь в комнату Надежды Кондратьевны. Она уж была предупреждена о моем приходе, и лишь я подошел к двери, она открылась и Надежда Кондратьевна позвала меня к себе. Поцеловав в обе щеки, она усадила меня рядом с собой. Понимая, вероятно, мое настроение, она не сразу приступила к делу, а дала времени, чтобы я огляделся и свыкся с окружающим.
А окружающее было интересно: комната была величиной с гостиную, с шестью окнами, и она была светла, как фонарь. Дом стоял на пригорке, перед ним был большой двор, дальше сад, за садом открывался вид на Москву и дальше, до открытого простора полей. Вид был такой, что он мог соперничать с видом из Кремля. В эту сторону выходил балкон. Мебели было много, но преимущественно китайской, не то соломенной или бамбуковой, но такой, которая не принимала пыли. Была и мягкая мебель под суровыми полотняными чехлами, чтобы можно было мыть; если были кресла, то и они были обиты снимавшимся для мытья полотном. Ковров не было, стены окрашены, и нигде пылинка не могла и подумать прилипнуть; на окнах висели сильно раздернутые полотняные портьеры. Пол сиял, на окнах и торшерах было много растений, но не цветущих, чтобы не было запаха. На стенах в сравнительно простых рамах были картины, между прочим, этюд Иванова «Спаситель» к его известной картине «Явление Христа народу». После гостиной впечатление было ошеломляющее простотой, но эта простота обходилась, пожалуй, дороже роскоши гостиной.
Прежде у Боткиных в доме не было и травинки, но Надежда Кондратьевна прочла где-то, что растения ночью выпускают кислород, а днем поглощают углерод. Сейчас же была выстроена оранжерея, нанят персонал, куплены растения, и дом наполнился ими. Ни для кого они не представляли интереса, их вносили и уносили, и ставили новые, чтобы всегда были свежие и исполняли работу по очистке воздуха. Узнавала Надежда Кондратьевна об какой-нибудь особо гигиенической мебели – старая выбрасывалась, ставилась новая. Бывшая в комнате почти вся была выписана из Китая, где у Петра Петровича были громадные дела.
Надежда Кондратьевна ходила всегда в широком костюме таиер[57] из чесучи[58], в белом кружевном чепчике с черными узенькими бархатными ленточками. И никаких украшений. Рост у нее был обыкновенный, чуть полная, как полагается даме лет в пятьдесят, широковатое лицо, серые глаза, покойные, скажу, тоже обыкновенные, руки с немного короткими пальцами, полные, мягкие, с некрасивыми ногтями, немного плоскими и сдавленными против нормы. С виду она была покойна и величава, голову носила прямо. Но человек она была нервный, так как все время она либо рвала бумажку, либо вертела платок, либо шевелила пальцами, как бы желая щелкнуть указательным пальцем о большой. Но в чем-нибудь другом это не выражалось, сдержанность была поразительная. Во всех случаях жизни голос оставался ровен. Улыбка была приятная, да и в обычном состоянии лицо было приятно. Смеха, как у нашей бабушки, и помину не было. Проявления веселости ограничивались большей или меньшей улыбкой. Со всеми была ровна, низшим всем говорила «вы». Когда хотела поцеловать, клала руки на плечи. Когда говорила, разделяла слова, почему речь была обрывиста и повелительна.
Многие ее побаивались, и все относились с изысканным уважением. В доме перед ней все преклонялось, воля ее была Закон. Даже Петр Петрович совершенно перед ней стушевывался. Не было прихоти, выдумки, фантазии, чтобы они не осуществлялись, как по волшебству. Специально для выполнения ее приказов был артельщик Архипыч, располагавший неограниченными суммами. Каждый вечер, приходя к ней, он получал длинный список, на следующий день все по нему должно было быть исполнено. В этот список входило все, вплоть до материй на платья дочерям. Сама она никуда по покупкам и вообще по делам не ездила. Если были дела, что Архипыч выполнить не мог, то образцы, люди являлись к ней на дом. Во всем преследовалась простота и скромность, а во что это обходилось, знали только книги боткинской конторы[59].
Когда я обошелся, она обычным своим голосом обратилась ко мне и говорит: «Я слышала, что ты куришь». У меня душа в пятки – ну, думаю, сейчас она примется меня ругать и будет шум. Но ничего подобного, я был изумлен, так как такой прием был мне неизвестен. Я что-то промычал, что скорей подтверждало, чем опровергало вопрос, и был больше смущен тем, что тут ничего не произошло: по-нашему должен бы был разразиться гром и молния. А она говорит все так же покойно: «Но ты знаешь, это очень вредно, ваша мать умерла от чахотки, и у тебя может случиться то же, и ты умрешь». Я сидел с выпученными глазами, пораженный тем, что меня не ругают, а в голове было: ладно, я курю уж семь лет и все жив. Приняв выражение моего лица, вероятно, за раскаяние, она ласково продолжала, что просит меня беречь себя и что вот письмо к П. И. Бокову, чтобы я завтра сходил к нему и что он займется мною и поможет мне избавиться от пагубной привычки.
Потом, как ни в чем не бывало, стала расспрашивать, как я живу, что делаю. А я ничего не делал, что мне было сказать ей? Так и сказал, и рассказал, как живу. Она слушает с таким видом, будто ей все это нравится; только потом, уж под конец, говорит, что хорошо бы, кроме всего того, что я делаю, мне бы еще учиться, так как я еще очень молод, учился мало. Я себе думаю: вон оно куда поехало, дело дрянь. Ненависть к ученью сидела глубоко, а после смерти отца – прошло времени порядочно, что-нибудь около года, а то и полтора – книг я в руки не брал, об ученье не думал, вопрос этот был выброшен из головы – и вдруг опять с начала. Разговор же с ней идет скорей в порядке обсуждения, будто она со мной советуется. Какой я мог дать совет? Молчал, а на лице, конечно, было написано полное отрицание, а язык не шевелился, отрицать было стыдно и неловко.
Тем временем в соседней гостиной послышалась тяжеловатая, как бы тащущаяся походка, и в комнату вошел Петр Петрович. Как бы усталыми шагами подошел он к Надежде Кондратьевне, прильнул к ее пухловатой щеке, держа ее за руки, стал целовать долго и между поцелуями слышались несвязные слова, вопросы мягким голосом с теноровыми нотами, немного в нос: «ну как?», «а?», «здоровье что?», а поцелуи не прерывались. Надежда Кондратьевна, привыкшая к таким приемам, сидела спокойно, немного отклонив лицо в сторону, с тем же покойным выраженьем, не отнимая лица, что-то так же отрывисто и неопределенно отвечала: «Ничего, здорова, хорошо». Наконец поцелуи кончились, он нагнулся ко мне и своими, как бы гуттаперчивыми, губами присосался к моей щеке, в то же время говоря: «Ну, слава Богу, пришел проведать тетю Надю, ну это хорошо, ходи, ходи, мы рады». Говорилось это все как-то в нос, в промежутках шлепавших у моего уха губ и как-то растянуто. Я стоял, не знал, как быть, ждал конца шлепанью. Наконец это кончилось. Он обратился ко мне все с тем поощрением и все говорил: «Это хорошо, ходи, ходи, мы рады».
Тем временем открылась дверь, появился Матвей и объявил довольно развязно, что можно идти кушать. Мы вышли в гостиную, теперь она и вся анфилада освещались газом. В гостиной рожок[60] помещался над креслом с высокой спинкой в модном шмидтовском стиле а-ля Людовик XV. Та же величавая торжественность охватила меня. Мы прошли гостиную, приемную и вошли в залу. Мы вошли с ее конца, направо были три окна, выходившие на улицу, передо мной был целый ряд, окон семь, в которых как стекла были вставлены зеркала. В середине красовался белый мраморный камин с великолепными часами, канделябрами и разными вещами. За ними было видно открытое окно, выходившее в освещенный газом зимний сад, одно окно было превращено в дверь, постоянно открытую, за ней виднелась зелень пальм и всяких растений и медная большая клетка с попугаем. По третьей стене было одно окно и громадный буфет с нагороженными на нем китайскими вазами и бочонками крупной величины, рядом простенок. По ту сторону пандан двери, в которую мы вошли, была дверь в переднюю, а в громадном простенке между дверями, на вышине, помещались хоры. Зал был велик, светел, удивительно пропорционален и носил на себе все ту же неподражаемую спокойную важность и торжественность. На середине стоял обеденный стол, а на нем трехсвечный зажженный канделябр, несколько приборов, и кругом удобные мягкие кресла. По стенам стояли мягкие диваны, стульчики, кресла и столики, и много растений в вазах и на окнах. На окнах были легкие тюлевые драпировки под светлыми ламбрекенами, а в углу на свободе стоял громадный концертный рояль. Петр Петрович сел на конце стола, Надежда Кондратьевна под углом к нему, лицом к камину, посадив меня рядом.
Стали приходить дочери, их было трое: Аннета[61], Надя[62] и Вера[63]. Все они были некрасивы и все разные. Аннета, пожалуй, имела сходство с Креской, но меньше ее ростом. Волосы у нее были рыжеватые, волнистые, цвет лица румяный, сама изящна, подавала сильно руку и как-то грациозно при этом склоняла голову немного набок. У Нади всегда был вид несколько мешковатый: большая голова, толстые губы, голос низкий, поступь тяжелая. На голове темные волосы, нос большой и толстоватый, вид всегда покойный. Вера, ровесница моей сестры, была высока, худа, у Нади и у нее была гладкая прическа со средним пробором, волосы заплетены в косы и уложены гладко на голове. У Аннеты прическа была поигривей, ее красивые волосы, хотя и с пробором, были уложены на затылке в виде какой-то завитушки, не в косе. У Веры лоб был большой, лицо круглое, нос большой, с горбиной, торчал как-то несуразно вверх; когда она говорила, она тянула, и слышались носовые звуки, к. б. она подражала отцу. Надя говорила просто, у нее не было никакого ломания, из трех она была самая естественная, только очень рассеянна. Аннета же как будто немного пела, немного ломалась и, собственно, была грациозней сестер. Но, как я сказал, ни одна не была красива.
Что касается их туалетов, то они были под влиянием Надежды Кондратьевны доведены до крайней простоты. На них всех были одинаковые коричневые платья, не доходившие до пола, ни узкие, ни широкие, шиты по талии и с высокими воротами, из-за которых виднелись узкие белые воротнички, у всех были черные фартучки. Прямо какой-то институт. А Вере было уж что-нибудь около 18 лет, а Аннете лет около 23–24, Надя была между ними.
Увидав входящих дочерей, «п-паа-п-паа» встал и своей тяжеловатой походкой пошел навстречу вошедшей первой, обнял ее, прильнул к ее щеке своими губами-подушками и ноющим продолговатым голосом говорил между поцелуями: «Ах, Надёчек, милый! ну, как? Что?» – что-то бессмысленное, но ласковое. Та отвечала поцелуями, отвечая несвязно, в тон отцу; то же повторилось с «Верочком» и «Нюшёчком». Долго продолжалась эта канитель.
Наконец представление кончилось, все уселись по своим местам, был подан суп. Замечательно было в нем то, что в нем всегда у них варились ножки от рябчиков, что придавало особо пикантный вкус. Уж не помню, было ли три или четыре блюда, но все было изготовлено по-поварски, очень вкусно, но подано просто, без всяких прикрас и фокусов. Вместо пирожного были печеные яблоки с вынутой сердцевиной, заполненной фаршем из миндаля и чего-то очень вкусного, под красным соусом. В каждом промежутке Петр Петрович вставал, обнимал одну из дочек и начиналось целование с все теми же причитаниями: «ах, Надёчек, ах, Верочек, ах, Нюрочек». Вина, кажется, за обедом не полагалось, или стояла какая-то бутылка, к которой никто не притрагивался. Тут же стояла бутылка с натуральной зельтерской водой в ее обычной глиняной посуде с маленькой ручкой. Все было чрезвычайно просто. Разговоры за обедом были тоже просты. Дочери обращались к отцу свободно с разными повседневными вопросами, он ласково отвечал. Наступало молчание, тогда, как будто спохватившись, он брал за руку соседнюю дочку, мял эту руку в своей и, глядя ласково, начинал причитать: «ах, Верочек, милый». Надежда Кондратьевна говорила покойно, рассудительно. Обед кончился. Матвей стал убирать и уносить посуду в буфетную рядом с передней. Мы вставали, пришел опять Матвей и с обычной развязностью и грубоватостью, собирая тарелки, говорит Надежде Кондратьевне: «Там Архипыч пришел». – «Скажите ему, что я сейчас приду».
Дочери стали разбредаться по своим комнатам, папа опять производил свой поцелуйный обряд, я сообразил, что пора мне домой. Надежда Кондратьевна меня не задерживала, стала прощаться со мной. Петр Петрович своей тягучей походкой удалялся в гостиную, я пошел за ним и застал его сидящим в кресле с высокой спинкой под газовым рожком. Вид у него был утомленный, рад был он наконец остаться один. Опять меня обшлепав губами с причитанием: «Ходи, ходи к нам, мы рады», отпустил меня. И я оставил этого человека в позе усталой, готового даже и подремать. Он опустил свою умную, громадную голову с бесцветными, прямыми и тонкими волосами, уже сильно поредевшими на его шарообразном черепе, переходившим в высокий лоб. Лицо у него было скорей длинное, но во всех линиях сказывалась округлость, мясистость. Мясистый крупный нос несколько навис над крепкими губами, глаза серые, как бы со стеклянным отливом, были как будто поставлены незначительно ближе, чем у других людей, что придавало взору и проницательность, и силу. Вообще же про его лицо можно сказать, что с таким лицом он мог бы быть великолепным актером, приняв всяческий грим, благодаря отсутствию определенности линий. В обычном положении лицо было даже ласково. Но оценить и понять этого человека очень трудно. Я думаю, мало на свете бывает таких сложных натур. Невозможно было разобраться, где в нем кончался добрый человек и где начинался иезуит. Всегда казался он человеком громадного размаха – и тут же бывали случаи, изумлявшие своей мелочностью. Человек громадной воли – и безвольный. Где была искренность, а где самое тонкое, а иногда и открытое лукавство? Трудно было определить, где начинался европеец и где кончался чисто московский старокупеческий тип. Одно можно сказать наверное, что таких умных голов в Москве почти не было.
Ростом он был велик, немного сутуловат, когда ходил, корпусом подаваясь вперед и с повисшими вниз прямыми руками, что еще больше усиливало его и так тащащуюся походку. Одет он был всегда во все черное, но не в сюртук; галстуки всегда носил черные, завязывающиеся в бант. Цвет лица был неопределенный, но не болезненный. Силы он, вероятно, был большой, но как свой голос, выражения, так и силу он смягчал; руку подавал мягко, без излишнего пожатия. Конечно, честолюбия и тщеславия было в нем сколько угодно. Религиозность его доходила до курьезов, почему можно было сомневаться в искренности ее. Аккуратность доводила его до истязания людей. Внимание к родне и московским традициям было доведено до тонкости. Отношения к братьям и дочерям были идеальны, а перед Надеждой Кондратьевной он преклонялся, ее боготворил – и ей изменял.
Словом, это такая сложная натура, что не мне ее описывать, а тут хватило бы работы и Достоевскому, и Гоголю, и Толстому в период «Войны и мира». Приступая к этому делу, я не уверен, что могу изобразить его, как он был, тем больше, что сближение мое происходило, когда мне было лет 14, и продолжалось лет до 20, а больше – что знаю о нем, то из рассказов людей, бывших ближе к нему и знавших его в настоящей жизни, то есть в конторе и амбаре. Но всего этого будет, вероятно, мало.
Вернувшись домой, я был засыпан вопросами «как и что», и, кажется, главный интерес вертелся около того, как меня угощали. Однако на другой день должен был тащить записку Надежды Кондратьевны к Бокову, оказавшемуся, правда, удивительно красивым человеком с седой головой, седой бородой, в очках, с особенными глазами очень близоруких людей. Он сейчас же принял меня, пытался журить за куренье, «пужал» всячески, написал рецепт на какие-то пилюли, дал записку к Надежде Кондратьевне, чем лечение мое и закончилось. Папиросу я закурил в его же подъезде и отправился с докладом к Надежде Кондратьевне.
Пришлось немного обождать в гостиной, когда она позовет меня к себе, чем я и воспользовался, чтобы пополнить мой папиросный запас из коробочки, всегда стоявшей на столе, набитой битком папиросами. Кругом была обстановка, в какой мне, кроме как у них, до сих пор бывать не приходилось. Особенно меня привлекала громадная, очень хорошая копия с картины Плокхорст «Возвращение Иоанна и Марии после распятия». Картина была громадна, занимая почти целый простенок до самого потолка. Скорбное ее содержание и чудесные краски трогали мое молодое сердце. По длинному простенку висели картины разного содержания, и между ними несколько произведений Михаила Петровича Боткина. На третьей стене были мелкие картины, между которыми я заметил картины две Шишкина.
В углах находились закругленные печи, и перед ними на тумбах канделябры в виде удлиненных ваз темной бронзы, на золотом поясе которых было укреплено по восемь свечей. Мебели было очень много, она заполонила все место, покрытое коврами, разместившись всевозможными красивыми группами. Окна, и двери, и мебель – все было в пурпурном штофе. В простенках до потолка были огромные зеркала, на подзеркальниках которых стояла разная золоченая бронза, [такая] как часы, канделябры, подсвечники. На столах и этажерках было нагорожено множество всякой всячины, а главным образом альбом с портретами и видами всяких мест. В общем, это было то же самое, как и повсюду, но ни у кого из наших не было такой массы картин, а главное – сами стены боткинского дома носили удивительную величавость и торжественность, увеличивавшуюся удивительной тишиной.
Наконец Надежда Кондратьевна вышла и тут же в гостиной прочла боковское письмо, опять пыталась пугать меня куреньем, а под конец сказала, что она скоро мне что-то сообщит и чтобы я делал, что мне будет сообщено. Так на этот раз я и расстался с ней после непродолжительного свидания. На душе скребли кошки в ожидании ее сообщения. А на самом деле пришел приказ отправляться на жительство к немцу Краузе, который должен был приготовить меня к поступлению в третий класс немецкого Михайловского училища. Так кончились мои гулянки. Приходилось приниматься за ненавистную зубристику, за которую, конечно, теперь благодарю Надежду Кондратьевну. А то я остался бы совершенным неучем, а главное – совершенно изболтался бы.
Но тут обнаружилась еще другая сторона дела, сыгравшая роль на складе моего характера. Разница лет теперь уж между мной и братьями стала сглаживаться. Возвращение же к учению превращало меня в школьника и, мало того, отделение от семьи, переезд к Краузе – [все это] окончательно порывало мою связь с семьей. До сих пор я был младшим в семье, а тут как бы останавливался на месте, когда те двигались вперед, почему для них делался просто маленьким. С субботы до понедельника я, правда, бывал дома, но с интересами других уж у меня не было настоящей связи. При встречах с их знакомыми работала моя застенчивость. И лучший приют я находил опять у Курочкина.
Курочкин же, недолго думая, месяца через три-четыре после похорон второй жены, нашел себе невесту, опять-таки в староверческой семье. Это оказалась засидевшаяся девица лет 35, с рябым круглым лицом, добродушная Марфа Егоровна Доброхотова. Был у нее брат Алексей Григорьевич, много старше меня, и, собственно, в этой компании мне было делать нечего. Но люди они были простые, посмеяться и пошутить было всегда можно, у них я был «хозяин». А главное, что в смысле курева всегда была готовая Ко, так как и сама Марфа Егоровна с охотой покуривала, несмотря на свое староверчество.
Таким образом отдаляясь от семьи, я попадал в среду, которая мне не соответствовала по тому положению, которое все больше занимали мои братья. Для них я стал школьник, а следовательно – маленький, а они, не отличаясь от меня большой разницей лет, как все в эти годы, торопились быть большими, чем трещина между нами становилась все шире. Учение же мне было ненавистно. Восприняв плоды свободной, почти безотчетной жизни, попасть к Краузе было для меня почти то же, что попасть в тюрьму.
Явясь к нему франтовато одетый, я тут же заявил, что курю. Мне не стали противоречить, а попросили курить в кабинете Краузе, где никто никогда не бывал. Одно это указывает, как мне хотелось сохранить хоть тень самостоятельности и настолько я уж имел мужества, что не находил нужным скрывать свою привычку, чтобы не попадать в положение пойманного школьника. В представлении же мне кабинета я видел угодливость со стороны Краузе, желавшего расположить к себе выгодного школяра. Боткинская фамилия играла тут значительную роль. В течение дня мне отпускалось часа два, когда я мог совершать свою прогулку. Домой в это время меня не тянуло, и я болтался по улицам, прилегавшим к Немецкой улице[64], где мы жили. Покупал себе пироги в кондитерской, чем и утешался.
Наступили скучнейшие и тягостнейшие дни, а потом и годы зубристики, которая совершенно меня не увлекала. Как бы дела мои у Краузе ни шли, я знал, что всегда будет удовлетворительный отзыв, так как я понимал, что я ему нужен, да и сам себя он хаять не мог. Собственно, мы занимались с его злющей женой, которую не терпели, а он был учителем истории и географии в Михайловском училище. Одно то, что он был там учителем, уже гарантировало мой прием туда, так как училище не стало бы конфузить своего преподавателя. И это я хорошо понимал. Принимая все это во внимание и ненависть к ученью и учительнице, я делал вид, что занимаюсь, а на самом деле лишь растил свою ненависть и чувствовал себя все больше лишенным свободы. Этого, конечно, никто не понимал, да и исправить это, пожалуй, было невозможно. Так уж складывалась моя жизнь.
Как я теперь думаю, может быть, нашелся бы выход, если б вместо Краузе мне дали хорошего товарища, студента, и оставили дома, то еще дело можно было бы спасти. У Краузе жили еще три мальчика. Двое из Ростова – Кукса и Максимовский – и еще какой-то обруселый француз. С Кукса и его прятелем у меня были недурные отношения, но как двояшки, оторванные от родины, они держались друг друга и нового близкого, чужого им не было нужно, а кроме того, они были моложе меня и свободы еще не вкушали. Третий же нам троим не нравился, он был какой-то грубый и неподходящий человек.
Так проходил период нашей жизни в Сыромятниках. Здесь мы оправились после отцовской смерти, здесь выяснялось наше положение, и открывавшиеся перспективы были благоприятны. Чувствовалась почва под ногами.
Сергей Васильевич уж успел слетать в Кяхту, пожить там очень весело, завязать дружбу с целой группой кяхтинцев, которые время от времени наезжали в Москву. Но по части деятельности его ничего не вышло, что определяется словами А. В. Швецова, отправившего его обратно в Россию: «Парень хороший, только из такого дурака ничего не сделаешь». Сергей Васильевич отсутствовал около года, и когда вернулся, то Миша уж так крепко занял позицию хозяина, что он оказался на вторых ролях. Ему было поручено ведение книг, но он предпочитал ездить на охоту с Колей Мякишевым и вообще жуировать.
У Боткиных я бывал довольно часто за обедами. Надежда Кондратьевна относилась ко мне так же ровно и хорошо и даже посылала Веру и к Краузе, и в училище, узнавать о моих успехах, но, вероятно, видя, что идут они неважно, интерес свой ослабила. А тем временем я знакомился со всевозможными анекдотами их жизни. Надя и Вера служили в это время в боткинской конторе, помещавшейся в нижнем этаже их дома, и получали по 25 рублей жалованья, и на эти деньги должны были одеваться. Надежда Кондратьевна находила, что все должны зарабатывать свой хлеб, и так приучала их к труду.
Как-то Вера шла со своим папа после дождя гулять, там и тут были лужицы, которых Вера тщательно избегала, мешая тем идти отцу. Он удивился такому поведению и спросил, что она делает. Тогда Вера говорит ему: «Да разве ты не видишь, что мои башмаки совсем развалились?» И действительно, только не торчали пальцы. Лакей Матвей был ее главный кредитор. Она всегда занимала у него деньги, даже однажды при мне. Вера обратилась к нему просительно: «Матвей, не дадите ли вы мне пять рублей, а то я вся истратилась». Матвей обратился к ней со своей обычной грубостью и говорит: «Да что это, Вера Петровна, вы недавно только взяли пять рублей, так не надаешься». Вера чуть не умоляла, обещая при первом жалованье вернуть. Матвей полез в карман и довольно небрежно сунул эти деньги. Надежда Кондратьевна приучала их таким образом к бедности. Приучала и к находчивости, [например] вдруг она говорила: «У нас пожар». Девочки должны были бросаться к окнам в готовности выскочить.
У Петра Петровича всегда жилетный карман был набит мелким серебром для всюду осаждавших его нищих. Популярность его между ними была громадна, так как серебром мало кто подавал. Встречаясь с ним на улице, нищие величали его по имени, осведомлялись о здоровье. Получая свое подаяние, они исчезали, но часто бывало так, что ему покажется нищий пьяным. Тогда он хватал его за рукав и заставлял на себя дыхнуть, и, если предположение было верно, он требовал деньги обратно. Тот хоть бы и удрать – нет, из лапы Петра Петровича нелегко было выскочить, он держал крепко и деньги свои получал. Если тот все-таки упорствовал, Петр Петрович тащил нищего к городовому и сдавал его как пьяного. Городовые его знали во всей Москве, вытягивались во фронт, брали под козырек и приветствовали: «Здравия желаем, Петр Петрович!» Он лез в карман и отпускал двугривенный. На Пасху он с ними христосовался, снимая свой цилиндр или ватный громадный картуз; для холодной погоды у него цилиндр был подбит ватой. Говорили, что после его смерти осталось 60 цилиндров.
Сперва он был старостой Успенского собора[65], почему все митрополиты по праздникам делали ему визиты, приезжая на шестерне цугом с форейторами. Петр Петрович бывал в соборе на всех службах по субботам и воскресеньям, сам торговал свечами и ходил с блюдом. Каждый его день зачинался тем, что ехал к Иверской[66] и служил молебен, к одиннадцати часам его уж там ожидали. От Иверской он отправлялся в [Успенский] собор хлебнуть маслица из лампадки у образа Владимирской Божьей Матери. До поездки к Иверской он бывал в конторе, а из собора ехал в амбар в Гостиный Двор.
Фирма их называлась «Петра Боткина сыновей». И в конторе, и в амбаре приезд Петра Петровича ожидался с великим трепетом. Все и вся должны были быть по местам и за работой. Дело принадлежало Петру Петровичу и брату его, Димитрию Петровичу. Главным по конторе был Владимир Карлович Фелдман, высокий аккуратнейший немец немолодых лет. В амбаре – собственно, это было сердце всего громадного боткинского чайного дела – за главных были два брата: Сергей и Николай Всеволодовичи Лебедевы. Сергей Всеволодович точнейшим образом копировал Петра Петровича: так же брился, так же чесался, так же одевался и придерживался того же елейного стиля. Николай Всеволодович такой комедии не делал. С его дочерью, Верой Николаевной, Шапошниковы были знакомы и бывали друг у друга.
Сам амбар представлял из себя нечто, напоминающее контору Домби и С-на у Диккенса. Нельзя сказать, чтобы там царила грязь, но темнота, запущенность обстановки, сводчатые прокопченные потолки – все это говорило, что со времен покойного Петра Кононовича[67] здесь не работала кисть маляра и молоток столяра и обойщика не стучал. Все как было при родителе, так и оставалось. Помещение самого главы фирмы находилось в каком-то закутке. Петр Петрович находил, что если Петру Кононовичу так было хорошо, то уж им-то больше желать нечего. Кто-то при мне ему сказал, что лестница в его доме недостаточно парадна, что пора старую дубовую заменить белой мраморной. Петр Петрович ответил: «Господи Боже мой, ведь Петру-то Кононовичу хороша была, ходил – так чего же нам еще?» Так и амбар сохранял свой архаический вид. Только при Петре Кононовиче обороты были в сотни тысяч, а теперь тут ворочались миллионы.
С приездом Петра Петровича начинался поцелуйный обряд с братом Димитрем Петровичем, Сергеем и Николаем Всеволодовичами, с причитаниями, осведомлениями о здоровье. Затем он забирался в свой закуток, надевал как-то набок свое большое пенсне, начинались доклады, подавались бумаги для подписи, для просмотра, приходили люди всевозможные. Приходили люди по крупнейшим делам и по малым, приходили просители, которым совался, смотря по обстоятельствам, двугривенный, когда трешник. Но особенно донимали попы – этим отпускался фунтик чая. Раздачами заведовала целая рать артельщиков – благообразных, в длинных сюртуках, в бураках[68], с расчесанными бородами.
Петр Петрович сидел в закутке никому не видный, но сам-то он видел все, что творилось в амбаре. Случись кому-нибудь из служащих запоздать, сейчас приглашение к Петру Петровичу. Несчастный трепетал, если не было очень веских причин; если же их не оказывалось, Петр Петрович начинал ныть своим обычным причитанием в нос: «Иван Иванович, да как же это вы опоздали? Господи Боже мой, ведь это неудобно, ваши книги лежат, ведь так нельзя». Кричать он не кричал, а ныл и пилил бесконечно. Если вина была побольше, он клал свою руку либо на плечо, либо брал за руку или за бок и с самым ласковым видом, причитая и пиля, щипал своими пальчищами несчастного. Если нужно было пробрать больше, то щипки бывали с вывертом. После четверти часа такой беседы служащий уходил весь в синяках.
Но самое ужасное наказание было приглашение на обед, да еще когда бывали гости. Несчастному служащему и надеть-то нечего, и держать себя он не умеет, и есть не умеет, кругом все богачи, не обращающие на него внимания, а в то же время барыни лорнируют, мужчины оглядывают. Лучше такому человеку было провалиться сквозь землю. Уж какой там аппетит! Не чает, когда обед кончится. А посадят его рядом с Петром Петровичем. Обед же, как назло, тянется час, полтора. И так с богатого обеда неевши домой пойдет, сконфуженный, униженный, а придраться не к чему. Петр Петрович говорил всегда: «Честь лучше бесчестья». Только такой чести не дай Бог!
В конторе были списки – кому на праздники рассылать визитные карточки Петра Петровича. Я, 14-летний мальчишка, тоже был удостоен этой чести, из чего можно заключить, сколько рассылалось карточек. Сам с визитами он не ездил, за исключением митрополита и самых близких людей. Однако и бабушку нашу [Татьяну Петровну] Петр Петрович посещал. Бедных-богатых он не различал, нужно было быть «нашим». Но у «наших» он бывал неукоснительно на свадьбах, похоронах, когда звали – крестил, благословлял и дарил хороший образ, что было сделано для нашей Елены Васильевны, позвавшей его в посаженые отцы.
В амбаре были списки, кому и какой рассылается чай. Родственникам, как дед мой и бабушка, или митрополиту и т. п. посылался особенный чай «подзюкон» – нигде такого не было, да и на рынке его было очень мало. Весь его Боткины покупали для своего употребления и для подарков, купить его можно было только у них по особому распоряжению Петра Петровича. Для других чаи посылались по сортам людей, а списки были длинные. Главное место занимали в них попы столичные и провинциальные. Тут сорта чаев различались: в провинцию посылались сорта попроще, а то и залежалые.
Звону было много. Боткины прославлялись, круг же покупателей расширялся. Так что и тут это делалось неспроста. Когда был освящен храм Спасителя, то Петр Петрович был назначен старостой туда. Это был единственный род его общественной деятельности. В других отраслях он не фигурировал совсем и общественной благотворительностью не занимался. Кажется, под старость уж Надежда Кондратьевна где-то близ их имения Поповка за свои личные средства устроила какой-то детский приют, да и то это было что-то незначительное и прошло незамеченным. Но думаю, что негласной помощи шло от него много в раздробленном виде – все эти трешники, двугривенные, чаи, староство в соборах – все это в течение года должно было стоить больших денег. Но всем этим приобреталась большая популярность. Я думаю, не было человека в Москве, который хоть «внаглядку» не знал бы Петра Петровича. А дворники, городовые, просвирни, дьячки наперерыв старались кланяться ему, величать «Петр Петрович», подносить просфорки, словом, так или иначе показать, что они его знают и величают.
Но беда сделать что-нибудь не по нем – обязательно щипнет! А то сыпались двугривенные, вплоть до трешников. К старости стала развиваться у него подагра, ему рекомендовали ходить. В амбар, бывало, едет на серой лошади «яблоками», и санки с высокой спинкой – а он в толстом ватном картузе и бобровом воротнике! Домой же возвращался пешком по Ильинке. Тут уж каждый извозчик и мальчишка знал эту большую фигуру в длинном пальто.
Борис Алексеевич Швецов рассказывал мне, что один жидок взялся провести Петра Петровича без шапки по всей Ильинке. Было устроено пари на 25 рублей. Вся Ильинка была заинтересована в этом трюке. Из окон и на тротуарах ожидали заинтересованные люди появления Петра Петровича. А у него как у человека со своим воспитанием была привычка: если человек говорит с ним, сняв шляпу, то и Петр Петрович снимал свой картуз и надевал его только после того, как собеседник накроется. Жидок эту штуку подметил и на развлечение всей Ильинки разыграл ее как по нотам. Он подошел к Петру Петровичу без шляпы и завел разговор, интересный Петру Петровичу. Петр Петрович снял картуз, сам разговаривает, элегантно им помахивает. Так разговора и хватило до Ильинских ворот, где жидок, расшаркавшись, пошел получать свою четвертную.
Борис Швецов как чайный торговец знал неисчислимое количество таких рассказов о Петре Петровиче, только не удержались они у меня в памяти. А рассказы бывали чрезвычайно интересные тем, что доказывали, что не гнушался Петр Петрович принципом «не обманешь, не продашь». Воздавая ему всяческий почет и уважение, город (крупнейший торговый центр Москвы) его не любил, за глаза посмеивался, а может быть, и завидовал.
Приехав однажды на Петров день к ним на дачу поздравить Петра Петровича с «ангелом», я застал у них большое общество, в котором, собственно, мне было дела мало, а просто ради вежливости. В доме было делать тоже нечего, я и убежал в густо зарощенную кустами часть парка, выскочив за один крутой угол дорожки, я налетел на невиданное зрелище: в объятиях Петра Петровича находилась Елизавета Васильевна Шапошникова. Шел поцелуйный обряд. Целоваться-то он целовался решительно со всеми, но в глуши кустов, далеко от людей, обряд этот выглядел совсем иначе. Скажем, что Елизавета Васильевна, кажется, готова была совершать этот обряд со всеми красивыми и богатыми людьми, а Петр Петрович был еще родственник и очень влиятельный.
Впоследствии Петр Петрович все это вспомнил, не побоялся покривить душой и выручил Валентина, запутавшегося в сахарной спекуляции и непомерных расходах красавицы жены. Валентин торговал чаем, но увлекся и купил крупную порцию сахара, рассчитывая на подъем цен, а цены-то упали. Валентину грозило полное разорение, но у Боткиных оказались его векселя на громадную сумму, а товары были закуплены Боткиным. Вышло так, что кредиторам пришлось получить что-то по гривенничку за рубль. Конечно, Петр Петрович и на свою долю получил, сколько причиталось ему гривенников, и товар остался цел. Так Валентин почти ничего не потерял, а за поцелуйный обряд Елизаветы Васильевны отдулись господа кредиторы. Как честный купец Петр Петрович не мог сделать такой штуки, но психика его была под множеством воздействий. Во-первых, это был брат Надежды Кондратьевны, перед которой он терял всякую волю, с другой стороны, тут была заинтересована Елизавета Васильевна, которая, наверное, пустила в ход все свои чары. Наконец, Петр Петрович не упустил и своих интересов, получив с Валентина за эти операции, что ему следовало. Фирма продолжала свои дела и осталась верным боткинским покупателем, а сам Петр Петрович радовался, что обеспечил целую семью, привыкшую к роскошной жизни. Она ее так и продолжила.
Но не дай Бог какой-нибудь фирме, должной ему, пошатнуться! Первый об этом знал Петр Петрович. Кредит закрывался моментально, на боткинские товары накладовалось запрещение, деньги выдирались самым жестоким образом, хоть бы последствием было полное разорение людей, покупавших у него десятки лет и за все это время дававших ему крупные барыши. А нас он выручил и не имел от нас ни гроша пользы. Думается, потому что мы попали в сферу влияний Надежды Кондратьевны, у которой было несколько таких семей, которые она поддерживала своей невидимой рукой. В числе их были две Кати Татариновы, мать и дочь. Дочери она дала университетское образование, но была она кислая-прекислая девица, и образование ей совершенно не пригодилось. Тогда Надежда Кондратьевна выдала ее замуж, дав ей приданое, и она жила в собственном доме. Были еще такие случаи, всех, конечно, я не знаю.
Благодаря удивительной осведомленности и изворотливости Петр Петрович редко попадал в убытки от неплатежей. А если попадал, то и из этого старался извлечь пользу. Борис Швецов рассказывал, что Петру Петровичу попали какие-то векселя совершенно безнадежные, он в душе злился, денег было тысяч 15. Никакие извороты и фокусы его не помогали, и он решил торжественно пожертвовать их куда-то на монастыри, прозевав, что открылась какая-то лазейка получить эти деньги. Велико было его горе и афронт, когда монастырь, раскопав эту лазейку, получил все сполна. Петр Петрович, отдавая векселя, все-таки надеялся, что монастырь хоть что-нибудь получит, так как такие учреждения были на особом положении. За это «что-нибудь» монастырь приносил ему великую благодарность – а вдруг получил все. Это было уж слишком горько.
Когда я занимал кассирскую должность у нас в конторе, мне принесли деньги по его счетам. Деньги были ужасные. Нам всегда платили купонами и сериями с обрезанными купонами, это было терпимо. А от Петра Петровича принесли процентные бумаги по какому-то жестокому курсу и с обрезанными купонами, то есть такие деньги, что никому долгое время они пригодиться не могли. Я говорю артельщику, что не могу принять. Благообразный артельщик с красивыми манерами в подобострастной форме (все они были у него такие) начал уверять, что «Петр Петрович приказали кланяться и очень просят принять». Я туда-сюда, артельщик только и поет, что «очень просили». Люди были у него удивительно вышколены, даже такого «джентельмена» в русском сюртуке и обругать было неудобно. Я же после конторы собирался идти к ним обедать и говорю, что деньги я оставлю, только сейчас буду у Петра Петровича и узнаю, как быть. Артельщик, низко поклонившись, ушел.
За обедом я разговора не поднимал, а решил поговорить, когда он доберется до своего кресла. Но бывало, что и там до него разом не доберешься, так как ему туда подавали целую кучу телеграмм, которые он тут и проглядывал. Так и случилось: только я собрался, а Матвей и несет поднос, телеграмм штук десять. Ну, думаю, просмотрит, тогда уж. Вскрыл он несколько и, держа одну в руках, говорит: «Ну, слава Богу, вот ненадежный был платеж в Казани, теперь получили. Ну, слава Богу, всегда лучше получить, чем не получить». Только я ему со своим делом, а он – со своим и все долбит: «Всегда лучше получить, чем не получить». Так из моего разговора ничего и не вышло, так как он все себе долбит: «всегда лучше получить, чем не получить». А верни я ему деньги – глядишь, отдал бы их года через два. Но зато никто так не рекламировал и не хвалил наши товары, и мы таким образом получали покупателей.
В этом кресле Петр Петрович проводил свое послеобеденнное время, когда стал старее, то и просто привык в нем вздремнуть. Бывало, что приезжали к ним и важные дамы обедать. После обеда Аннета приведет такую к папа, занимает ее, а папа уж задремет; та к нему с вопросом, а он уж спит. Тогда Аннета изобрела способ выводить его из такого неудобного положения. Она опускала ложку в самый горячий кофе – и лишь заметит, что папа начинает клевать носом, она сейчас незаметно его этой ложкой и тронет по руке. Ложка руку-то обожжет, ну он сейчас и в порядок приходит, и разговор поддерживает.
Как бытовую сторону, может быть, интересно записать, что описание нашей жизни начинается во времена еще патриархальные. Тогда, как и теперь, у всякой семьи бывали свои сокровища, для которых в наше время люди придумали сейфы, приведшие массу людей в России к полному разорению благодаря неуваженью большевиков к замкам. В те же времена все ценности хранились по домам в железных сундуках, которые поднимали трезвон, когда их отпирали ключами, но молчали в руках жуликов, знавших хорошо, что стоит сбить петли – и сундук безмолвно отдаст хранимые в нем сокровища смелому человеку!
Боткинская контора в этом отношении явилась как бы прототипом будущих сейфов. У них при конторе для хранения ценностей была устроена несгораемая комната, где и хранились их богатства, но своим близким людям, на манер Крески, они предоставляли возможность и их вещи складывать туда. Завелось это с давнишних времен. Люди приносили, уносили свое добро. Так это и шло, но с появлением сейфов комната стала освобождаться. А когда пришло время конторе перебираться в новое помещение, то они просили своих доверителей окончательно забрать свои вещи. Когда это было сделано, то оказалось много свертков, от которых все отказались. При проверке свертков обнаружили много всяких ценных вещей, и в том числе две большие серебряные вазы. Все это добро поневоле Боткины должны были оставить себе, как всеми забытое, что называется – выморочное имущество.
Семья Боткиных была очень большая, и все чем-нибудь стали известны. Сестер было трое. Анна Петровна Пикулина – вдова, кажется, какого-то ученого – была тощим портретом Петра Петровича в очень кислом издании. Лицо у нее было всегда [такое], как будто она хватила уксусу, но всегда в бархатных платьях и настоящих кружевах. Мария Петровна была [замужем] за поэтом Фетом. Его я помню как старика с седой бородой, ее не помню. Третья была Екатерина Петровна, в замужестве Щукина. Она была так толста, что А. Ф. Мякишев должен был для ее кареты делать особенную дверку, чтоб разом открывалась половина стенки кареты, иначе она не могла в нее влезть.
Супруг Екатерины Петровны, Иван Васильевич Щукин, был самородок. Не получив ни образования, ни состояния[69], он собственным трудом, умом и неукротимой энергией разбогател так, что оставил за флагом самого Петра Петровича. Времени ему никогда не хватало. По поводу его женитьбы Петр Петрович рассказывал: «Приехал он получить приданные деньги Екатерины Петровны и все торопится – кажется, случай такой, что хоть раз в жизни мог бы не торопиться. Петр Кононович торжественно выносит ему пачку денег на блюде, все как следует, а он как хватил ее, сунул в задний карман не считая – и был таков. Так мы и остались с подносом». Петра Петровича удивляло, что так-таки не считая, в задний карман сунул. Его как будто огорчало такое пренебрежительное отношение к боткинским деньгам.
Торговал Иван Васильевич ситцами, скупая производства целых фабрик и распространяя их по всей России. Состояние его было очень велико, но и семья была большая. Дочь их, Нина Щукина, одно время очень дружила с нами, но, выйдя замуж, исчезла.
Знал я Сергея Ивановича, обладателя знаменитого собрания картин новейшей французской школы. Там были собраны такие редкости, что сами французы приезжали к нему любоваться ими. Думается, что теперь французы за громадные деньги вернули бы многие из его картин к себе домой, так как у них самих картин этих художников не осталось, а все они были у Сергея Ивановича. Не знаю почему, но я сам в галерее его не был ни разу. Михаил Васильевич же говорил мне, что стены его галереи были посыпаны, как бриллиантами, – так горели и сверкали эти картины своими красками.
Другой брат, Петр Иванович, собрал колоссальный музей русской старины. Там было все: и сбруя, и серебро, и образа, и кружева, конечно, всего не перечтешь. Я там был. Можно сказать, что это было громадное собрание всякой всячины, но без всякой системы; было много дубликатов, вероятно, были подделки. Собственно, это был уж не музей, а громадный материал для музея русской старины. Он его и пожертвовал Московскому историческому музею.
Третий брат, Димитрий Иванович, жил всегда в Париже, занимался книгами. Рассказывали о нем какую-то сложную историю, но я забыл.
Братьев у Петра Петровича [Боткина] было много. У Владимира было два сына – Додо и Мишата, ничем не прославившиеся, просто были здоровенные молодые люди боткинского типа.
Димитрий был женат на С. С. Мазуриной. Это была толстая дама в рубенсовском стиле, не особенно умная. Жили они великолепно, давая балы и маскарады, до сих пор незабытые. Димитрий Петрович собрал известную картинную галерею иностранных мастеров XIX столетия. У него были Корро, Мейсонье и др. Петр Петрович весьма сочувствовал этому собранию, всячески поощрял его, и я помню радость у Боткиных по случаю приобретения Димитрием Петровичем какой-то редчайшей картины. У Димитрия было три сына – Петр, Сергей и Митя – и дочь Елизавета Димитриевна. Митя мальчиком лет девяти умер от дифтерита, чем страшно огорчил мать. Целый год не могла она притронуться к оставшимся после него вещам, наконец решила разобрать их, получила дифтерит и скоро умерла. У этих Боткиных была большая погоня за аристократией. Елизавета Димитриевна хотела быть графиней, для чего был намечен граф Гендриков. Но почему-то это не вышло, и она долго оставалась барышней и вышла за инженера Дункер.
История инженера была особенная. Он и сестра в детстве потеряли родителей, средств не было, и они ходили в Питере нищенствовать на мост. Там их увидала некая дама, какая-то княгиня, взяла к себе, воспитала, образовала, и Дункер женился на Боткиной, а сестра вышла замуж за Третьякова, попав в самую гущу московских миллионов. Дункера купили себе дом на Поварской рядом с М. Грачевым, жили роскошно. Но Дункер умер бездетным, и Елизавета Димитриевна вышла замуж за двоюродного брата – Николая Ивановича Щукина. У того отнялись ноги, жил он недолго, и она опять осталась вдовой.
Сыновья Димитрия Петровича носили названия «глупый и злой дурак». Все дети наследовали рубенсовский стиль от матери, с боткинскими чертами лица, «злой дурак» Сергей был только посуше. «Глупый дурак» Петр занимался в конторе, имел вид бычка, играл сильно в карты и, должно быть, по-мазурински попивал шампанское. Он женился на Софии Михайловне Малютиной из семьи, которой принадлежала фирма Павла Малютина с сыновьями, иначе сказать, Раменская мануфактура. Там служил мой зять, и будь он тут, о Малютиных можно было бы тоже писать бесконечно. Богатство их было ни с чем не сообразно. София Михайловна имела вид цыганки, оставила Петру сыночка и от него удрала.
Сергей тоже женился. Петр Петрович язвил по этому поводу, что Сережа-то женился на дочери персидского посланника. Оно так и было: он женился на [дочери] Бюцова, бывшего в то время послом в Персии, а по Петру Петровичу выходило так, что женился он на персиянке. Сергей получил должность атташе при дармштадтском дворе, дипломатическими талантами не отличался, там так и торчал, при этом опереточном дворе.
При разделе после отца, [Димитрия Петровича], умные братья галерею разделили пополам. Сергей увез свою «половину» за границу, и судьба ее мне неизвестна. А «глупый» Петр, испугавшись революции 1905 года, свою половину продал за границу за 100 000. Таким образом бесценное собрание погибло для России.
Самая замечательная комната в доме Димитрия Петровича была столовая. Она вся была резного дерева. Он купил ее в одном из дворцов Венеции и перевез к себе. Теперь там жрут, вероятно, какие-нибудь комиссары, а что сталось с Петром, не знаю.
Павел Петрович был холост, сильно поживший и проживший свое состояние, поклоняясь в Питере балету и балеринам. У него стоял на столе башмачок одной из фей. Говорили, что он сорвал его у нее с ноги, налил шампанское и, восклицая «богиня, богиня!», выпил. С тех пор он хранился как реликвия. Про Павла Петровича можно бы написать множество, но негде взять справок. Я его видал, это был седой, довольно лохматый старичок.
Василий, написав письма об Испании, вращался в кругу Толстого, Тургенева и вообще писателей того времени. Они с Фетом составляли связь семьи Петра Петровича с семьей наших великих писателей. Не знаю, по какой причине он выбросился из окна и погиб.
Михаил Петрович был акаде[мико]м живописи. Видел я его один раз. С лица он походил на Мефистофеля. Должно быть, это был тонкий, умный и очень образованный человек. Своей живописью он не занял крупного места среди художников, но, обладая удивительным чутьем и тонким пониманием искусства, с самого основания музея Александра III в Питере занял место его хранителя. Если я знаю о нем, то со слов брата, Михаила Васильевича, сблизившегося с его семьей, когда он жил в Питере. В молодых годах Михаил Петрович был отправлен в Рим для усовершенствования в искусстве. Больших средств у него не было, и он жил, как и все учившиеся там художники. Но уж и в то время страсть к коллекционерству была в нем. Рыская по множеству римских антикваров, он, благодаря своему тонкому чутью и, конечно, знанию, выуживал за бесценок редчайшие произведения всевозможных искусств. Кроме того, он обладал особенным счастьем. Ему пришлось однажды купить обломок небольшой античной статуи отличной сохранности и работы; через сколько-то лет он купил опять обломок статуи, а когда принес его домой и составил с первым, то оказалось, что один кусок дополнил другой, и статуя была восстановлена и получила большую ценность, а как за обломки он платил какие-то пустяки.
При таком исключительном счастье Михаилу Петровичу удалось набрать массу драгоценных остатков старины, составивших к его смерти целый музей ценностью больше чем в миллион рублей. Особенно достопримечательна была у него коллекция византийских эмалей. Описание этих эмалей с рисунками их обошлось мне что-то больше ста рублей. Были у него мавританские блюда и ковры исключительной редкости и ценности. Американцы пытались выманивать у него эти вещи посредством громадных цен, что иногда и удавалось, если у Михаила Петровича бывали дубликаты. За одно мавританское блюдо было ему заплачено что-то около 70 000 рублей золотом.
Женат Михаил Петрович был на Солодовниковой и имел дочерей и сыновей, но никого из них я не знал. Кажется, один из сыновей был женат на дочери Павла Михайловича Третьякова, основателя московской галереи. Источником оставленных им очень больших средств было то, что он многие годы был членом правления разных банков, страховых обществ и разных акционерных предприятий, получая большие деньги главным образом за боткинскую фамилию.
Самую же блистательную карьеру сделал Сергей Петрович Боткин, прославившийся как доктор и профессор медицины. Если Захарьин[70] был велик в Москве, то слава Сергея Петровича не давала ему покойно спать. Особенно Сергей Петрович выдвинулся случаем в Крыму, где жила вечно больная императрица Мария Александровна, жена Александра II. У нее была чахотка, случился тяжелый припадок, бросились за докторами, подвернулся Сергей Петрович. Он помог ей решительно и скоро, заслужил доверие и еще молодым человеком стал лейб-медиком Ее Величества. Тут уж к нему полезла вся знать, все министры, а дальше и вся Россия. Но человек он был не алчный, Двор давал жалованье, и не больше, знать норовила эксплуатировать его на даровщинку, а уж для платежной публики времени оставалось мало, так как на руках были университет и клиники.
Жил он скромно, тем больше, что и семья была велика. Он овдовел и вторым браком женился на Нарышкиной[71], таким образом породнившись с царской фамилией. Почету было много, а умолоту было мало. Когда от нового брака у него родились дети, то крестила их Елизавета Феодоровна, и наш Петр Петрович попал с ней в кумовья. Положение Боткиных все ширилось и укреплялось. Из его детей я знал одного Сузу, встречаясь с ним у Петра Петровича, когда он бывал в Москве. Об одном из его сыновей[72] говорили, что был он страшный любитель моря, но отец ни за что не соглашался на морскую карьеру. Тогда юноша этот поступил в университет на медицинский факультет, а окончив, поступил врачом на военное судно и таким образом добился-таки своего. Один из сыновей сыграл неважную роль в судьбе Анны Петровны, но все они погибли теперь от революции – кто при царе, кто в Питере.
Рассказав, что знаю об их семье, еще добавлю, что отец их, Петр Кононович, оставил особенное завещание. Дав приданое дочерям, он их выделил. Сыновьям всем, кроме Петра и Димитрия, оставил по незначительному капиталу, а торговое дело – Петру и Димитрию, обязав их поддерживать братьев и их семьи так, чтобы они жили хорошо. И это завещание при Петре Петровиче исполнялось свято. Пропустив свое состояние, Пашенька[73] мог быть покоен, что все у него будет. Сергею Петровичу, я знаю, посылались концертные рояли, люстры и массы всего, что было ему нужно для его все-таки парадного обихода. И Додо, и Мишата, конечно, тоже пользовались дядюшкиной благостыней, как и все в этой громадной семье.
Отношения между всеми были трогательно-любовные. Называли они друг друга уменьшительными именами: Петяша, Петенька, Сереженька или уж по отчеству, уважительно. Однажды Сергей Петрович вздумал отдохнуть и летом пожить вблизи от брата в их дачной местности: Покровском-Глебове, Стрешневе, верст 12 от Москвы, за Петровским парком. За счет Петра Петровича была взята громадная дача и до ниточки вся заново обмеблирована, даны экипажи, прислуга и все содержание этой громадной семьи – и все только на три месяца. Потом уж Креска в малой части была наследницей этого имущества: ей попал какой-то шкаф, а остальное разошлось по рукам, кому что.
Без Петра Петровича и Михаил Петрович не мог занимать своих выгодных мест, так как Петр Петрович, благодаря своим капиталам, имел влияние на все эти учреждения. Семья Боткиных в этом отношении явила беспримерное явление в наших русских семьях, где члены семьи стремятся все идти разными расходящимися путями, не думая о корне. В мое время они жили уж довольно закрыто, а раньше жизнь у Петра Петровича била ключом. У него в зале на хорах был даже поставлен однажды «Гамлет», и Петр Петрович изображал самого Гамлета. Не знаю, насколько это достоверно, но картина «Явление Христа народу», на которую художник Иванов положил всю свою жизнь, полную всяких лишений, создавалась на нижнем этаже у Боткиных, где потом была устроена его громадная контора.
Несмотря на жестокий режим в конторе, люди, попадая на службу в нее, не уходили и служили до старости. Одно то, что человек служил у Боткиных, делало ему репутацию. Кроме служебных достоинств, от поступающего требовался каллиграфический почерк. Все, что исходило из этой конторы, имело вид не писанного, а рисованного или напечатанного, так что я не имел бы шансов попасть к нему в контору. Дорожили же люди этим местом потому, что оплачивалось хорошо. В случае беды Надежда Кондратьевна [Боткина (Шапошникова)] брала людей под свою защиту. А если человек чем-нибудь выделялся, то перед ним открывалась широкая дорога, наглядным примером чему служили два брата Лебедевы, поступившие к Боткиным маленькими служащими, а потом жившие в своих домах и ездившие на своих лошадях.
Был у Надежды Кондратьевны садовник, а у него сын Яша. Она на него обратила внимание, дала возможность поучиться, а потом он был помещен в контору мальчиком. Яша скоро проявил свои способности, получил повышение; приглядываясь к нему, Петр Петрович нашел, что он пригодится ему в Китае, куда его и командировал. Что делал там Яша, не знаю, но лет через 30 вернулся в Москву Яков Матвеич Молчанов, купил на Тверской дом Сергея Сергеевича Мазурина, брата Софии Сергеевны Боткиной; тут же недалеко выстроил один из первых громадных квартирных домов на европейский склад. Не то в Тамбовской или Воронежской губернии завел имение тысяч в шесть десятин, и открылась контора [по торговле] цейлонскими чаями «Я. М. Молчанов». На Цейлоне у него оказались свои плантации. В доме по прихоти жены сменялись шелковые шпалеры – нынче розовые, завтра голубые – и мебель в соответствии с этим менялась. Жена же в виде спорта занималась покупкой редчайших драгоценных камней и бриллиантов. Яша вернулся несравненно богаче Боткина, только слепой. В том были виноваты условия китайской жизни. С сыном Якова Матвеича мы познакомились в Ялте, а мать его, закопав свои камни в Москве, осталась сторожить их.
Такая же феерическая карьера, и благодаря Петру Петровичу, была сделана и Швецовым, и спутником нашего Сергея Васильевича Печатновым, командированным с братцем вместе. Но наш вернулся с пустыми руками, а у Печатнова образовались миллионы. Петр Петрович умел находить людей и с пользой для себя давать им соответствующие дела. И не одни те, кого я назвал, оказались впоследствии гораздо богаче Боткиных. Эти карьеры были на глазах у всех служивших Петра Петровича, и всякий старался быть ему полезен, устраивая тем свою судьбу.
Надежда Кондратьевна оставалась все та же. Хоть дом их наполнялся иногда высшей аристократией Питера и Москвы, она либо просто не появлялась, либо выходила в своем чесучовом костюме и была важней всех аристократов, лобызавших перед боткинскими миллионами. Однажды прикатил к ней граф Шувалов, посол в Берлине. Остановившись у подъезда, он послал о себе доложить своего лакея. Надежда Кондратьевна сидела в это время на своем балконе, вдыхая весенний воздух. Матвей пришел с докладом. Ответ был: «Передайте, что благодарю, но не принимаю». Так этот великий дипломат и уехал со двора; не видать ее на балконе он не мог, так как он был над самым подъездом.
Замужество дочерей почему-то не ладилось у Петра Петровича. Аннета наконец вышла замуж за Василия Алексеевича Андреева, брата Лизиной подруги. Аннете было лет под 30. Как это случилось, так я думаю, никто этого потом объяснить не мог. Но жених совершенно не годился для нее. Андреевы имели старинный колониальный магазин на Тверской на углу против генерал-губернаторского дома, торговали тоже чаями, были богаты, но сам Василий Алексеевич для женитьбы не годился. Он казался влюбленным в Аннету, прилетал к ним во двор на неоседланной лошади. Прозорлив был Петр Петрович в делах торговых, а тут оплошал, не заметил, что имел дело с человеком ненормальным. Вышла Аннета за него и с первого же дня узнала, что сделала ошибку непоправимую. Пожалуй, года три, а то и пять носила она фамилию Андреевой, чувствовала себя плохо, расстраивались нервы, наконец получила развод и стала опять Боткиной. Петр Петрович не знал, как ее и утешить.
Аннета поселилась теперь у них в квартире, которую занимал брат Михаил [Петрович] после своей женитьбы. Ей было предоставлено все: свои выезды – дивная пара белых лошадей даже была у нее куплена в золотую карету императрицы А. Ф., когда та ехала короноваться. Нужно знать, что молодые, абсолютно белые лошади, да еще чистых кровей, являются страшной редкостью и всегда стоили громадных денег, а собрать пару было еще трудней, недаром Николай Шапошников ускакал так таинственно из Москвы. Помню Аннету на этой паре в голубой плюшевой тальме с белым козьим мехом и ливрейным лакеем на запятках. Словом, тут вся скромность и бедность Надежды Кондратьевны полетели вверх тормашками. Коричневые платья превратились в роскошные туалеты от Лион, Минангуа и Ворт.
Московская жизнь Аннету не удовлетворяла, да и скандал был слишком свеж, вся Москва обсуждала его на разный лад. Аннета стала уезжать в Питер к Сергею Петровичу, там влюбилась в своего кузена, но он не отвечал на ее поздний «амур». Она стала уезжать надолго в Париж и вообще за границу. Кузен приезжал туда тоже, на роскошную жизнь у него денег не хватало, тогда Аннета дарила ему ящики из-под сигар, где вместо сигар лежали свертки с золотом. Он принимал, но не любил [ее] и укатил в Америку, где и женился на американке. Аннета писала домой все реже и совсем перестала. Петр Петрович послал в Париж кого-то, но там ее не оказалось; начались поиски и наконец ее нашли в По, на границе с Испанией, но она была уж сумасшедшая. С большим трудом ее перевезли в Париж и поместили в лечебницу Шарко; но ничего помочь не могло. Тогда ей был выстроен прекрасный дом при Мещерской психиатрической больнице Московского губернского земства, где тогда служил наш Миша. Ее привезли сюда из Парижа, и она оставалась все там под самым бдительным призором до самого моего отъезда из Москвы. Так она и не узнала о смерти отца, матери, сестры и всего, что творилось в Москве. Бедная Анюта, как-то теперь протекает ее жизнь? Хотя теперь ей уж лет под 70, может быть, Бог ее и убрал.
Гучковы
У Петра Петровича оставалась еще Вера, которая вышла замуж за Н. И. Гучкова.
Этим браком Петр Петрович мог быть доволен. Гучковы – староверы из старой Москвы. Были они богаты, но растрепались, однако по Москве имя еще было громкое. Их отец был женат на француженке. Французская кровь освежила устаревшую гучковскую, и молодые Гучковы проявили себя на разных поприщах как люди деятельные. Одним деятельность их нравилась, другим нет, но не в том дело. Садясь писать, я не брался судить, а хотел лишь записать свои воспоминания и личные впечатления. Николай Иванович[74] был в то время меньше среднего роста, недурно сложен, недурен собой, с черными волосами и усиками. Вид был у него развязный; говорил – как из решета горох сыпал.
В это время он был уж заметным гласным Думы. Возился и в своем деле, кажется суконном, но без блестящих результатов, что показывало, что к торговле у него способностей не было. На свадьбе я не был, но была она какая-то необыкновенная. Началась она в Москве у Боткиных в доме, венчались на Рогожском кладбище, на самой окраине Москвы, а оттуда через весь город ехали в имение Поповку, так что было совершено целое путешествие. Не знаю только, было ли второе венчание в нашей церкви. Хотя, по богомолью Петра Петровича, надо думать, что без этого не обошлось.
После свадьбы вскоре Гучков был в боткинском деле. Петр Петрович, думается, уж рад был передать бразды новому человеку: уж и он, и Димитрий Петрович наработались, сын Димитрия Петровича Петр для этого не годился. Николай Иванович скоро занял там, хоть и из-под руки Петра Петровича, хозяйскую позицию. Он начал вкачивать в старые меха новое вино. Приблизительно в это время или раньше немного Боткины открыли сахарный завод в Таволжанке в Харьковском районе. Управляющий его, Иост, дельно повел завод, и дело оказалось блестящим.
Вступив в фирму, Николай Иванович, глядя на невероятные дивиденды «Константин и Семен Поповы», захотел и свое чайное дело пустить по образцу поповского, но упустил из виду одно обстоятельство. Поповы закупали чаи без комиссионеров, посылая ежегодно из Москвы скупщика чаев, редкого знатока их, нашего приятеля, Алексея Николаевича Изгарышева. Поповы держались принципа, не давая пользы комиссионерам, на манер Боткинского Швецова, богатевшего не по дням, а по часам, пустить чай через свои магазины, избавившись от вторых рук. Таким образом получилось, что и заработок комиссионеров, и вторых рук оставался у Поповых, да и чаи, покупаемые знатоком и верным человеком, приходили дешевле и быстрей в Москву, что имело громадное значение. Значение имело и то, что Поповы первые додумались до этой комбинации и забрали колоссальные барыши.
Боткины же закупку оставили по старой системе, то есть чаи закупались их комиссионером А. В. Швецовым через его комиссионеров в Китае. Все пользовались, а Швецов больше всех, даже Боткиных. Оставив старый способ закупки, Боткины стали открывать свои магазины, сдавая их под отчет людям, в том числе и Ф. А. Мякишеву.
Получилась неожиданная картина. Поповская розница торговала нарасхват, так как публика уж привыкла к поповскому этикету[75], а боткинские чаи появились как бы внове, так как до сих пор они торговали только оптом, а покупатели их имели свой круг покупателей. Отказавшись от старых покупателей, Боткины потеряли их, так как тем стало выгодней покупать поповские чаи, уже зарекомендованные, и Боткины стали в позицию конкурентов с самими собой. Магазины же требовали больших расходов, требовали запасов чая, который расходился медленно, арендаторы магазинов задерживали часто выручку, а то и просто оказывались недобросовестными. Пошли неплатежи, так сказать, самим себе. Фирма Боткиных к таким пассажам не привыкла, тогда Николай Иванович, находя старых людей непригодными в его новых «мехах», этих людей разогнал, поставив новых. Он ставил людей с делом совсем не знакомых и тоже со «всячинкой» – и пошло падение знаменитой фирмы. В деньгах стало туго, а товар лежал, от лежания он лучше не становился, покупатель стал уходить. Конечно, дело рухнуло не в один день, но старому Петру Петровичу пришлось наблюдать, как оно поползло под гору, на которую он тащил его всеми способами своего сложного характера. Теперь выручал только сахарный завод.
Ведя так «блистательно» боткинские дела, Николай Иванович не мог удержать прыти соственного дома. А он несся вскачь, грозя расшибить и фундамент, на котором он стоял. Семья его стала быстро расти. У Петра Петровича родились каждый год столь долгожданые внучки, а наконец дождался и внуков: Петюнчика и Колюнчика, а при них четыре сестры. К этим малышам был приставлен невиданный персонал. Всех людей у Веры в доме насчитывалось до 40 человек, кроме семьи.
Трудолюбие и бедность, которыми старалась Надежда Кондратьевна напичкать дочерей, уступили место находчивости. Вера стала проживать до 300 000 рублей в год. Действительно, нужно было иметь находчивость, чтобы тратить такую уйму денег. Петр Петрович, потеряв вожжи, мчался с дочкой в этой бешеной скачке. Сколько нужно было денег, чтобы содержать свой дом со всеми причудами Надежды Кондратьевны, которая только и думала теперь что о внуках, во что обходилась Надя с нарождавшейся картинной галереей; чего стоила Аннета, в первое время еще здоровая, а потом в больнице, а содержание сумасшедших – самое дорогое [дело] из всех, да еще на боткинский масштаб. Но и отцовское завещание не потеряло силы; семья Димитрия Петровича жила целиком за счет конторы, в Питере. Словом, было о чем задуматься Петру Петровичу.
А старость накладывала свою лапу. Бедная Надежда Кондратьевна стала впадать в младенчество. Решено было, что Вера переезжает в отцовский дом. Ее дом у Никиты Мученика близ Старой Басманной опустел и, кажется, был продан. Контора из дома выехала в громадное правление фирмы на Устьинской набережной. Помещение это стало обставляться старинной мебелью, так как она стала входить в моду. Для этого существовал драпировщик Волков, только тем и занятой, чтобы рыскать за мебелью, случайно продававшейся; на его же обязанности было перевешивать картины. Смотрит Вера на картину, и захочется ей видеть ее в другом месте, при другом освещении – являются волковские мастера, уж просто жившие в доме, снимают картину и вешают на указанное место. Но и там нужно снимать что-то, а эта в новом освещении оказывается нехороша, нужно найти и для нее место – так и шла бесконечная перетасовка.
Николай Иванович, не желая отставать от свояка и моды, тоже покупал, что подвертывалось, но не слышно было, чтобы покупки были удачны. Он покупал разное картинное старье. Был он городским головой, для приемов нужна была зала, а при стариках она исполняла должность столовой, но и столовая нужна городскому голове. Думали-думали и решили сломать зимний сад и на месте его сделать столовую. Зимний-то сад был небольшой, а тут требовалась столовая не меньше залы – и погнали новую стройку с самой земли. Вышел целый дом в 3 этажа: нижние пошли под Верину прислугу, а в верхнем стали проедаться боткинские береженые денежки.
Эх, «скоро шар катится, коль под гору идет». С ним же катился и Петр Петрович. Здоровье стало падать, ноги [всё] хуже. В последний раз я видел его приехавшим с прогулки, а наверх его принесли уж в кресле. Было это зимой, а летом он кончился.
Бедная Надежда Кондратьевна и не узнала, что он умер, так как уж окончательно впала в детство. Еще года два после его смерти она жила и все кричала, кричала день и ночь. Но дом был громадный, и крик этот слышался лишь в районе, где было ее помещение. При ней было штуки три сестер. Жизнь же шла в доме все тем же аллюром. Наконец и она скончалась.
Я на похороны не попал, так как был за границей, но поехал на 40-й день и мало народу нашел в церкви. Были только свои. Над могилами этих старых людей, каких уж не народится в Москве, возник памятник в новом стиле, как эмблема того, что начали они складно, а кончили по-декадентски. На памятнике изображены их портреты в виде барельефов.
Гучковские дети росли в условиях совершенно особенных: если мать их приучали ко всевозможным лишениям, то этих приучали к излишествам. К визитам к Иверской и в собор Петр Петрович прибавил теперь ежедневный визит к Вере и каждый день каждому ребенку привозил по игрушке. Архипычу пришла забота, какой он не видал за все долгие годы службы у Боткиных. Вере нужно же было находить все новые и новые игрушки, каких у ребят не было, – у них образовался целый магазин, ими была занята целая комната. Неудивительно, что дети потеряли к ним всякий интерес. Пришло время такое, что Архипыч сбился с ног, больше найти не мог игрушек, каких у детей не было. Он отправился тогда на базар, там купил самые грубые и дрянные игрушки, только дети кухарок употребляли такие. Петр Петрович разнес старика за такую покупку, но других не было, пришлось ехать с чем Бог послал. Удивлению его не было границ, когда дети, получив эти игрушки, пришли в неистовый восторг. Таких они еще не видали – их можно было швырять и ломать без нотаций со стороны бесчисленных воспитательниц!
А воспитательниц было сколько угодно. В доме жили: француженка, немка и англичанка; была специально такая, что наблюдала за физическим развитием детей. Ежедневно ставились им градусники, делались кому надо бульки, ванны, все, что мог выдумать бездельный человек для заполнения своего времени. Все дети в своих туалетах не видали другого цвета, как белый, почему вечно слышали окрики нянек и гувернанток, что они испачкаются. Они не могли бегать, как хотели, играть, как хотели: костюмы могли быть запачканы! Дети росли хилыми и вялыми. За границу Вера ездить не любила, но взваленные ею на себя невыносимые заботы принудили наконец докторов заставить ее ехать хоть отдохнуть от такой канители. И она уехала, отдав детей на лето бабушке. А та распорядилась сшить им костюмы из любимого ей сурового полотна, были сделаны такие же фартуки, в саду насыпана гора песку, появились грешники, и дело пошло на лад. Ребята просто стали счастливы, поднялась возня, появилось баловство, они ожили и к приезду мамы приняли такой вид, что она только удивлялась, что случилось с детьми.
Сделавшись «головихой» и пустившись вовсю, она была окружена умными людьми, то есть братцами Гучковыми, которые тоже помогали растаскивать боткинские карманы вплоть до того, что ездили на их лошадях. Кроме них, появились всевозможные деятели, и близким Вериным людям в этой компании стало делать нечего. Даже наша Лиза почти не бывала у нее. Но однажды попала: Вера была бесконечно рада отвести душу со старым другом, которому и поведала, что она чувствует себя, как в стае собак, которые все время ее терзают всевозможными протекциями, просьбами, заступничеством, что она так утомлена всем этим, что от нее остались кожа и кости. И действительно, силы ее оставляли, ей только оставалось лежать, не имея определенной болезни. Это продолжалось до тех пор, когда таковая наконец появилась и на почве истощенного организма сделала то, что Вера в короткое время сошла в могилу лет около 50.
Очень удивительно, что все усилия Веры сделать из детей своих уродов пропали даром. Сколько мне ни приходилось слышать о них, всегда отзывы были как о милых и скромных людях. Вера желала, чтобы дочь моя была знакома с ее детьми, но непомерный ход Вериного дома всегда смущал мою жену, и из нашего знакомства вообще ничего не вышло.
Еще при жизни Веры две ее дочери вышли замуж. Одна вышла за Карпова – одного из 18 Карповых, внуков архимиллионерши Марии Федоровны Морозовой, оставившей после своей смерти одними деньгами 50 000 000 и неисчислимые богатства, заключавшиеся в паях Никольской мануфактуры Саввы Морозова с сыновьями. Она была вдовой Тимофея Саввича, учредителя товарищества, и матерью Саввы Тимофеевича, жена которого, Зинаида Григорьевна, была столь прославлена в Москве.
Другая сочеталась с сыном Николая Ивановича Прохорова, тоже архимиллионером, заказавшим однажды для какого-то из своих юбилеев моему портному Оттен, считавшемуся одним из первых в Москве, разом 40 ливрей по самой последней моде для своей многочисленной челяди. Правда, подобный случай был: Д. П. Боткин, желая справить свою серебряную свадьбу, поставил условие «Эрмитажу»[76], чтобы вся прислуга была в новых фраках. Но то был «Эрмитаж»: [заведение] содрало с Боткина по 100 рублей с персоны, чем дело и кончилось. А тут частный дом: Прохоров должен был содержать целый ресторан, чтобы только кормить свою челядь. Так валяло наше первостатейное купечество, пока революция без разбора не свалила всех в голодную яму.
Судьба других детей Веры мне неизвестна. Одного сына я видел у нас на концерте, он показался мне очень милым и приличным юношей. Грубый же и скверно воспитанный Прохоров, как было слышно, был посажен большевиками в Андроньев монастырь, где, кажется, сидит и до сих пор. Другого сына Прохорова, Гришу, мне пришлось видеть в Ялте: этот юноша потерял облик человеческий и от трудной походной жизни, и от беспробудного пьянства. Лицом он напоминал отца, но оно обратилось в какую-то раздутую подушку с пьяными глазами.
Про братьев Гучкова много распространяться не буду. Деятельность Александра Ивановича всемирно известна. Она, как тесто, в значительной степени за отсутствием на земном шаре гучковских денег взошла на боткинских дрожжах. Вместе с Д. Н. Шиповым, другом и учителем в политической жизни моего брата, Михаила Васильевича, они основали партию «17 октября»[77], в основе которой лежит монархия. Гучков собственноручно сорвал корону с головы несчастного Николая II, как говорили, из личной мести. Он, мечтавший быть военным министром, сделавшись им, уничтожил армию приказом № 1. Он, питавшийся боткинскими деньгами, старавшимися всеми мерами покрепче нахлобучить корону на голову царя, разрушил царство – конечно, не один, но с помощью таких же «умных» людей, как сам.
Мне пришлось видеть его однажды по делу. Был он в конкурсе по долгам [семьи] Гирш, дом [которых] был заложен у меня и братьев Сырейщиковых по второй закладной. Дом был громадный, в полном беспорядке, но очень ценный. Кредитному обществу проценты не платились, нам угрожала покупка этого дома, чего мы не желали. Я поехал говорить с Гучковым. Совершенно соглашаясь со мной, что Гирши теряют много, теряя дом, он обещал принять все меры спасти имущество от торгов. Я уехал успокоенный – через неделю дом принадлежал нам. Мы понесли от этой покупки довольно значительный убыток, но не от дома, а потому, что не хотели затрачивать на него денег, хотели развязаться с ним скорей и, торопясь, продали его разом двум покупателям. Пришлось одному платить неустойку; продавая и покупая в короткий срок приходилось платить две дорогие купчии, что в общей сложности и дало нам убыток. Оставайся дом в руках у Гиршей – эти опасности им не угрожали, а займись Гучков добросовестно этим делом, оно принесло бы конкурсу – а следовательно, и Гиршам – пользу.
Другое свидание произошло в амбаре у Василия Алексеевича Бахрушина. Гучков уж был на дороге к своей печальной славе. Бахрушин был туз на всю Москву. Я сижу у старика, вдруг потихоньку, очень медленно, открывается дверь и в ней постепенно обрисовывается фигура Александра Ивановича. Он входит и останавливается у двери, кланяется всей спиной и, потирая руки, заискивающим голосом приветствует старика, который, увидав его, приглашает взять место. Потирая руки и продолжая кланяться всей спиной, Гучков подошел здороваться с Бахрушиным. Я встал и уехал – он был мне противен и в эту минуту, и за гиршевский дом.
Александр Иванович представляется мне авантюристом чистой крови. Случилась война с бурами – он там добровольцем; случилась война с Японией – он там в Красном Кресте; случилась свадьба брата на Боткиной – он уж в боткинском кармане. Случилась Дума на Руси – он председателем ее; произошла революция – он дерет корону с Николая. Служа раньше во «Взаимном кредите» в Москве, он все время своих похождений получал от этого банка свое содержание. Бывали ссоры, и дуэли, и гам на всю Россию. Не без боткинских денег, вероятно, братец Федор Иванович издавал какую-то газету, раздувая популярность своих старших братьев. А младший Константин тихою стезею служил в кредитном о-ве и купил себе хороший дом, занял место председателя Московского городского взаимного страхового о-ва и благодушно выглядывал себе имение, которое и купил. Когда пришло время всем удирать из Москвы, Федора Ивановича уж не было, он скончался. Александр Иванович оказался в Берлине, потом Париже, а теперь, вероятно, в вагоне, так как видали его в Константинополе, и в Америке, и в Сибири, где, мне кажется, ему и следовало бы остаться.
Братцы Николай и Константин оказались [после революции] в Ялте. Николаю Ивановичу во время войны удалось избавиться от Таволжанского сахарного завода, сделав блестящее дело; он купил дачу близ Гурзуфа, где прохлаждался и толстел. Константин Иванович худел и торговал вином Николая Ивановича, а потом открыл магазин случайных вещей, составляя из слез и горя продающих свое благополучие. Он укатил в Севастополь продавать чужие бриллианты, потому что знал, что там цена на них была чуть ли не в полтора раза выше ялтинской.
Это случилось в тот момент, когда Крым рухнул. Константин Иванович застрял в Севастополе, а я и Николай Иванович попали на пароход «Георгий». Увидав меня, он спросил: «Вы тоже едете?» Но так как пароход стоял, то я ответил: «Пока нет, но надеюсь, что нас успеют эвакуировать благополучно». На это он громогласно и с апломбом стал уверять меня, что никаких большевиков в Крыму не будет, а что он едет только к брату в Севастополь. Этот разговор шел в то время, когда на «Георгия» грузились раненые и больные, и все учреждения Красного Креста, где он играл роль главноуполномоченного, зная, конечно, что пароход никуда, кроме Константинополя, не пойдет. Он говорил настолько громко, что окружавшая нас толпа прислушивалась к словам столь известного человека, и вдруг из гущи этой толпы раздался знакомый мне голос: «Врет, как зеленая лошадь». Гучков оглянулся и, закончив разговор, вмешался в толпу.
Гучков устроился под Константинополем на вилле, где было много русских. Мне приходилось раза три быть в Южнорусском банке Рябушинских, и каждый раз я встречал его там. Что он там делал – не знаю. Константин же с великим успехом и рвением продолжал и в Константинополе строить свое благополучие на слезах беженцев, открыв через неделю после нашего прибытия на Пера[78] магазин случайных вещей. Сам он говорил мне, что за первый месяц было выдано участникам по 20 процентов чистой пользы. Хлебнул он и моих слез.
Остроуховы
Как вышла замуж Надя, у меня не сохранилось в голове, вероятно, в то время меня не было в Москве. С Ильей Семеновичем Остроуховым[79] она прожила свой век, что называется, ни шатко ни валко. Особенного счастья тут быть не могло, так как уж очень он был груб. Надя выходила замуж тоже немолодая, за человека без всяких средств. Выигрышные его билеты в количестве двух-трех штук были заложены перед свадьбой в конторе Сырейщикова, а после свадьбы были выкуплены. Значит, нужда миновала. Был он художник не без дарований, так как П. М. Третьяков нашел возможным пару его пейзажей поместить в своей галерее. Но быть пейзажистом не велика слава. Умный Илья Семенович, вращаясь в третьяковском кругу, конечно, познакомился и с Боткиными и предпочел богатую женитьбу полуголодному существованию пейзажиста.
Поженившись, они поселились в Трубниковском переулке, в особняке, принадлежавшем Петру Петровичу. Первое время женитьбы он еще занимался живописью, но потом, вероятно, рассудил, что чем меньше будет его картин, тем они будут реже, а следовательно, и ценней, и постепенно он это дело забросил. Петр Петрович позаботился о нем и дал место директора в их только что основанном товариществе, и художник стал директором чайного товарищества, что давало Илье Семеновичу у себя дома независимое положение. Каким он был директором, предположить нетрудно, но боткинское дело пострадать не могло, так как старых, умных голов было там достаточно.
Но Илья Семенович был действительно умный человек, художественное образование он воспринял в совершенстве. Обладая вкусом, знанием, умением пробраться, куда другим это не удавалось, он начал собирать картины. Когда в обмен на свои, когда выпрашивая у художников, когда за деньги, но коллекция его стала расти. Картин крупных у него не было, все были полотна небольшие, но каждое полотно выбиралось с тонким знанием дела, почему она скоро обратила на себя внимание, стали даже сравнивать ее с галереей Третьякова. Но, по-моему, это не так, с Третьяковской галереей ее равнять не приходится, а считать собрание Ильи Семеновича как дополнение к Третьяковской галерее нужно, так как мелкие произведения показывают постепенное развитие таланта, а крупные – это окончательный вывод целого ряда подготовительных работ, и в этом отношении, пожалуй, собрание Ильи Семеновича даже интересней галереи П. М. Третьякова.
Надя, всегда спокойная, очень рассеянная, мало обращала внимания на грубые выходки Ильи Семеновича. Однажды в моем присутствии и в присутствии В. В. Якунчикова он обругал ее дурой, ворчал, что ему что-то не так подано и т. д. Наконец Владимир Васильевич не выдержал и просил Илью Семеновича в его присутствии так себя не вести. Илья Семенович пришел в порядок, но на лице Нади, кроме равнодушия, ничего видно не было. Должно быть, кроме этой грубости, в Илье Семеновиче было что-то, что ее от него не отталкивало, и в конце концов они жили мирно. Надя тоже была умна и не связывалась из-за этих дел с мужем.
Петр Петрович давал им на существование хорошие средства; Надя жила очень хорошо. Были и лошади, и лакеи, и вся обстановка богатого дома, но франтить она не любила да и не умела. Ходила всегда в платьях самых простых фасонов, с модами ничего общего не имевших. Денежки же берегла и считала их хорошо. Однажды, поравнявшись с ней близ ее дома, я зашел к ней. Она позвала в гостиную, села на кресло и, извинившись, расставила ноги, отчего из платья получился род подноса. Она на него вытряхнула все содержимое кошелька и стала считать, чтобы определить, сколько было потрачено за прогулку. Следовательно, шел постоянный и самый мелочный учет денег. В общем, она была милый, внимательный человек, но как-то не очень в себе.
Народ в доме у них вертелся постоянно и самый разнообразный, но в большинстве случаев интересный. У него я познакомился с Евгением Трубецким[80]. По случаю войны в самом ее начале устраивались у него лекции с самыми последними известиями и с обсуждениями этих известий. Тут же взвешивались шансы «за и против». И как-то выходило все так, что немца уничтожить ничего не стоит, но когда практика показала другое, то и лекции кончились.
Кто ближе знал Илью Семеновича, говорил, что в дружбе он был человек неизменный и твердый и на него можно вполне полагаться, но меня он поднадул. У одних моих знакомых выяснялась возможность продажи репинской картины, которая с молодых лет не давалась Илье Семеновичу. Репин даже по его указанию переделал ее для Ильи Семеновича, но что-то случилось и картина ушла в другие руки, переходила дальше. Илья Семенович хоть и следил, но не успевал вовремя – и опять она ему не попадала. Наконец я обещал ее ему купить и купил. Он через полчаса уж был у меня и с радостью, взяв ее за раму, сказал: «Наконец-то ты моя». Уезжая, уж на выходе, говорит: «За мной этюд». Но никакого этюда я не получил. А напоминать я считал неудобным, так как не из-за этюда же я хлопотал. Ведь я и всю картину мог оставить за собой.
К красному вину у него была слабость, и он понемногу тянул его целый день. А другая слабость была – это играть в дурака, для чего у него в кармане всегда была колода карт. [После революции] он остался в Москве охранять свои художественные сокровища и сделан комиссаром собственной галереи. Говорили, что живет он сносно и будто потягивает свое винцо. Большая заслуга его, что он обратил внимание любителей на нашу старинную церковную живопись, в течение веков находившуюся в варварских руках наших верующих губителей искусства. Уход за образами был всегда самый безбожный. Коптили их и свечами, и маслом, а для освежения протирали тем же маслицем из лампад. Со временем живопись покрывалась почти непроницаемой корой всякой грязи. На счастье, старинные краски не поддавались разрушению, и когда опытная рука реставратора сняла эту коросту, то новгородская живопись выступила на свет, сияя поразительной красотой красок, неподражаемой тонкостью работы и вкуса. То же случилось и с живописью других русских школ. Илья Семенович положил основание для собирания русских икон, при условии освобождения их от вековой грязи.
Староверы на манер Морозовых, Рахмановых и многих других платили громадные деньги за старинные образа, ценя их за их черноту, видя в этом святость. В иконах же Ильи Семеновича святости не убавилось, но зато воскресло искусство. За Остроуховым пошли Рябушинские и другие любители, стали открываться выставки старинной церковной живописи, показавшие, что живопись наша стояла не ниже живописи так называемого периода прерафаэлитов. В последний мой визит Илья Семенович показал мне образ Спасителя, говоря, что он происходит из храма Софии в Константинополе. Образ был очень хорош, но в происхождении его я усомнился, хотя этого не сказал. Как у любителя у Ильи Семеновича была слабость приписывать всему тому, что было у него, некоторую необычайность и исключительность, в то время как бывшее у других казалось ему не стоящим внимания, чем он иногда и пользовался, чтобы выманить у конкурента вещь, без которой сам спать не мог.
Я знавал злейшего конкурента Ильи Семеновича, это – Ивана Евмениевича Цветкова. Был он почтенный старик, всеми фибрами не терпел он Илью Семеновича и где только мог подкладывал ему, что называется, свинью. Так, из-под носа у Ильи Семеновича он выхватил редкий портрет работы Левицкого и торжествовал. Иван Евмениевич говорил, что с налета картин покупать не следует: «Я смотрю, смотрю на картину и когда уверюсь, что без нее жить не могу, тогда покупаю». Свое большое собрание он пожертвовал городу Москве вместе со специально выстроенным домом. Его собрание можно считать как параллель к третьяковскому собранию, но в гораздо меньшем размере.
Пропавшие фотографии
Все это мелочи, не стоящие записи, но они свидетельствуют о большой восприимчивости – и задаю себе вопрос: почему я и все мы, оказавшиеся в жизни людьми способными, так скверно учились? Вдумываясь и вспоминая, как все было, прихожу к заключению, что никто никогда не объяснил нам, что сама работа приносит великое удовлетворение, почему, будучи по характерам легкомысленны, мы не столько работали, сколько играли. Хотя отец и говорил нам, что без образования шага не ступишь, но применение образования нам не объяснялось. Для чего он отдал нас в Лазаревский институт – учреждение чисто армянское? Я могу делать предположение, но точного ответа дать не могу. А очевидно была цель дать специальное образование для определенной карьеры. Соответствовало ли это образование нашим наклонностям, с этим никто не считался. Никого не было, кто объяснил бы прелесть крыловской басни и удовольствие произнести ее со смыслом, по-декламаторски. Иначе сказать, возбудить интерес к каждой изучаемой вещи. Даже Митяй ставил на колени и уходил. Я мучился задолбить то, чего не понимал. А задолбивши, произносил, как барабан. Цель зубристики была звуковая, а мозгу не было дела до того, что учил. Самое неумение педагогов заставить или приучить мозг к пониманию и загубило дело. Как началось, так прием этот и вкоренился. Я никогда не знал значения грамматики, проклинал ее и на всю жизнь остался безграмотным.
Никто и никогда не объяснил нам, что всякое дело надо доделать. Мы начинали и не кончали. Никто за этим не наблюдал и не заставлял нас что-нибудь сделать. Ну хоть выпиливание. Начнем по своей инициативе с увлечением, а доделаем кое-как; то же было и с «Русским вестником». Никто не объяснил нам ценности работы, что мало что-нибудь сработать, а надо стараться скопить капитал опыта, чтобы получился известный стаж. Только фотография дала мне воспитание, да и то после того, как мне стало 25 лет. Выходило плохо – выбрасывалось, отпечаток желтел – печатался новый. Больше десяти лет работы по фотографии не дали результатов, не сохранилось ни одного отпечатка и негатива.
После первой поездки по Греции и Италии я привез с собой груду интереснейших негативов для стереоскопа. Со страшным увлечением были сделаны отпечатки на стекле и выставлены на выставке, я получил медаль. Было выставлено всего штук двадцать, а негативов были сотни – ни их, ни отпечатков даже следа не осталось. Никто не воспитал в нас любовь к делу, умение ценить его результаты. У нас все было, и после смерти отца сыпалось все, как с неба. Потому и не приучился к работе. Только после 25 лет я понял, что, если негатив плохо промыт, он испортится, а отпечаток пожелтеет. Стоило больших усилий принудить себя промывать как нужно. И только тут я начал себя воспитывать в том направлении, чтобы избавиться от небрежности. Но знаний своих не ценил, фотография была игрушкой, однако она дала мне много. Если б с детства вместо конфет нам попали такие воспитательные игрушки, мы бы на 15 лет раньше узнали, что кое-как делать не стоит, и мы были бы другими.
У Миши была больная нога, которая не позволяла ему обращаться с ней кое-как, – и она явилась его воспитательницей. Думая постоянно о ней, получал выводы, а выводы были применительны вообще к жизни, и он между нами оказался особенным.
Тетрадь третья
Путешествия
Турция
Но недолго пришлось пожить мне в этом милом жилище. Меня стало тянуть за границу. Письма Васи подогревали это желание, он собирался со своими моряками добраться до Александрии и побывать в Египте. Неспокойный дух, гнавший меня с детства видеть новые места, разжигал во мне зависть к брату, и желание мое укреплялось все больше. Наконец я получил от Васи письмо, в котором он писал, что по возвращении из Египта он думает задержаться в Константинополе и если я присоединюсь к нему, то мы можем пуститься в путешествие, намечая путь на Афины, по Греции, по Адриатическому морю, в Бриндизи, откуда [можно] отправиться на Сицилию и через всю Италию на Вену вернуться по домам. Проект был блистательный, и не моему воспламененному воображению было противостать ему – и я решил ехать, тем больше и денежные дела, по скромности моей, дозволяли мне пуститься в этот бесконечно интересный путь.
Время это совпадает с путешествием Карпа Кондратьевича Шапошникова[81] к его брату, Валентину Кондратьевичу, для примирения. Было это около Рождества, отъезд мой приурочивался к середине января. Я понемногу подготовлял свой отъезд, рассчитывая взять с собой стереоскопический аппарат. В те времена вероскопов еще не было и приходилось тащить громоздкий аппарат с треножником и тяжелыми стеклами. Но такое путешествие с собственной фотографией становилось особенно интересно, и о неудобстве думать не приходилось.
За несколько дней до отъезда вдруг захворал Карп Кондратьевич. Оказалось, что с ним случился удар, одна половина тела совсем парализовалась, он потерял речь, и положение его было очень тяжелое. Случилось это как гром, потребовался сложнейший уход. Домашние сбились с ног и просили меня помочь им дежурством ночью. Конечно, я охотно согласился и одну ночь провел с ним, это было дня за два-три до моего отъезда. Я умчался в Одессу числа 15-го января 1891 года и больше уж не видал этого человека, получив в Константинополе известие о его смерти.
Прошло почти два с половиной года, как я перестал писать мои воспоминания, закончив их известием о смерти К. К. Шапошникова. Известие это было получено от брата Сергея Васильевича по телеграфу в Константинополе в двух словах: «Карп скончался». Эти два слова и то, что мы с Васей сидели в это время в Константинополе, как бы провели черту между нашей юностью и новой жизнью, в которую мы вступали. Это было в 1891 году в январе. Мне шел уж 25-й год, детство и юность были позади.
Неблагоприятные обстоятельства, выяснившиеся во время смерти отца, рассеялись. Одно то, что мы были в Константинополе, говорит за то, что ничего не мешало нам выполнить большую и интереснейшую поездку по белому свету. Все благоприятствовало нам, и в головах наших не было и представления о том, какое счастье сопутствовало нам. Ни мне, ни Васе и в голову не приходило, что может быть иначе. Задумали поездку, сели и поехали.
В потребностях наших мы, конечно, распущены не были и действовали в границах того бюджета, какой был у нас. А еще так недавно, всего лет 12 назад, у каждого из нас едва ли было столько [средств], чтобы покрыть расходы надуманного путешествия. Как взглянешь теперь назад, приходит в голову вопрос: а какое же право имели мы, чтобы так просто осуществлять свои желания? Другого ответа нет, как – право счастья. Оно было с нами, и без задумки мы предпринимали то, что манило нас. Поездка же предполагалась большая.
Из Москвы отбыл я числа 17-го января, миновал Киев, приехал в Одессу, чтобы на пароходе добраться до Константинополя. Береговая вода оказалась замороженной. Перед чудесным закатом солнца мы вышли в тихое, покойное море. Пароход был грузовой, и пассажиров на нем было мало и, как сейчас помню, везли на нем много овец. Следующий день застал нас в открытом море. Денек был серенький, море еле дышало, падал редкий снег, слышалось только пыхтение машины. Душу мою овеяло удивительным миром и тишиной. И вдруг откуда ни возьмись прилетела птичка, села на поручень, вертя головкой и хвостиком, потом соскочила на палубу, поклевала чего-то и, отдохнув таким образом, вспорхнула и исчезла в безбрежном пространстве. Для привычных моряков возможно, что такие явления обычны, но меня оно поразило настолько, что о нем я никогда забыть не мог.
Плыли мы целый день, ночью имели остановку в Каваке, где производился полицейский и таможенный осмотр парохода, а со светом медленно двинулись по Босфору. Что говорить о том, что я просмотрел все глаза на этот единственный в мире пролив, восторгаясь все больше по мере приближения к городу, стараясь в необъятной громаде его найти Айя-Софию. Наконец пароход наш стал, и в одной из причаливших лодок я увидел брата, выехавшего встречать меня и выручать в этой шумящей и толкающейся толпе всяческих людей в фесках и шапках, накинувшихся на наш пароход. Багаж у меня был незначительный, и я скоро оказался в лодке с братом. Она доставила нас в таможню, где турки-чиновники моментально отобрали у меня табак и гильзы. Потом уж за какой-то бакшиш гильзы мне вернули, а табак так и пропал.
С этого началось наше совместное с братом пребывание за границей. К этому времени я уж порядочно поколесил по России, с неделю жил с Никоном Молчановым в Петербурге и не мог считать себя новичком в путешествиях. Однако Константинополь настолько оглушил и ошеломил меня своим исключительным шумом, разнообразием населения, видом вечно движущейся пестрой толпы, необычайностью зданий, узостью улиц и вообще жизнью громадного восточного города, что мне кажется, не будь со мной брата Василия Васильевича, я бы совершенно растерялся.
Прожили мы тут недели две-три, побывали всюду, где полагается и не полагается побывать путешественникам. Видели вертящихся дервишей в Скутари[82]
