Метафизика Аристотеля. Четырнадцатая книга
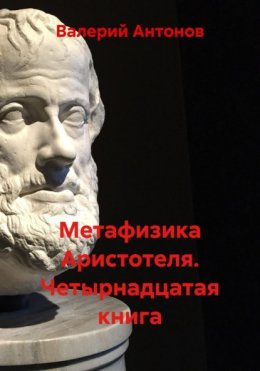
Системная критика платонизма в XIV книге «Метафизики» Аристотеля: онтологический статус чисел и проблема первоначал
Введение.
XIV книга «Метафизики» Аристотеля является прямым и системным продолжением его критики платоновской теории идей, сфокусированной на учении об идеальных числах как высшей реальности и первоначалах всего сущего. Этот трактат представляет собой тотальное онтологическое опровержение основной конкурентной модели, где математическое выступает фундаментом бытия. Аристотель подвергает сомнению онтологический статус чисел (отдельно ли они существуют?), их каузальную роль (являются ли они причиной вещей?) и внутреннюю логику всей платоновско-пифагорейской системы, расчищая поле для собственного учения о четырех причинах.
Структура и основной ход мысли Аристотеля с привлечением комментариев
1. Установление фундаментальных принципов (Гл. 1): Критика с позиции категориального анализа
Аристотель начинает XIV книгу с фундаментального методологического утверждения, которое ставит под сомнение саму возможность построения онтологии на основе противоположностей. Его тезис заключается в том, что противоположности (ἐναντίων), такие как «Единое/Многое» или «Предел/Беспредельное», не могут быть первоначалами (ἀρχαί) по своей природе. Причина этого в том, что противоположности всегда существуют в чем-то ином – в некоем субстрате (ὑποκείμενον), или подлежащем. Они являются атрибутами, характеристиками или состояниями этой первичной сущности, но не самостоятельными сущностями. Следовательно, они не самодостаточны (οὐκ ἄνευ τῶν πτώσεων) и не могут служить ultimate explanation бытия. Этот принцип наносит сокрушительный удар по сердцу платоновско-пифагорейской системы, где именно пары противоположностей объявляются первоосновой всего сущего.Ход мысли Аристотеля: Дмитрий Владимирович Бугай акцентирует, что в данной аргументации Аристотель проводит критику не ad hoc, а последовательно применяет разработанный им самим категориальный аппарат. С точки зрения Аристотеля, всё, что говорится о сущем, относится к одной из десяти категорий, главной из которых является сущность (οὐσία). Противоположности же (например, «большое/малое», «чётное/нечётное») по своей природе относятся к категории качества (ποιόν) или отношения (πρός τι). Они не могут существовать самостоятельно, а всегда сказываются о сущности как своем носителе.Комментарий Д.В. Бугая: Таким образом, платоники, по мнению Аристотеля, совершают грубую категориальную ошибку: они пытаются возвести в ранг первоначала и самостоятельной сущности (οὐσία) то, что по своей логической и онтологической природе является лишь свойством, атрибутом или модусом этой сущности. Они путают онтологический статус категорий, что приводит к принципиально несостоятельной модели мира, где свойства отрываются от своих носителей и гипостазируются в самостоятельные реальности.
Этот первоначальный методологический ход является стратегически crucial. Аристотель не вступает в дискуссию внутри парадигмы оппонентов, а сразу оспаривает сами ее основания, навязывая ей свой собственный категориальный язык и онтологические правила. Он показывает, что система платоников построена на логически нерелевантном основании, что предопределяет крах всех последующих построений – учения об идеальных числах, их порождении и их causal роли.Значение этого шага: 2. Критика отдельных учений (Гл. 2-3): Тройной удар по числовой онтологии
Аристотель не ограничивается общей методологической критикой. В главах 2 и 3 он проводит блестящий образец дифференцированного анализа, показывая, что каждая из существующих версий числовой онтологии содержит в себе непреодолимые внутренние противоречия.
2.1. Критика платоников (идеальные числа как отдельные сущности)
· Суть учения: Последователи Платона постулируют существование идеальных чисел (ἀριθμοὶ ἰδεατικοί) как особого класса запредельных сущностей, отличных и от идей, и от математических чисел, и от чувственных вещей.
· Аргументы Аристотеля: Он обрушивается на эту концепцию с требованием объяснения:
1. Онтологический статус: Как и почему эти числа существуют? Если они – самостоятельные сущности, то каков принцип их индивидуации? Что отличает одно число-сущность от другого?
2. Системная согласованность: Как они соотносятся с другими идеями? Существует ли, например, идея числа «3» наряду с идеей «животного» или «блага»? Возникает бесконечный регресс: если для каждой тройки вещей должна существовать причастная ей идея числа «3», то что объединяет сами эти различные «тройки»?
3. Каузальная роль: Если они отделены (χωριστά), то каким именно образом они служат причиной (αἴτιον) для чувственных вещей? Их онтологический статус настолько туманен, что делает любую объяснительную функцию невозможной.
2.2. Критика пифагорейцев (вещи состоят из чисел)
· Суть учения: Пифагорейцы отождествляют сущее с числом, утверждая, что физические тела буквально состоят из единиц-монад (μονάδες) как своих материальных элементов.
· Аргументы Аристотеля: Здесь критика носит наглядный, почти физический характер, сводя абстрактную теорию к абсурдным эмпирическим следствиям:
1. Проблема телесности: Как бескачественные, непространственные и лишённые положения единицы могут сложиться в тело, обладающее весом, плотностью, занимающее место в пространстве? Как число, сущность которого есть количество, может трансмутироваться в качество?
Аристотель показывает, что пифагорейцы пытаются объяснить природу, минуя её собственные принципы, что приводит к полной несовместимости теории с наблюдаемой реальностью.2. Проблема движения: Если всё есть число, то что есть движение? Число по своей природе статично и дискретно, оно не может быть принципом непрерывного изменения и движения, которое мы наблюдаем в физическом мире. 2.3. Критика математиков (математические числа как отдельные)
· Суть учения: Некоторые философы (возможно, современные Аристотелю математики-платоники) считают математические числа (ἀριθμοὶ μαθηματικοί) отдельно существующими от чувственных вещей, занимая промежуточное положение между идеями и миром.
· Аргументы Аристотеля: Критика здесь фокусируется на эпистемологии и онтологии математических объектов:
1. Проблема существования: Где и как существуют эти числа? Если они не в чувственных вещах (как их свойства) и не в мире идей, то возникает третий, непонятный и излишний мир сущностей («третий человек»).
2. Проблема связи: Если они отделены, то почему свойства и законы чувственного мира (например, гармония звуков или геометрические пропорции тел) им подчиняются? Их отделённость делает эту связь чудом или мистической случайностью, а не научным объяснением.
Алексей Фёдорович Лосев, крупнейший знаток античного платонизма, видит в этой критике вскрытие ключевой апории всей платонической системы – пропасти между умопостигаемым и чувственным миром. Платоновские числа, по Лосеву, будучи объявлены первоначалами, на деле не выполняют своей основной функции – объяснения и порождения мира становления. Они оказываются «мёртвыми, неподвижными сущностями, не имеющими действенной силы». Критика Аристотеля демонстрирует, что платонизм, пытаясь объяснить мир через Число, на самом деле объясняет его через нечто, совершенно чуждое его природе – через статичное, лишённое жизни и движения начало. Эта критика, таким образом, является не просто отрицанием, а указанием на фундаментальную структурную слабость конкурентной онтологической модели.Комментарий А.Ф. Лосева: 3. Глубинная проблема: благо и зло (Гл. 4). Этико-онтологическая апория дуализма
Аристотель, разобравшись с онтологическими и физическими недостатками числовой теории, наносит удар в самое сердце платоновской системы – её этико-телеологическое ядро, концепцию Блага.
Он исходит из предпосылки, которую сами платоники должны были бы признать: если их система построена на противоположностях как на первоначалах, и если Единое (τὸ Ἕν) провозглашается Благом (τἀγαθόν) и высшим началом, то логическая структура системы требует, чтобы его противоположность – Многое (τὸ Πλῆθος) или Неравное (τὸ Ἄνισον) – занимала symmetrically opposite позицию. Следовательно, эта противоположность по своей сути должна быть Злом (τὸ Κακόν).Ход мысли Аристотеля: Этот вывод приводит к ряду абсурдных и неприемлемых следствий, которые Аристотель с логической беспощадностью выводит:
1. Онтологизация зла: Зло перестаёт быть просто лишением блага (как оно часто понималось), а становится самостоятельным, вечным и неуничтожимым онтологическим принципом, одним из двух первоначал мироздания. Это – радикальный дуализм.
2. Всеобщая причастность злу: Поскольку всё сущее причастно первоначалам, а значит, и паре противоположностей, выходит, что всё во вселенной причастно злу в самой своей основе. Даже высшие, умопостигаемые сущности оказываются «запятнаны» злом.
3. Самоуничтожающаяся природа зла: Аристотель применяет к этому принципу зла его же собственную природу. Если зло – это противоположность блага, а благо есть цель и perfection, то зло по определению есть принцип разрушения и небытия. Следовательно, будучи самостоятельным началом, зло должно стремиться к самоуничтожению, что является логическим нонсенсом для вечного и неизменного первоначала.
Таким образом, попытка платоников связать свою метафизику с этикой оборачивается её полным крахом: их система не только не объясняет торжество блага как цели мира, но, напротив, делает зло его вечным и неустранимым фундаментом.
Крупные зарубежные аристотелеведы и историки философии (такие как сэр Дэвид Росс (W.D. Ross) и Джулия Аннас (J. Annas)) видят в этой критике не просто логический трюк, а глубокую полемику по сути.Комментарий зарубежных исследователей (У.Д. Росс, Дж. Аннас): · Росс подчёркивает, что Аристотель атакует не столько самого Платона (который в диалогах никогда прямо не отождествлял Неопределённую Двоицу со злом), сколько спекулятивные выводы и развитие его учения его позднейшими последователями в Академии. Аристотель показывает, к каким катастрофическим последствиям приводит буквальное и некритическое принятие числового дуализма.
· Аннас, в свою очередь, акцентирует телеологический аспект критики. Она указывает, что Аристотель демонстрирует: платоновско-пифагорейская модель разрушает саму идею блага как конечной причины и цели мироздания, центральную для обоих философов. У Аристотеля Перводвигатель XII книги – это чистое Благо как объект любви и желания, к которому всё стремится. В дуалистической же системе, критикуемой в XIV книге, миру не к чему стремиться, он раздираем двумя равноправными и противоборствующими началами. Критика, таким образом, прямо готовит почву для положительного аристотелевского учения о целевой причине и неподвижном перводвигателе.
4. Анализ способа «возникновения» (Гл. 5). Критика генетического мифа
Перейдя от статических противоречий к динамическим, Аристотель подвергает сокрушительной критике сам механизм, с помощью которого, по мнению платоников, из первоначал возникают идеальные числа. Его стратегия заключается в том, чтобы рассмотреть все возможные модели порождения и показать, что ни одна из них не применима к вечным и неизменным сущностям.
Платоники утверждают, что числа возникают из взаимодействия двух первоначал – Единого (ὁ Ἕν) и Неопределённой Двойки (ἡ ἀόριστος δυάς). Аристотель требует объяснения: каким именно образом это происходит? Он последовательно разбирает и опровергает все логически возможные модели:Ход мысли Аристотеля: 1. Путь смешения (ἡ μῖξις): Если первоначала смешиваются, подобно ингредиентам раствора, то они утрачивают свою собственную природу, переставая быть чистыми началами. Кроме того, смешение предполагает наличие некоего «сосуда» и внешнего по отношению к ним агента смешения, что ведёт к дурной бесконечности.
2. Путь сложения/соединения (ἡ σύνθεσις): Если Единое и Двойка складываются, как кирпичи, то число оказывается не первичной сущностью, а составной, сложной (σύνθετον). Составное же всегда posterior и менее совершенно, чем его простые элементы, что противоречит claims о числе как о высшей реальности.
3. Путь порождения как из семени (ὡς ἐκ σπέρματος): Если Двойка, подобно семени, принимает и осуществляет форму, задаваемую Единым, то мы имеем дело с классической аристотелевской парой «материя-форма». Но в этой модели:
o Неопределённая Двойка оказывается материей (ὕλη), пассивным началом.
Это прямо противоречит заявлению платоников, что оба начала являются равноценными и противоположными первоначалами. Более того, материя по Аристотелю есть принцип небытия и потенциальности, что снова возвращает нас к проблеме онтологического статуса зла.o Единое – формой (εἶδος), активным началом. Аристотель формулирует главное и неразрешимое для платоников противоречие, вытекающее из любой модели возникновения:Главный апория: вечность составного · Если числа возникают из первоначал, то они не вечны, а значит, не могут быть совершенными первосущностями.
· Если же они вечны (как настаивают платоники), то как нечто вечное и неизменное может состоять из элементов? Любое составное бытие по своей природе подвержено распаду и разрушению, оно метафизически менее совершенно и более ущербно, чем простое. Как могут противоположности, будучи по определению взаимоисключающими, вечно и неизменно пребывать в составе одного числа, не уничтожая друг друга?
Вывод Аристотеля: Доктрина «возникновения чисел» является логически несостоятельным «генетическим мифом». Она пытается применить language физического становления (генезис) к realm вечных и умопостигаемых сущностей, что приводит к категориальной ошибке и непреодолимым парадоксам. Это доказывает, что числа не могут быть первоначалами, а сама платоническая система не может дать последовательного объяснения собственному онтологическому устройству.
5. Окончательный вердикт о причинности (Гл. 5-6). Приговор числовой онтологии
Проведя детальный разбор внутренних противоречий платоновско-пифагорейского учения, Аристотель выносит ему окончательный вердикт, используя в качестве эталона свою собственную, разработанную в «Физике» и других трудах, теорию четырёх причин (αἰτίαι). Этот анализ является не просто ещё одним пунктом критики, а её системным завершением: Аристотель демонстрирует, что числа не только внутренне противоречивы, но и полностью несостоятельны в своей главной претензии – быть объяснительным принципом всего сущего.
Аристотелевский анализ через призму четырёх причин:
1. Не формальная причина (οὐκ αἴτιον ὡς εἶδος):
o Сущность (οὐσία) вещи, её «чтойность», определяется её формой (εἶδος) – специфической организацией материи, которая делает вещь именно тем, что она есть (например, форма души делает живое тело – живым).
o Вердикт: Абстрактное число может описывать количественный аспект формы (например, число частей), но оно не тождественно форме itself. Сущность человека – не число «2» (как двуногое), а сама двуногость как таковая, понимаемая качественно, а не количественно. Число в лучшем случае – акциденция формы, но не её суть.
2. Не материальная причина (οὐκ αἴτιον ὡς ὕλη):
o Материя (ὕλη) – это то, из чего состоят вещи.
o Вердикт: Утверждение пифагорейцев, что «вещи состоят из чисел», есть попытка представить число как материальную причину. Это абсурдно, так как число, будучи количеством, по определению бескачественно и не может выступать в роли субстрата, обладающего физическими свойствами (тяжестью, плотностью и т.д.). Число может выражать пропорцию или структуру материи, но не быть ею.
3. Не движущая (производящая) причина (οὐκ αἴτιον ὡς κινοῦν):
o Это источник движения, изменения и возникновения.
o Вердикт: Число абсолютно статично и пассивно. Оно не обладает ни волей, ни энергией, ни способностью воздействовать на что-либо. Нельзя представить, чтобы число «3» могло быть причиной движения шара или роста дерева. Оно не может быть ни агентом, ни принципом изменения.
4. Не целевая причина (οὐκ αἴτιον ὡς τέλος):
o Это цель (τέλος), ради которой что-либо происходит или существует.
o Вердикт: Благо, к которому всё стремится, есть нечто качественное, а не количественное. Конечной целью живого существа является осуществление своей природы (энтелехия), а не достижение некоего числового состояния. Число не может быть финальной причиной, объектом желания или стремления.
Таким образом, числовая онтология терпит полное фиаско. Она не может указать ни на один из четырёх фундаментальных способов, каким нечто может быть причиной бытия или становления вещей. Её претензия на роль универсального объяснительного принципа оказывается несостоятельной. Этот вердикт является позитивным обоснованием для аристотелевского проекта: подлинными причинами являются форма (формальная и отчасти целевая причина), материя, источник движения и цель (благо), а математика имеет подчинённый, инструментальный статус для познания количественных аспектов реальности, но не её сущности.Итоговый вывод: 6. Разоблачение нумерологии (Гл. 6). Критика «наивного» символизма и подведение итогов
Завершая свою системную критику, Аристотель переходит от высочайших уровней онтологии к её популярным, почти бытовым проявлениям – к нумерологическим спекуляциям, которые были широко распространены среди пифагорейцев и некоторых платоников. Этим он показывает, что ошибка в основах (принятие числа за сущность) неизбежно leads к абсурду на практике.
Аристотель берёт конкретный пример – мистификацию числа 7 (ἑπτά). Его сторонники утверждали, что его особая сила доказывается множеством совпадений: семь Плеяд, семь легендарных героев, идущих против Фив, потеря молочных зубов у человека в семь лет и т.д.Ход мысли Аристотеля: Аристотель подвергает эту методологию уничтожающей критике:
1. Произвольность и selecтивное восприятие: Нумерологи выбирают примеры, которые подходят под их теорию, и игнорируют те, которые ей противоречат. Почему именно семь героев Фив, а не, скажем, число ахейцев под Троей? Почему Плеяд именно семь? Если бы их было восемь, та же методология нашла бы способ мистифицировать и число 8.
2. Смешение категорий: Нумерология совершает грубейшую логическую ошибку, смешивая совершенно разнородные вещи, относящиеся к разным категориям:
o Количество (ποσόν): семь Плеяд.
o Качество (ποιόν): семь возрастов человека.
o Место (πού): семь кругов ада (в более поздних представлениях).
Утверждать, что число «7» одинаково причинно определяет и звёзды на небе, и биологический процесс, и мифологический сюжет – значит полностью игнорировать специфику и сущность этих явлений. Это не доказательство causal связи, а простая аналогия (ἀναλογία), часто натянутая и произвольная.o Отношение (πρός τι): семь против Фив. 3. Отсутствие механизма: Даже если такие совпадения существуют, нумерология не предлагает никакого объяснительного механизма (как именно число «7» вызывает смену зубов?), сводя всё к магической силе числа.
Вывод Аристотеля: Подобные спекуляции – это не наука (ἐπιστήμη), а проявление наивного, до-философского мышления. Они не доказывают, что число управляет миром, а лишь демонстрируют человеческую склонность искать patterns и упрощать сложную реальность. Истинная же наука должна исследовать специфические причины (αἴτια ἴδια) каждого класса явлений, а не подменять их числовыми суевериями.
Исследователи (как отечественные, так и зарубежные – например, В.Д. Росс или Д.В. Бугай) consistently проводят параллель между этой главой и III книгой «Метафизики» (Β), где Аристотель в виде апорий перечисляет основные трудности, связанные с теорией идей и чисел.Комментарий (связь с III книгой и общий итог): · Книга III (Β) ставит вопросы: «Существуют ли числа и идея отдельно?», «Как числа составляют сущность вещей?», «Если числа имеют начало, то как они вечны?».
· XIV книга (N) даёт на них развёрнутый, исчерпывающий и систематический ответ. Критика нумерологии в 6-й главе является финальным опровержением наивного взгляда, что числа буквально «находятся» в вещах как их составляющие (апория материальной причинности).
Таким образом, XIV книга выступает не как отдельный трактат, а как заключительный акт единого критического проекта, начатого ранее. Она демонстрирует, что программа сведения всего сущего к числам как к первоначалам несостоятельна на всех уровнях: от спекулятивно-онтологического (критика первоначал) до практического (критика нумерологии). Это тотальное опровержение очищает поле для позитивного построения аристотелевской метафизики, центрированной вокруг учений о сущности, четырёх причинах и неподвижном перводвигателе.
7. Итог и значение: XIV книга как системное опровержение и основа для собственной метафизики Аристотеля.
Проведённый в XIV книге анализ является не просто частной или узкоспециальной критикой отдельного учения. Это фундаментальное онтологическое опровержение (ἔλεγχος) одной из ведущих философских программ времени Аристотеля. Как заключает А.Ф. Лосев, Аристотель последовательно доказывает, что платоновско-пифагорейская программа сведения всего сущего к числам как к первоначалам является:
1. Внутренне противоречивой (содержит неразрешимые апории в вопросе о возникновении, статусе противоположностей и природе блага).
2. Логически несостоятельной (строится на категориальных ошибках и смешении модусов бытия).
3. Объяснительно бесплодной (не выполняет своей explanatory роли, так как числа не могут выступать ни в одной из четырёх причинных функций).
Этот разносторонний критический анализ выполняет в рамках аристотелевского проекта две ключевые, взаимосвязанные функции:
Книга выполняет роль «метафизического очищения поля». Она устраняет главного концептуального конкурента – математизирующую онтологию, показывая, что числа не могут быть субстанциями (οὐσίαι) или сущностями вещей. Они суть количественные свойства (ποσόν), акциденции, которые сказываются о сущности, но не могут претендовать на роль её основания. Это сокрушение альтернативной модели было необходимым условием для утверждения собственного учения Стагирита.1. Очистительная (Negative) функция: Очистив поле от ложных претендентов на роль первоначала, критика непрямым образом обосновывает и прокладывает путь собственной метафизической системе Аристотеля:2. Созидательная (Positive) функция: · Она защищает и делает единственно возможным его учение о четырёх причинах, где подлинными объяснительными принципами выступают форма (εἶδος как сущность вещи) и цель (τέλος), а не число.
· Она подтверждает статус математики как важной, но подчинённой дисциплины, имеющей прикладной, а не высший онтологический статус. Математика описывает количественные аспекты реальности, но не её сущность.
· Она подготавливает почву для центрального положительного учения всей «Метафизики» – теории неподвижного перводвигателя как чистой формы, ума (νοῦς) и конечной целевой причины всего сущего, лишённой каких-либо количественных характеристик.
Таким образом, XIV книга «Метафизики» представляет собой блестящий образец философской полемики, где разрушение чужой системы является не самоцелью, а необходимым конструктивным этапом в построении собственной, более совершенной и последовательной философской теории. Это не просто критика, а метафизическая терапия, освобождающая мысль от спекулятивных заблуждений и возвращающая её к анализу реальных причин и сущностей чувственного мира.
Четырнадцатая книга. Критика платонизма как основа собственной теории.
Глава 1. Критика учений о первоначалах как противоположностях, в частности Единого и Многого (Неравного).
Общее введение к комментариям
Четырнадцатая книга (Ника) "Метафизики" является заключительной и во многом итоговой. В ней Аристотель возвращается к критике платоновского и пифагорейского учения о числах и первоначалах, детально разобранной ранее в книгах I (А), XIII (М) и отчасти XII (Λ). Глава 1 книги XIV продолжает эту полемику, фокусируясь на проблеме использования противоположностей (в частности, Единого и Многого/Неравного) в качестве первоначал всего сущего. Критика Аристотеля основана на его собственной системе категорий (субстанция, количество, отношение и т.д.) и учении о четырех причинах.
1. Критика самой идеи противоположностей как первоначал.
Текст Аристотеля (Met. 1087a 29 – 1087b 4):
"Но вообще делать начала противоположности – нелепо. Ведь [тогда] начало окажется для одного [какого-то] подлежащего. Действительно, сущности ничто не противоположно; поэтому как может сущность быть началом существующих вещей? А ведь начало не может быть для чего-то другого, иначе было бы начало начала: ведь то, для чего оно начало, и есть его подлежащее, так что оно ему присуще. Но тогда противоположности всегда будут принадлежать некоторому подлежащему и никогда не будут отделимы… Поэтому если бы начала были противоположны, они не были бы отделимы. А на деле нет ничего, что было бы противоположно сущности, что ясно и из определения. Поэтому из противоположностей начала быть не могут, и если так, то не как начала вообще."
Комментарии:
А.Ф. Лосев (СССР/Россия): Лосев, глубоко изучавший античную философию и симпатизировавший платонизму, видит в этом пассаже фундаментальное различие между Платоном и Аристотелем. Для Платона противоположности (Единое и Неопределенная Двоица) – это сверхсущие принципы, порождающие бытие. Аристотель же требует онтологического субстрата для любых свойств и отношений. Лосев подчеркивает, что критика Аристотеля справедлива с точки зрения эмпирического и чувственного мира, но она "не достигает своей цели", когда применяется к платоновскому миру идей-чисел, который по определению запределен чувственному субстрату.
Работа: "История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика". М.: Искусство, 1975. С. 52-55, 78-80.
Суть комментария: Аристотель "онтологизирует" и "субстанциализирует" логические принципы Платона, низводя их до уровня акциденций, что является, по Лосеву, непониманием их трансцендентной природы.
W.D. Ross (Зарубежный специалист): Сэр Дэвид Росс, классический комментатор Аристотеля, видит здесь строго логический аргумент, вытекающий из аристотелевского учения о категориях. Противоположности (белое/черное, большое/малое) всегда являются качествами или отношениями, а значит, принадлежат чему-то первичному – субстанции (ουσία). Субстанция же не имеет противоположности (человеку не противопоставлено ничего, кроме не-человека, что есть лишенность, а не сущность). Следовательно, ничто производное и несамодостаточное (как противоположности) не может быть первоосновой (архэ) всего.
Работа: "Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary". Vol. II. Oxford: Clarendon Press, 1924. P. 468-469.
Суть комментария: Аргумент Аристотеля основан на примате субстанции над всеми другими категориями. Начало должно быть самодостаточным и не нуждаться в подлежащем, каковым и является субстанция. Противоположности этому критерию не удовлетворяют.
2. Анализ конкретных учений: платоников и пифагорейцев.
Текст Аристотеля (Met. 1087b 4 – 1088a 15):
"А те, которые принимают противоположности, не должны ограничиваться одними [противоположностями], которые они принимают… Далее, мы видим, что у них одно противополагается многому. Но тогда, если бы единое противопоставлялось многому, возникает много нелепостей: ведь одно будет немногим (поскольку многое противопоставляется малому), и тогда единое окажется немногим… Кроме того, они говорят, что число состоит из единого и из неравного, т. е. из великого и малого. Но такое неравное, великое и малое, должно быть либо тождественным друг другу, либо нет. Если оно тождественно, тогда мы получаем, что из него и единого состоит все, но тогда элементы будут не двумя, а одним… Если же они не тождественны, то мы должны спросить: почему великое и малое, а не многое и малое, или большое и маленькое, или какое-то иное из относительных?"
Комментарии:
Д.В. Бугай (Россия): Бугай, специалист по античной философии, акцентирует внимание на логической педантичности Аристотеля. Он показывает, что Аристотель выявляет внутреннюю непоследовательность в построениях оппонентов. Указание на то, что «единое» при противопоставлении «многому» должно быть «немногим», – это прием reductio ad absurdum (сведение к абсурду). Аристотель демонстрирует, что платоники произвольно выбирают пару противоположностей, не давая строгого обоснования, почему именно эта пара (Единое и Неравное) является первоначальной, а не любая другая.
Работа: "Аристотель и платоновская теория идей". (В соавторстве с А.В. Семушкиным). В кн.: Платон и Аристотель в их творческом взаимодействии. М.: РГГУ, 2017. С. 120-125.
Суть комментария: Критика направлена на необоснованность выбора конкретной пары противоположностей и на логические парадоксы, к которым приводит такой выбор в рамках самой системы платоников.
Joseph Owens (Зарубежный специалист): Оуэнс, автор фундаментального исследования по метафизике Аристотеля, интерпретирует этот пассаж как часть более широкой полемики о природе единства. Платоники и пифагорейцы пытаются объяснить множественность мира через введение второго начала, противоположного Единому. Но Аристотель показывает, что это второе начало само оказывается двусмысленным и неопределенным («великое и малое» как «неопределенная двоица»). Для Аристотеля же единство и множественность – это не самостоятельные сущности, а модусы бытия самой субстанции.
Работа: "The Doctrine of Being in the Aristotelian 'Metaphysics'". 3rd ed. Toronto: PIMS, 1978. P. 402-405.
Суть комментария: Аристотель не просто находит логические ошибки; он показывает онтологическую слабость концепции, которая пытается построить мир из чисто количественных и Relational (относящихся) принципов, игнорируя первичность субстанциального бытия.
3. Сущность Единого как меры, а не субстанции.
Текст Аристотеля (Met. 1087b 33 – 1088a 15):
"Единое означает меру некоторого множества, а число означает измеренное множество и множество мер… Поэтому естественно, что единое не есть некоторая отдельная сущность: ведь так же обстоит дело и с другими мерами. И действительно, мера всегда есть мера чего-то другого… Поэтому если бы само по себе существовало бытие-единое и бытие-сущее, то единое и сущее означали бы меру, а не измеряемое… Единое, таким образом, есть начало как мера."
Комментарии:
В.П. Гайденко (СССР/Россия): Гайденко подчеркивает, что в этом пункте Аристотель предлагает альтернативную, собственную концепцию Единого, которая имеет огромное значение для становления научного мышления. Единое лишается у Аристотеля мистико-онтологического статуса и становится функциональным принципом – мерой. Это рационализация понятия, переводящая его из области умозрительной метафизики в область логики и науки (математики, физики). Число – это не самостоятельная сущность, а результат измерения, то есть познавательная операция.
Работа: "Эволюция понятия науки. Становление и развитие первых научных программ". М.: Наука, 1980. С. 298-303.
Суть комментария: Аристотель совершает "коперниканский переворот", превращая Единое из трансцендентной сущности в имманентный принцип познания и упорядочивания мира. Это основа аристотелевского понимания науки как изучения количественных отношений в природе.
Jonathan Lear (Зарубежный специалист): Лир рассматривает эту идею в контексте аристотелевской теории категорий. Единое является таковым только по отношению к чему-то иному, к некоей множественности, которую оно измеряет. Оно всегда вторично. Быть "одним" – значит быть "одним чем-то" (одной линией, одним человеком, одним весом). Таким образом, единство – это нечто привходящее, акцидентальное по отношению к субстанции, которая первична. Это прямо противоположно платоновскому взгляду, где Единое есть высшая реальность.
Работа: "Aristotle: The Desire to Understand". Cambridge: Cambridge University Press, 1988. P. 277-280.
Суть комментария: Аристотель показывает, что "единое" – это не имя некоей вещи, а скорее способ говорить о чем-то другом. Это проявление его номиналистической тенденции в противовес платоновскому реализму.
4. Ошибочность отождествления «большого/малого» и «многого/малого» с материей.
Текст Аристотеля (Met. 1088a 15 – 1088b 2):
"Но они неправильно принимают большое и малое за элементы, и по указанной выше причине, и потому, что эти [начала] суть акциденции и отношения. Ведь всякое отношение есть нечто последнее по природе и бытию… Далее, большое и малое и все тому подобное суть отношения; а отношение есть наименее существенное из всего и позже [по природе] качества и количества. Поэтому оно не может быть родом или элементом существующих [вещей], как утверждают."
Комментарии:
А.В. Ахутин (СССР/Россия): Ахутин анализирует этот аргумент в свете понятия "материя" (ύλη) у Аристотеля. Материя – это потенция, субстрат, который сам по себе лишен формы, но способен ее принять. "Большое" и "малое" же не являются лишенностью формы; они сами суть определенные качества (количественные определения) или отношения. Следовательно, они не могут играть роль материи, так как уже являются чем-то оформленным (пусть и в категории отношения). Аристотель показывает, что платоники путают логический принцип неопределенности (своего рода "материю" в логическом смысле) с физической и онтологической материей.
Работа: "Понятие природы в античности и в новое время". М.: Наука, 1988. С. 145-148.
Суть комментария: Критика основана на различении у Аристотеля материи как субстрата и отношения как акциденции. Платоники пытаются онтологизировать логическое отношение, что приводит к категориальной ошибке.
Sarah Broadie (Зарубежный специалист): Броуди развивает эту мысль, указывая, что для Аристотеля материя должна быть тем, из чего нечто возникает и что persists (сохраняется) в процессе изменения. Отношение же не может persist таким образом. Если я уменьшаю кусок дерева, "большое" сменяется "малым", но сама материя (дерево) остается. Таким образом, "большое и малое" – это преходящие состояния материи, а не она сама. Они не могут быть первоначалом, так как сами зависят от более фундаментального носителя – субстанции и ее материи.
Работа: "Aristotle and Beyond: Essays on Metaphysics and Ethics". Cambridge: Cambridge Press, 2007. P. 24-26.
Суть комментария: Аргумент от персистенции: материя должна быть устойчивым субстратом изменения, в то время как отношения изменчивы и несамостоятельны.
5. Онтологический статус отношения и его неспособность быть первоначалом.
Текст Аристотеля (Met. 1088a 22 – 1088b 2):
"И далее, отношение не есть нечто существующее само по себе или какая-то сущность, но принадлежит к тому, что есть качество количества, и оно как бы отпрыск и случайное свойство количества, а не материя… Ибо отношение не имеет бытия само по себе, но его бытие состоит в том, чтобы быть тем, что оно есть, по отношению к другому."
Комментарии:
Э.В. Вольф (Россия): Вольф, переводчик и комментатор "Метафизики", акцентирует иерархию категорий у Аристотеля. В этой иерархии отношение (πρός τι) занимает одно из низших мест. Оно полностью зависимо и производно. Его бытие – это "бытие-для-другого". Поэтому сделать отношение первоначалом – значит поставить следствие перед причиной, сделать несамостоятельное – самостоятельным. Это нарушение фундаментальных принципов аристотелевской онтологии, где на первом месте стоит независимая и самодостаточная сущность (в конечном счете – неподвижный перводвигатель).
Работа: "Метафизика Аристотеля: современные исследования" (в соавт.). СПб.: Изд-во СПбГУ, 2002. С. 90-94.
Суть комментария: Аргумент основан на онтологическом приоритете: начало должно быть первичным и независимым, а отношение вторично и зависимо по определению.
Michael Frede (Зарубежный специалист): Фреде рассматривает этот аргумент в контексте аристотелевской семантики и логики. Слова, обозначающие отношения (например, "большой", "двойной"), приобретают значение только в связке с чем-то другим ("больше чего?", "двойной чего?"). Они не могут указывать на самостоятельную сущность. Поскольку язык и бытие у Аристотеля тесно связаны, тот факт, что термин является относительным (πρός τι), указывает на то, что и обозначаемая им реальность также является относительной и несубстанциальной.
Работа: "Essays in Ancient Philosophy". Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987. P. 81-83.
Суть комментария: Лингвистический аргумент: грамматическая и логическая природа относительных терминов отражает их онтологическую несамостоятельность.
6. Логическое доказательство невозможности «многого/малого» быть элементами числа.
Текст Аристотеля (Met. 1088b 2 – 1088b 14):
"Далее, элементы не сказываются о том, что из них состоит. Но многое и малое (в том смысле, в каком они принимаются за элементы) сказываются о числе: ведь число есть многое и малое… Следовательно, многое и малое не могут быть элементами числа. Кроме того, как могут многое и малое быть началом, если многое и малое не существуют друг без друга, а элемент должен быть первым, из чего [нечто состоит] как из первого?"
Комментарии:
М.А. Солопова (Россия): Солопова видит в этом заключительном аргументе применение аристотелевского учения о predicables (то, что может быть высказано). Элемент (στοιχεῖον) есть то, на что вещь делится и что входит в ее состав как материальная причина. Предикат же (сказуемое) указывает на свойство или сущность вещи. Аристотель проводит четкую границу: элемент не может быть предикатом составленной из него вещи (молекула воды не является "водой"). Но "многое" и "малое" – это именно предикаты, высказываемые о числе. Следовательно, они не могут быть его элементами.
Работа: "Аристотель и платонизм: критика учения об идеальных числах" // Философский журнал. 2010. № 2. С. 15-17.
Суть комментария: Аристотель использует логико-лингвистический анализ для различения материальной причины (элемент) и свойства (предикат), показывая, что платоники смешивают эти два плана.
G.E.L. Owen (Зарубежный специалист): Оуэн, известный анализом методов аргументации у Аристотеля, интерпретирует этот пассаж как пример применения "правила элиминации". Если Х является элементом Y, то Y не может быть предицировано как Х. Мы не говорим "дерево – это древесина", мы говорим "дерево сделано из древесины". Платоники же, утверждая, что число состоит из Многого и Малого, одновременно вынуждены говорить, что число есть многое и малое (т.е. предицировать элементы о целом). Это, по Аристотелю, логическая ошибка, доказывающая, что Многое и Малое – не элементы, а свойства.
Работа: "Logic, Science and Dialectic: Collected Papers in Greek Philosophy". Ed. by M. Nussbaum. London: Duckworth, 1986. P. 200-202.
Суть комментария: Аргумент основан на логическом правиле, запрещающем отождествлять часть и свойство целого. Это демонстрирует строгость аристотелевской критики.
Статьи, посвященные исследованию четырнадцатой книги и главы 1 "Метафизики":
Annick Jaulin. "La genèse du nombre dans la Métaphysique d'Aristote (livre M-N)". // Revue de Philosophie Ancienne, 1999, 17(2), p. 3-24. (Анализирует всю полемику Аристотеля с Платоном о числе в книгах XIII-XIV).
Stephen Menn. "Aristotle’s Criticism of Plato’s First Principle" (Chapter 5: "The Critique of the Great and Small"). // In his book: "The Aim and the Argument of Aristotle's Metaphysics". 2012. (Подробный разбор критики "великого и малого" как материи).
Д.В. Бугай. "Критика Аристотелем платоновского учения о принципах" // ΣΧΟΛΗ. Философское антиковедение и классическая традиция, 2008, 2(2), с. 277–291. (Общая статья, но с фокусом на аргументы из книг М и Ника).
В.В. Петров. "Аристотель и платоновская Академия: спор об идеальных числах" // Историко-философский ежегодник. 1997. М., 1998. С. 5-35. (Классическая работа, детально разбирающая контекст и содержание полемики, включая главу 1 книги XIV).
Этот анализ показывает, что критика Аристотеля является системной, затрагивающей онтологические, логические и категориальные основания учений его предшественников.
Глава 2. Невозможность вечного состоять из элементов. Критика платоновского вывода множества из не-сущего.
1. Невозможность вечного бытия иметь материю и элементы.
Текст Аристотеля (Met. 1088b 14 – 1089a 2):
"Далее, все, что состоит из элементов, сложно. Но если вечное не может ни возникнуть, ни разрушиться, и если все, что состоит из элементов, необходимо должно возникать и разрушаться (ибо оно возникает, когда элементы соединяются определенным образом, и разрушается, когда они разъединяются), и если, таким образом, все состоящее из элементов имеет возникновение, – то ничто вечное не состоит из элементов… Ибо все, что имеет материю, способно и быть и не быть; а все, что вечно, существует с необходимостью. Следовательно, ничто вечное не имеет материи."
Комментарии:
А.Ф. Лосев (СССР/Россия): Лосев видит здесь одно из центральных противоречий между двумя системами. Для Платона и пифагорейцев первоначала (Единое, Неопределенная Двоица) вечны, но при этом мыслятся как составляющие, элементы. Аристотель же утверждает, что подлинная вечность – это актуальная, завершенная и простая действительность, не имеющая в себе потенциальности, а значит, и материи. Лосев отмечает, что этот аргумент Аристотеля направлен против любой формы дуализма первоначал, так как любое составное единство потенциально может распасться.
Работа: "История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика". М.: Искусство, 1975. С. 85-87.
Суть комментария: Аристотель отстаивает принцип абсолютной простоты и актуальности высшего начала, что впоследствии ляжет в основу понятия Бога в монотеистической теологии. Платоновский дуализм первоначал для него – уступка потенциальности, а значит, не-бытию.
Werner Jaeger (Зарубежный специалист): Ягер, автор концепции эволюции метафизики Аристотеля, усматривает в этом аргументе связь с учением о Перводвигателе из XII книги (Λ). Критика платоников готовит почву для положительного аристотелевского учения о вечном, нематериальном и неподвижном начале, которое является чистой энергией (энтелехией) и мышлением о мышлении. Составное бытие не может быть вечным именно потому, что оно подвержено процессу возникновения и уничтожения, причиной которого является материя как принцип неопределенности.
Работа: "Aristotle: Fundamentals of the History of His Development". 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1948. P. 218-220.
Суть комментария: Аргумент основан на связи между составностью, материальностью и временностью. Аристотель выводит свойства высшего начала (простота, актуальность) из требования его вечности и необходимости.
2. Несостоятельность попыток избежать трудностей через «неопределенную двойственность».
Текст Аристотеля (Met. 1089a 2 – 1089a 15):
"Некоторые, полагая, что они могут избежать указанного затруднения, отказываются от наименования «неравное» и говорят вместо него о «неопределенной двойственности». Но уйти от затруднения таким способом невозможно… Ибо все те же самые следствия вытекают, называют ли они ее «неравным» или «превышающим и превышаемым» или «неопределенной двойственностью»: ведь во всех этих случаях получается, что она есть нечто относительное, а не нечто само по себе сущее или субстанция."
Комментарии:
Д.В. Бугай (Россия): Бугай подчеркивает, что Аристотель здесь бьет в самую суть проблемы. Платоники, чувствуя слабость понятия "неравное" (как отношения), пытаются заменить его на более "загадочное" и фундаментальное – "неопределенная двойственность" (αόριστος δυάς). Однако Аристотель проводит точный логико-категориальный анализ: как бы ни называли этот принцип, его функция в системе остается прежней – быть источником множественности и инаковости, противопоставленным Единому. А значит, его онтологический статус не меняется: это все то же относительное, лишенное самостоятельности начало.
Работа: "Аристотель и платоновская теория идей" (в соавт.). М.: РГГУ, 2017. С. 130-132.
Суть комментария: Смена названия не меняет сущности явления. Аристотель показывает, что проблема не в терминологии, а в онтологической категории, к которой принадлежит второе начало у платоников.
Harold Cherniss (Зарубежный специалист): Чёрнисс, известный критик интерпретации Аристотелем Платона, тем не менее, признает силу этого аргумента. Он соглашается, что Аристотель прав в своем основном категориальном утверждении: "неопределенная двойственность", если она является принципом множественности и инаковости, по определению не может быть самотождественной сущностью (ουσία), а должна быть чем-то иным, то есть относительным (πρός τι). Поэтому она не может претендовать на роль подлинного первоначала в аристотелевском смысле.
Работа: "Aristotle's Criticism of Plato and the Academy". Vol. 1. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1944. P. 504-506.
Суть комментария: Аристотель последовательно применяет свой категориальный аппарат и показывает, что любая попытка вывести мир из пары correlative terms (соотнесенных терминов) обречена на неудачу.
3. Источник заблуждения: неправильное решение апории Парменида.
Текст Аристотеля (Met. 1089a 2 – 1089a 15, продолжение):
"Причина же, почему они впали в это [заблуждение], состоит в том, что они занимались исследованием сущего вообще, а не сущего как сущего, и потому, что они не различали различных значений сущего… Они искали начала и причины для сущего вообще, рассматривая его как нечто единое, а не в различных смыслах."
Комментарии:
В.П. Гайденко (СССР/Россия): Гайденко видит в этом замечании Аристотеля ключ ко всей его полемике. Платоники, пытаясь ответить на вызов Парменида ("есть только сущее, не-сущего нет"), приняли его предпосылку, что "сущее" говорится в одном смысле. Чтобы объяснить множественность, они были вынуждены ввести не-сущее как второе начало. Аристотель же решает апорию иначе: он показывает, что "сущее" говорится в многих смыслах (см. учение о категориях и о многозначности бытия). Поэтому не нужно вводить мифическое "не-сущее" – достаточно показать, как сущее проявляется в разных модусах (как сущность, как качество, как количество и т.д.).
Работа: "Парадоксы свободы в учении Фихте" (главы, посвященные античным истокам). М.: Наука, 1990. С. 45-48.
Суть комментария: Аристотель обвиняет предшественников в недостаточной аналитической проработке базовых понятий. Их ошибка – в "одномерности" мышления, в то время как его метод – это анализ многозначности (про̀ς ἕν) ключевых терминов.
Pierre Aubenque (Зарубежный специалист): Обенк, автор работы о проблеме бытия у Аристотеля, развивает эту мысль. Он утверждает, что Аристотель совершает "коперниканский переворот" в онтологии, отказываясь от поиска единого принципа для всего сущего и заменяя его поиском analogical unity (аналогического единства) различных значений бытия. Платоники же остаются в плену элейской парадигмы, что и заставляет их онтологизировать не-сущее.
Работа: "Le problème de l'être chez Aristote". Paris: PUF, 1962. P. 198-202
Суть комментария: Корень ошибки – в "элеатизме" самой платоновской программы, которую Аристотель преодолевает с помощью своего учения о многозначности бытия.
4. Истинная природа «не-сущего» в процессе возникновения.
Текст Аристотеля (Met. 1089a 15 – 1089a 30):
"Но «не-сущее» сказывается во многих значениях. Одно значение – как ложь, другое – как могущее быть… И вот, из не-сущего в смысле могущего быть возникает сущее, но не из всякого [не-сущего], а из [не-сущего] как из противоположности… Поэтому правильно говорить, что возникновение происходит из не-сущего, – но [имеется в виду] не-сущее в смысле могущего быть, а не в абсолютном смысле."
Комментарии:
Э.В. Вольф (Россия): Вольф акцентирует, что здесь Аристотель противопоставляет платоновскому (и общегреческому) страху перед "не-сущим" как ничто или ложью свое позитивное учение о потенции (δύναμις). "Не-сущее" в контексте возникновения – это не отрицание бытия, а его возможность, его материя, еще не оформленная, но способная к оформлению. Это снимает парменидовский запрет на возникновение из не-бытия и делает ненужным платоновский постулат "не-сущего" как особого начала.
Работа: "Метафизика Аристотеля: современные исследования". СПб.: Изд-во СПбГУ, 2002. С. 110-113.
Суть комментария: Аристотель проводит фундаментальную семантическую и онтологическую операцию: демифологизацию "не-сущего" и его перевод в регистр потенциальности.
Sarah Waterlow (Broadie) (Зарубежный специалист): Броуди (Уотерлоу) подчеркивает, что аристотелевское понятие потенции решает сразу две проблемы: 1) проблему возникновения (как нечто может возникнуть "из ничего") и 2) проблему множественности. Множественность возникает не из особого "начала множественности", а из самой материи как принципа неопределенности и возможности быть иначе. Таким образом, материя у Аристотеля выполняет ту же функцию, что и "неопределенная двоица" у Платона, но без придания ей статуса самостоятельного сверхсущего начала.
Работа: "Nature, Change, and Agency in Aristotle's Physics". Oxford: Clarendon Press, 1982. P. 63-65.
Суть комментария: Аристотель "спасает явления" (множественность и изменение), не вводя сомнительных сущностей, а переинтерпретируя общепринятые понятия (материя, возможность).
5. Ошибочная узость исследования: почему множественны именно сущности, а не все категории?
Текст Аристотеля (Met. 1089a 30 – 1089b 5):
"Далее, почему существует множество и в других категориях, а не только в сущности? Ведь если есть многое в [категории] отношения, то и для него должны существовать свои элементы и начала. Но каким же образом это возможно? Ведь невозможно, чтобы элементы сущности были в то же время элементами отношения… Или же [это значит], что вообще нет элементов для сущего как такового?"
Комментарии:
М.А. Солопова (Россия): Солопова указывает, что этот аргумент Аристотеля является уничтожающим для платоно-пифагорейской программы. Их учение сфокусировано на объяснении количественной множественности (чисел, а через них – геометрических объектов и тел). Но мир состоит не только из сущностей, имеющих величину и число. Существует множество качеств (цветов, вкусов), отношений ("двойное", "половинное") и т.д. Теория, выводящая все из "Единого" и "Неравного" (т.е. из начал числа), принципиально не может объяснить многообразие в других категориях. Это доказывает ее неполноту и неадекватность.
Работа: "Аристотель и платонизм: критика учения об идеальных числах" // Философский журнал. 2010. № 2. С. 18-20.
Суть комментария: Аргумент от полноты объяснения: хорошая теория должна объяснять все relevant phenomena (соответствующие феномены), а не только удобную их часть.
Jonathan Barnes (Зарубежный специалист): Барнс видит здесь проявление аристотелевского "категориального реализма". Для Аристотеля категории – это не просто классификация предикатов, а фундаментальные способы бытия. Поэтому не может быть единого принципа для всего, что существует, ибо существование в разных категориях – разное. Принципы числа не могут быть принципами качества. Это делает бессмысленным поиск единых первоначал для всего сущего как такового.
Работа: "Aristotle: A Very Short Introduction". Oxford: Oxford University Press, 2000. P. 70-72.
Суть комментария: Критика основана на тезисе о несводимости категорий друг к другу. Онтология плюралистична по своей структуре.
6. Неверный выбор противоположности для Единого и Сущего.
Текст Аристотеля (Met. 1089b 5 – 1089b 15):
"Далее, каким образом можно принять, что сущее и единое суть сущности? Ведь если они не будут [отдельными] родами, то и все остальное не будет [к ним относиться], а если они будут родами, то все виды будут сущностями… Но ведь ясно, что единое сказывается так же, как и сущее… Поэтому противоположностью единого будет не многое, а неравное, и противоположностью сущего – не-сущее."
Комментарии:
А.В. Ахутин (СССР/Россия): Ахутин обращает внимание на тонкость аристотелевского анализа. Платоники ищут противоположность Единому, чтобы получить принцип множественности, и выбирают "многое". Но, по Аристотелю, это ошибка. "Многое" – это не противоположность "единому", а его коррелят (как "половинное" – коррелят "двойного"). Подлинной противоположностью "единому" (в смысле "равного" или "тождественного") является "неравное" или "иное". А противоположностью "сущему" является "не-сущее". Но, как было показано ранее, и "неравное", и "не-сущее" – это не сущности, а отношения или лишенности. Следовательно, они не могут быть началами.
Работа: "Понятие природы в античности и в новое время". М.: Наука, 1988. С. 150-152.
Суть комментария: Аристотель уточняет саму логику противопоставления, показывая, что платоники выбрали не ту "противоположность", и даже выбрав правильную (неравное), они не смогли бы ею воспользоваться из-за ее онтологической ущербности.
G.E.L. Owen (Зарубежный специалист): Оуэн развивает эту мысль, отмечая, что Аристотель проводит различие между contrary (противоположностью) и relative (относительным). "Единое" и "многое" – не contraries, а relatives. Они определяются друг через друга. Поэтому нельзя одно из них сделать независимым первоначалом, противостоящим другому. Они – две стороны одной медали, и эта "медаль" – определенное количество.
Работа: "Logic, Science and Dialectic". London: Duckworth, 1986. P. 205-207.
Суть комментария: Аргумент основан на различении типов оппозиции. Платоники трактуют относительные термины как контрарные, что является категориальной ошибкой.
7. Смешение категорий: подмена вопроса о множественности сущего вопросом о множественности количества.
Текст Аристотеля (Met. 1090a 2 – 1090a 15):
"Главная же причина [заблуждения] состоит в том, что они поставили вопрос о множественности в области quantity [количества], тогда как [на самом деле вопрос должен был стоять] о множественности substance [сущности]. Поэтому они и говорят о первом едином и о первом не-сущем, словно [вопрос идет] о возникновении [чего-то] единого и по числу."
Комментарии:
В.П. Гайденко (СССР/Россия): Гайденко считает этот кульминацией критики. Весь платоно-пифагорейский проект, по Аристотелю, основан на фундаментальной категориальной ошибке – подмене сущности количеством. Они пытаются объяснить, почему сущностей много, объясняя, почему чисел много. Но число – это акциденция, свойство сущности, а не она сама. Объяснив происхождение числа, они не объяснили происхождения множественности самих носителей числа – людей, животных, растений. Это все равно что объяснять природу стола, объясняя, почему он коричневый.
Работа: "Эволюция понятия науки". М.: Наука, 1980. С. 310-315.
Суть комментария: Аристотель обвиняет предшественников в "редукционизме" – сведении высшей категории (сущности) к низшей (количеству). Их онтология оказывается "математизированной" и поэтому неадекватной.
Sir Anthony Kenny (Зарубежный специалист): Кенни видит здесь проявление аристотелевского анти-редукционизма. Для Аристотеля разные науки имеют разные принципы и методы, потому что они изучают разные аспекты бытия, принадлежащие к разным категориям. Физика изучает сущности, способные к движению, математика – количественные аспекты этих сущностей, абстрагированные от материи. Платоники же пытаются сделать математику онтологией, то есть свести науку о сущности к науке о количестве. Это, по Аристотелю, недопустимо.
Работа: "A New History of Western Philosophy". Vol. 1. Oxford: Oxford Press, 2004. P. 185-187.
Суть комментария: Критика основана на принципе автономии различных областей знания и несводимости их предметов друг к другу.
8. Вопрос о необходимости существования чисел.
Текст Аристотеля (Met. 1090a 15 – 1090a 30):
"Тот, кто признает идеи, с необходимостью приходит к тому, что и числа существуют… Но тот, кто не признает [идей], зачем он будет признавать [существование] числа? Ведь если число существует как нечто присущее чувственным вещам, то оно не будет существовать отдельно… А если оно существует отдельно, то каков же его способ бытия и какая от него польза для чувственных вещей?"
Комментарии:
Д.В. Бугай (Россия): Бугай интерпретирует этот заключительный вопрос как риторический. Аристотель ставит противников в безвыходное положение. Если они последовательные платоники, то они должны признать идеальные числа, но тогда на них обрушиваются все те критические аргументы, которые были изложены в книгах XIII и XIV. Если же они, видя трудности теории идей, отказываются от них и говорят только о "математическом числе" (существующем отдельно от вещей, но не как трансцендентная идея), то тогда они не могут объяснить, зачем такое число нужно. Оно не является причиной вещей (как идеи) и не является их свойством (так как существует отдельно). Его онтологический статус совершенно непонятен и излишен.
Работа: "Критика Аристотелем платоновского учения о принципах" // ΣΧΟΛΗ, 2008. 2(2). С. 285-287.
Суть комментария: Аристотель использует стратегию "вилки": любая из возможных интерпретаций существования числа ведет к непреодолимым трудностям.
Stephen Menn (Зарубежный специалист): Менн рассматривает этот пассаж как часть аристотелевской программы "спасения явлений" без излишних сущностей. Аристотель показывает, что все, что математики делают с числами, можно успешно проделать, рассматривая свойства и отношения самих чувственных вещей. Гипотеза о существовании отдельно существующих чисел является избыточной (redundant). Она ничего не объясняет и ни для чего не нужна. Это применение "бритвы Оккама" за две тысячи лет до Оккама.
Работа: "The Aim and the Argument of Aristotle's Metaphysics". 2012. P. 45-47.
Суть комментария: Аргумент от избыточности: не умножай сущности сверх необходимости. Платониковские числа – как раз такие ненужные, умножаемые без необходимости сущности.
Статьи, посвященные исследованию главы 2 книги XIV "Метафизики":
Stephen Menn. "Aristotle’s Criticism of Plato’s First Principle" (Chapter 6: "The Critique of the Material Principle"). // In his book: "The Aim and the Argument of Aristotle's Metaphysics". 2012. (Детальный разбор аргументов против "великого и малого" как материи).
Vladimir de Luce. "Aristotle's Critique of the Platonic Doctrine of the One and the Indefinite Dyad" // Journal of Neoplatonic Studies, Vol. 3, 1994, pp. 1-28. (Сосредоточен на анализе главы 2 и ее связи с общеакадемическими доктринами).
В.В. Петров. "Апории единого и многого в XIV книге «Метафизики» Аристотеля" // Философия. Язык. Культура. Вып. 4. СПб.: Алетейя, 2013. С. 12–24. (Анализирует логическую структуру аргументов Аристотеля в данной главе).
Cynthia Freeland. "The Number of Aristotle’s Metaphysics? (On Metaphysics XIV, 2)" // Ancient Philosophy, Vol. 7, 1987, pp. 105-115. (Исследует конкретно вопрос о необходимости числа, поднятый в заключительном пункте).
Эта глава демонстрирует мощь аристотелевской критики, которая действует на нескольких уровнях: онтологическом (простота вечного), категориальном (смешение сущности и количества), логическом (анализ противоположностей) и методологическом (принцип избыточности).
Глава 3. Критика теорий об отдельном существовании чисел: идеальных, математических и пифагорейских.
Глава 3 представляет собой кульминацию критики Аристотелем теорий числа, где он систематически разбирает три основные школы: платоников, пифагорейцев и сторонников "математического" числа, показывая внутренние противоречия и онтологическую несостоятельность каждой из них.
1. Критика платоников: идеальные числа как отдельные сущности.
Текст Аристотеля (Met. 1090a 30 – 1090b 5):
"Те, кто полагает, что идеи существуют и что они суть числа, пытаясь таким образом указать причины для существующего, с одной стороны, отделяют их [от вещей], а с другой – вводят для них начала – относительное и неравное… Но каким образом можно принять, что существуют такие числа? Из каких начал? Число для них либо состоит из абстрактных единиц, что невозможно, ибо единицы должны быть различны, либо оно есть определенное множество, но тогда оно неотделимо от чувственных вещей."
Комментарии:
А.Ф. Лосев (СССР/Россия): Лосев подчеркивает, что Аристотель атакует самую суть платонизма – трансцендентность идей. Проблема, по Лосеву, в том, что Аристотель требует от платоников объяснения механизма отдельного существования, в то время как для Платона это данность умозрительного созерцания. Лосев признает силу логического аргумента Аристотеля о единицах: если идеальное число 2 состоит из двух единиц, то эти единицы должны быть тождественны (тогда число неотличимо от суммы) или различны (тогда нужно объяснить принцип их различия, что ведет к дурной бесконечности).
Работа: "История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика". М.: Искусство, 1975. С. 90-94.
Суть комментария: Аристотель применяет к трансцендентному миру критерии чувственного опыта и логической последовательности, которые для платоника неприменимы. Однако его критика выявляет внутренние логические трудности самой теории идей-чисел.
Harold Cherniss (Зарубежный специалист): Чёрнисс детально анализирует этот аргумент. Он соглашается, что Аристотель точно указывает на дилемму: либо единицы в числе тождественны (и тогда число есть просто aggregate (совокупность), а не особая сущность), либо они различны (и тогда требуется принцип их различения, что делает число сложным, а не первичным). Поскольку платоники не могут удовлетворительно разрешить эту дилемму, их теория повисает в воздухе.
Работа: "Aristotle's Criticism of Plato and the Academy". Vol. 1. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1944. P. 512-518.
Суть комментария: Аргумент о природе единицы в идеальном числе является одним из самых сильных логических возражений Аристотеля, ставящих под сомнение саму возможность существования идеальных чисел как особых сущностей.
2. Критика пифагорейцев: вещи состоят из чисел
Текст Аристотеля (Met. 1090b 5 – 1090b 20):
"Пифагорейцы же, видя, что многие свойства чисел присущи чувственным телам, предположили, что вещи суть числа, – не отдельные [числа], но [состоящие] из чисел. Но почему? Потому что свойства чисел присутствуют в гармонии, в небесах и во многом другом. Они же пытаются построить из чисел физические тела, обладающие тяжестью и легкостью, тогда как у самих монад [единиц] нет ни тяжести, ни легкости."
Комментарии:
В.П. Гайденко (СССР/Россия): Гайденко видит здесь критику наивного пифагорейского редукционизма. Пифагорейцы совершают категориальную ошибку, отождествляя математическую структуру (порядок, пропорцию, форму) с материальной причиной. Они пытаются сконструировать физическое тело из абстрактных единиц, что абсурдно, так как у числа нет физических свойств. Их заслуга – в открытии роли числа в познании мира, но их ошибка – в онтологизации числа, в попытке вывести из него все качественное многообразие.
Работа: "Эволюция понятия науки. Становление и развитие первых научных программ". М.: Наука, 1980. С. 105-110.
Суть комментария: Аристотель проводит четкую границу между формой (которая может быть выражена математически) и материей (которая обладает физическими свойствами). Пифагорейцы эту границу стирают.
Sir Geoffrey Lloyd (Зарубежный специалист): Ллойд, специалист по древнегреческой науке, интерпретирует этот пассаж как протест против буквального понимания метафоры. Пифагорейцы, очарованные открытием математических закономерностей в природе (астрономия, музыка), начали понимать фразу "вещи суть числа" не как указание на изоморфизм структур, а как утверждение о физическом составе. Аристотель же настаивает на том, что числа описывают свойства вещей, а не являются их строительным материалом.
Работа: "Aristotle: The Growth and Structure of His Thought". Cambridge: Cambridge University Press, 1968. P. 150-152.
Суть комментария: Аристотель отделяет научное (математическое) моделирование от онтологического конструирования.
3. Критика сторонников математического числа: отделенность от чувственного мира
Текст Аристотеля (Met. 1090b 20 – 1090b 35):
"Те, кто признает математическое число как первое и существующее отдельно, должны объяснить, каким образом оно существует. Если их принципы применимы только к нему самому, а не к чувственным вещам, то какое отношение оно имеет к ним? И почему математические свойства, изучаемые в абстракции, с такой точностью проявляются в чувственных телах, если эти объекты разделены?"
Комментарии:
Д.В. Бугай (Россия): Бугай акцентирует, что Аристотель здесь указывает на эпистемологический парадокс. Если математические объекты существуют в неком "третьем мире", отдельно и от идей, и от вещей, то как возможно наше знание о них (проблема припоминания или иного доступа) и, главное, почему это знание так эффективно применяется к материальному миру? Аристотель предлагает свое решение: математические объекты не отдельно существуют, а мы абстрагируем их из свойств самих чувственных вещей. Поэтому их законы и применимы к ним.
Работа: "Аристотель и платоновская теория идей" (в соавт.). М.: РГГУ, 2017. С. 140-143.
Суть комментария: Аристотель решает проблему применимости математики через теорию абстракции, избегая гипотезы о separate existence (отдельном существовании).
Penelope Maddy (Зарубежный специалист): Мэдди, современный философ математики, отмечает, что аристотелевская критика предвосхищает современные споры о платонизме в математике. Вопрос "Why does mathematics apply so well to the physical world?" остается центральным. Аристотелевский ответ (математика абстрагирует свойства физических объектов) является одной из влиятельных альтернатив платонизму, известной как "аристотелевский реализм" или "абстракционизм".
Работа: "Realism in Mathematics". Oxford: Oxford University Press, 1990. P. 32-35 (исторический экскурс).
Суть комментария: Аристотель предлагает имманентную, а не трансцендентную онтологию для математических объектов, решая проблему применимости через их происхождение из опыта.
4. Опровержение аргумента о границах (точка, линия, поверхность)
Текст Аристотеля (Met. 1090b 35 – 1091a 5):
"Некоторые полагают, что существуют точки, линии и поверхности как сущности, исходя из того, что тело ограничено поверхностью, та – линией, а линия – точкой. Но это заблуждение. Граница – это не часть ограничиваемого и не его сущность, а лишь предел… Как конец пути не есть что-то отдельное от пути, так и точка не есть нечто отдельное от линии."
Комментарии:
Э.В. Вольф (Россия): Вольф подчеркивает, что Аристотель проводит фундаментальное онтологическое различие между самостоятельной сущностью (ουσία) и пределом (πέρας). Предел всегда вторичен и существует только как аспект того, что он ограничивает. Он не имеет самостоятельного бытия. Таким образом, аргумент от границ является софистическим: он принимает модус существования (быть границей) за отдельный вид сущего. Это еще один пример категориальной ошибки.
Работа: "Метафизика Аристотеля: современные исследования". СПб.: Изд-во СПбГУ, 2002. С. 120-123.
Суть комментария: Аристотель защищает холизм (принцип целостности): целое онтологически первично своих частей и границ.
Henry Mendell (Зарубежный специалист): Менделл рассматривает этот аргумент в контексте античной математики. Платоники, следуя за пифагорейцами, стремились онтологизировать геометрические объекты. Аристотель же предлагает реляционную теорию: геометрические объекты определяются через свои отношения и функции (например, точка как неделимый предел). Их существование – не субстанциальное, а функциональное. Это позволяет сохранить математику как науку, не наполняя мир лишними сущностями.
Работа: "Aristotle and Mathematics" // Stanford Encyclopedia of Philosophy (раздел о геометрических объектах).
Суть комментария: Аристотель отделяет математический дискурс (где мы можем говорить о точках и линиях "как если бы" они существовали) от онтологических утверждений.
5. Отсутствие причинности и взаимосвязи в онтологии математиков
Текст Аристотеля (Met. 1091a 5 – 1091a 15):
"Но самый главный вопрос таков: почему число и величина, и вообще математические сущности, будучи отдельными, влияют друг на друга? Их бытие не связано: если бы чисел не было, ничто не мешало бы существовать величинам, и наоборот… Но природа не похожа на плохую трагедию, где эпизоды не связаны между собой. У начал сущего должна быть связь и порядок."
Комментарии:
М.А. Солопова (Россия): Солопова видит в этом одном из самых глубоких возражений Аристотеля. Онтология платоников и математиков оказывается бессистемным набором разрозненных сущностей (идеи, математические объекты, души, тела) без ясных причинно-следственных связей между ними. Это противоречит главному принципу аристотелевского исследования – поиску причин и начал, образующих единый, связный космос. Его знаменитое сравнение с "плохой трагедией" (где сцены можно переставлять без ущерба для смысла) – это обвинение в отсутствии teleology (телеологии), целесообразной связи.
Работа: "Аристотель и платонизм: критика учения об идеальных числах" // Философский журнал. 2010. № 2. С. 22-24.
Суть комментария: Аристотель требует от онтологии не только логической последовательности, но и системной целостности, которую обеспечивает его учение о четырех причинах и иерархии сущего.
Jonathan Lear (Зарубежный специалист): Лир развивает эту мысль: Аристотель – философ единства и взаимосвязи. Его космос – это упорядоченное целое, где все части взаимосвязаны и подчинены единой цели. Онтология же, которая постулирует несколько независимых миров (идеальный, математический, физический), разрушает это единство. Она не может объяснить, как эти миры взаимодействуют и почему они согласованы. Для Аристотеля это неприемлемо.
Работа: "Aristotle: The Desire to Understand". Cambridge: Cambridge University Press, 1988. P. 285-287.
Суть комментария: Критика основана на принципе единства космоса и требования объяснительной связности онтологической теории.
6. Несостоятельность платоновской конструкции величин из чисел
Текст Аристотеля (Met. 1091a 15 – 1091a 30):
"Некоторые, пытаясь связать числа с величинами, говорят: из Единого и материи происходит число, а из числа – величины: из Двойки – длина, из Тройки – плоскость, из Четверки – тело. Но являются ли эти величины идеями? Тогда идеи будут состоять из идей… И как к ним применить геометрические теоремы? Они же не о идеях, но о чувственных вещах, измеряемых математически."
Комментарии:
А.В. Ахутин (СССР/Россия): Ахутин обращает внимание на произвольность и механистичность этой платоновской конструкции. Соответствие между числом и измерением (2 -> 1D, 3 -> 2D, 4 -> 3D) взято не из сущности самих чисел, а из чисто внешней аналогии. Аристотель справедливо указывает, что такая конструкция бесплодна: она не объясняет природу геометрических объектов и не служит основанием для геометрических доказательств, которые работают с идеализированными, но не трансцендентными объектами.
Работа: "Понятие природы в античности и в новое время". М.: Наука, 1988. С. 155-157.
Суть комментария: Аристотель вскрывает надуманность и схоластичность попытки вывести богатство геометрического мира из чистой арифметики.
Ian Mueller (Зарубежный специалист): Мюллер, историк античной математики, подтверждает правоту Аристотеля. Греческая геометрия времен Платона и Аристотеля уже была высокоразвитой дедуктивной наукой, не зависящей от арифметики (которая, кстати, была слабее развита). Попытки редуцировать геометрию к арифметике были спекулятивными и не влияли на реальную математическую практику. Аристотель, таким образом, защищает автономию геометрии как науки о непрерывных величинах.
Работа: "Aristotle on Geometrical Objects" // Archiv für Geschichte der Philosophie 52, 1970, pp. 156-171.
Суть комментария: Аристотель отстаивает независимость различных математических дисциплин и критикует спекулятивные попытки их сведения друг к другу.
7. Апории дуализма: идеальное vs математическое число
Текст Аристотеля (Met. 1091a 30 – 1091b 5):
"Если же существуют два вида числа – идеальное и математическое, – то должны быть и два их начала. Но если начала одни и те же, каким образом числа получаются разными? Если же начала разные, то как они соотносятся? И если единица есть нечто общее для обоих, то мы снова возвращаемся к вопросу: чем же тогда они отличаются?"
Комментарии:
Д.В. Бугай (Россия): Бугай интерпретирует этот пассаж как демонстрацию логического тупика, в который заходят те, кто пытается совместить теорию идей с автономией математики. Введение двух типов чисел – это ad hoc гипотеза, призванная спасти теорию от критики, но она только умножает сущности и проблемы. Аристотель показывает, что эта гипотеза либо ведет к тавтологии (числа одинаковы, если начала одинаковы), либо к полному разрыву между мирами (если начала разные), либо к неразрешимой проблеме общего и частного (если единица общая).
Работа: "Критика Аристотелем платоновского учения о принципах" // ΣΧΟΛΗ, 2008. 2(2). С. 288-290.
Суть комментария: Аристотель применяет метод диэрезиса (различения) и показывает, что все возможные варианты дуалистической теории числа ведут к противоречиям.
G.E.L. Owen (Зарубежный специалист): Оуэн видит здесь пример аристотелевского диалектического метода. Он берет теорию оппонента, развивает все возможные следствия из ее предпосылок и показывает, что они ведут к апориям. Это заставляет либо отказаться от теории, либо радикально ее пересмотреть. В данном случае дуализм числа оказывается логически несостоятельным.
Работа: "Logic, Science and Dialectic". London: Duckworth, 1986. P. 210-212.
Суть комментария: Аристотель использует логику, чтобы показать, что компромиссные решения в метафизике часто лишь усугубляют проблемы.
8. Невозможность «порождения» вечного (критика пифагорейского космогенеза)
Текст Аристотеля (Met. 1091a 5 – 1091a 15):
"Но самое нелепое – это говорить о возникновении вечных вещей… Пифагорейцы же говорят, что когда Единое было составлено (из четного и нечетного), тогда оно, ограничивая Беспредельное, породило число и весь космос. Но как может вечное иметь возникновение? Это противоречие в самих словах."
Комментарии:
В.П. Гайденко (СССР/Россия): Гайденко усматривает в этом заключительном аккорде возвращение к фундаментальному принципу, с которого началась глава 2. Аристотель настаивает на абсолютном различии между вечным и возникающим. Любой миф о космогенезе, описывающий возникновение вечного космоса или вечных чисел, логически порочен. Вечное по определению не может иметь начала во времени. Это априорное требование разума, которое должно соблюдаться в любой претендующей на истинность метафизической системе.
