Метафизика Аристотеля. Тринадцатая книга
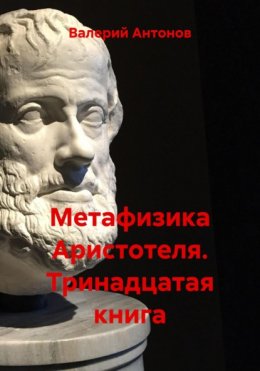
Обзор XIII книги «Метафизики» Аристотеля: Критика платонизма и поиск первоначал.
Введение
XIII книга (часто обозначаемая как Книга М) – один из ключевых и наиболее полных текстов Аристотеля, посвященных критике платоновской теории Идей и пифагорейского учения о числах как самостоятельных сущностях. Это не просто полемика, а фундаментальный онтологический inquiry (исследование), цель которого – расчистить путь для собственного учения Аристотеля о сущем как таковом. Центральная проблема книги, как верно обозначено, – существуют ли помимо чувственных вещей неподвижные и вечные сущности (как утверждают платоники), и если да, то могут ли ими быть Идеи или математические объекты?
Для глубокого понимания аргументов Аристотеля необходимо привлечь комментарии как отечественных, так и зарубежных исследователей. Среди них:
А. Ф. Лосев в труде «История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика» детально анализирует связь аристотелевской критики с его учением о форме и материи, подчеркивая онтологический статус общего.
Д. В. Бугай в работе «Александр Афродисийский и его трактат «О смешении» в контексте комментаторской традиции на Аристотеля» и других исследованиях показывает, как позднейшие перипатетики интерпретировали апории Аристотеля.
Из зарубежных комментаторов можно выделить В. Д. Росса (W. D. Ross), чье издание «Метафизики» с комментариями считается классическим, а также М. Фреде (M. Frede) и Г. Чернисса (H. Cherniss), тщательно проанализировавших полемику Аристотеля с Платоном.
Общая структура книги:
1. Критическая часть (Главы 1-9): Всестороннее опровержение онтологического статуса математических объектов и Идей.
2. Конструктивно-апоритическая часть (Глава 10): Формулировка центральной апории о принципах и наведение мостов к собственному решению Аристотеля.
Разбор по главам с привлечением комментаторов.
Глава 1. Введение и постановка проблемы.
Аристотель четко объявляет цель: исследовать, существуют ли кроме чувственных субстанций какие-либо неподвижные и вечные. Прежде чем излагать собственное учение, необходимо подвергнуть критике учения предшественников, главным образом, платоников и пифагорейцев, которые утверждают существование таких сущностей – Идей и математических объектов (чисел, геометрических фигур).
Ключевой тезис: Выделяются два главных претендента на роль нематериальных субстанций. Намечается план: сначала исследовать математические объекты, затем – Идеи.
Комментарий: Как отмечает Лосев, Аристотель здесь не просто полемизирует, а ведет имманентную критику: он показывает, что сами предпосылки платоников ведут к логическим тупикам. Основная дилемма для математического: существует ли оно в чувственных вещах или отдельно от них? Оба варианта, по Аристотелю, несостоятельны.
Глава 2. Критика самостоятельного существования математических объектов.
Содержание посвящено опровержению двух возможных моделей существования математического.
Против существования математических объектов в вещах (как особых телесных сущностей):
(а) Аргумент от физики: Два тела не могут занимать одно и то же место.
(б) Аргумент от неразличимости: Если каждое свойство (например, плоскость) – отдельное тело, то вещь оказывается состоящей из бесконечного количества тел.
(в) Апория делимости: Тело не может состоять из неделимых точек или линий, так как это противоречит самой концепции непрерывной величины.
Против отдельного существования математических объектов вне вещей (хориста):
– Аргумент «недопустимого умножения сущностей» (трихотомия): Если существует отдельное математическое тело (например, сфера сама по себе), то должны существовать и отдельные составляющие его поверхности, затем линии, затем точки, и так до бесконечности. Это, по Аристотелю, онтологический абсурд.
Вывод: Математические объекты не могут существовать ни как физические компоненты вещей, ни как отдельные от них сущности.
Глава 3. Положительное определение статуса математики у Аристотеля.
После критики Аристотель предлагает собственное решение – теорию абстракции (aphairesis).
Ключевые тезисы:
– Математик изучает те же чувственные вещи, но не qua (как) чувственные, а qua обладающие величиной, фигурой, количеством.
– Метод математика – мысленно рассматривать не-отдельное (свойство) как если бы оно было отдельным. Это гносеологическая, а не онтологическая процедура.
– Точность математики объясняется простотой и неизменностью ее объекта, абстрагированного от материи.
Комментарий (Лосев, Росс): Здесь ключ к пониманию аристотелевского реализма. Математическое существует реально, но не как отдельная субстанция, а как аспект реальной вещи, который мысль может выделить и изучить. Это снимает необходимость в «другом мире» платоновских идей.
Глава 4. Критика теории Идей: генезис и логические противоречия.
Аристотель анализирует исторические и логические корни учения об Идеях.
Исторический генезис (знаменитый историко-философский экскурс):
– Реакция на Гераклита (всё течет) → поиск неизменного объекта для науки (эпистемологический мотив).
– Сократ искал общие определения (logoi) в этике.
– Платон гипостазировал эти определения, превратив их в отдельные сущности (Идеи).
Логические апории:
– Аргумент от «третьего человека»: Если конкретный человек причастен Идее Человека, то должно быть нечто общее между ними, то есть новая, высшая Идея, и так до бесконечности (regressus ad infinitum).
– Проблема причастности: Остается неясным, как именно вещи причастны Идеям. Метафоры «подражания» или «причастности» не являются строгим философским объяснением.
Комментарий (Чернисс): Аристотель показывает, что теория Идей не решает ту самую проблему обоснования знания, ради которой была создана, а порождает новые, еще более сложные проблемы.
Глава 5. Критика каузальной роли Идей.
Аристотель доказывает бесполезность Идей для объяснения мира, то есть их неспособность выполнять функцию причин (aitiai).
Ключевые аргументы:
– Идеи не являются ни движущей (не вызывают изменения), ни целевой (не ради них происходят процессы), ни формальной (они отделены от вещей) причиной в полном смысле.
– Они ничего не объясняют в возникновении или изменении чувственных вещей.
– Многие вещи (артефакты, отрицательные явления) возникают без предполагаемых для них Идей.
Главный вывод: Идеи – бесполезная дублирующая сущность («худому кормчего крик» – пустая поэтическая метафора).
Главы 6-8. Детальная критика чисел как субстанций
Это наиболее техническая часть книги, где Аристотель проводит систематический разбор всех возможных вариантов онтологии числа у платоников и пифагорейцев.
Ключевая классификация: Число может быть:
1. По единицам: Все единицы счислимы и взаимозаменяемы (однородны) или же каждая единица уникальна и несчислима (гетерогенны, как в «идеальном числе»).
2. По онтологическому статусу: Отделено от вещей (Платон) или имманентно им (пифагорейцы).
Основные опровержения:
– Если единицы однородны → получается математическое число → Идеи не могут быть числами (теряется их уникальность и сущностное отличие).
– Если единицы уникальны (идеальное число) → нарушаются основы математики (сложение 1+1 становится невозможным, так как каждая «1» уникальна), возникает регресс («третья единица» в двойке).
– Если числа имманентны вещам (пифагореизм) → невозможно построить физическое тело, имеющее величину, из математических единиц, не имеющих величины.
Заключение: Любая попытка онтологизировать число, сделать его отдельной субстанцией ведет к логическим абсурдам и разрушает саму математику как науку.
Глава 9. Итог критики и диагноз ошибки платоников.
Аристотель подводит итог и выявляет коренную ошибку.
Ключевые тезисы:
– Основная ошибка платоников заключается в гипостазировании общего, то есть в смешении математической и онтологической реальности и превращении универсалий (universalia) в самостоятельно существующие сущности.
– Правильный путь, намеченный еще Сократом, – искать общие определения (logoi), но не отделять их от вещей.
– Причина ошибки – реакция на Гераклита. Платоники решили, что если чувственное изменчиво, то объект науки должен существовать отдельно от него. Аристотель же показывает, что форма (эйдос) существует в самой вещи.
– Внутренние разногласия среди платоников (что первично: идеи или математические числа?) – лучшее доказательство ошибочности их исходных предпосылок.
Глава 10. Апория принципов и утверждение аристотелевского реализма.
В заключительной главе Аристотель формулирует центральную дилемму философии и намечает путь к ее решению.
Апория: Чем являются первоначала и элементы сущего?
– Если они единичны → они непознаваемы (наука, по мнению платоников, имеет дело только с общим).
– Если они общи → они не могут быть субстанциями (ибо субстанция (ousia) – по Аристотелю, всегда «вот это» (tode ti), нечто единичное).
Решение Аристотеля: Снять дилемму через анализ познания и учение о форме и материи.
– Знание потенциально – общее (как форма в душе).
– Знание актуально – всегда о единичном, но постигаемом через общую форму.
– Первоначала (форма, материя, лишенность) – не отдельные сущности, а имманентные принципы самих единичных вещей.
Комментарий (Бугай, Фреде): Аристотель разрешает апорию, пересматривая саму концепцию сущности. Подлинной сущностью является синтез общего (форма) и единичного (материя) – конкретная чувственная вещь. Общее существует не separate, а in re.
Итоговый вывод.
Подлинная реальность для Аристотеля – это единичные чувственные субстанции (отдельный человек, вот это дерево). Общее (форма, эйдос) существует не отдельно, а в них, как их сущностное начало. Истинное знание достигается не через созерцание запредельных идей, а через изучение чувственного мира, выявление в нем устойчивых форм, видов и причин. XIII книга, таким образом, является гигантским обоснованием аристотелевского имманентного реализма и критикой трансцендентного идеализма Платона.
Общее резюме и значение XIII книги.
XIII книга «Метафизики» представляет собой исчерпывающий приговор платоническому идеализму, вынесенный с позиций аристотелевского имманентного реализма. Аристотель не ограничивается простой критикой, а совершает три фундаментальных действия:
Ставит диагноз: выявляет гносеологический корень ошибки платоников – их поиск неизменного и абсолютного объекта для научного знания, что и привело к гипостазированию идей.
Предлагает альтернативу: разрабатывает позитивное решение проблемы:
Для математики: теорию абстракции, объясняющую статус математических объектов без приписывания им независимого существования.
Для онтологии: теорию имманентной формы, согласно которой сущность (чтойность) вещи существует не отдельно, а в самой единичной вещи.
Формулирует центральную проблему: выводит дискуссию на новый уровень, формулируя апорию о природе первоначал (общее vs. единичное). Эта проблема станет стержневой для всей последующей европейской философии.
XIII книга выполняет ключевую системную функцию: она служит мостом между критикой предшественников и позитивным изложением собственного учения Аристотеля о неподвижном перводвигателе, которое последует в XII книге.
Критический узел системы: роль XIII книги в структуре «Метафизики».
XIII книга «Метафизики» не является изолированным текстом; она глубоко интегрирована в общий замысел всего корпуса «Метафизики» и других сочинений Аристотеля. Её связи можно разделить на несколько уровней.
1. Связи внутри «Метафизики»
XIII книга – это ключевая часть «практического» применения онтологии Аристотеля, изложенной в центральных книгах, к критике главного философского оппонента – Платона.
С книгами VII-IX (О сущности, форме, материи, акте и потенции):
Это основополагающая связь. Книги VII-IX – это позитивное изложение собственной онтологии Аристотеля. XIII книга – это негативное, критическое отражение тех же тем.
Критика Идей в XIII книге прямо опирается на учение о сущности из VII книги. Аристотель доказывает, что сущность (форма) не может существовать отдельно от единичной вещи (choriston), в то время как Платон делает именно это со своими Идеями.
Его критика пифагорейцев, строящих тела из чисел, основана на гилеморфизме (учении о форме и материи) из этих же книг. Число не может быть материей, так как материя – это принцип возможности, а форма – принцип действительности и определённости.
Обсуждение единого и многого в XIII книге отсылает к анализу этих понятий в X книге.
С книгой XIV (Λ, 6-10):
Книга XIV является прямым продолжением и дополнением XIII книги. Если XIII книга критикует платоников и пифагорейцев с общей онтологической точки зрения, то XIV книга focuses на критике их учения о первоначалах (Единое и Неопределённая Двоица) и показывает, как их ошибки в онтологии числа ведут к несостоятельности их космологии и теологии.
С книгой XII (Λ) (О неподвижном перводвигателе):
Здесь связь проблемная. Книга XII – вершина «Метафизики», где Аристотель представляет собственное учение о высшей, божественной, нематериальной и неподвижной субстанции.
Парадокс: В XII книге Аристотель утверждает существование нематериальной субстанции, а в XIII – критикует это же учение у Платона.
Разрешение парадокса: Критика направлена не против идеи нематериальной субстанции вообще, а против конкретного способа её существования у платоников. Аристотель отвергает:
Множественность вечных сущностей (мир Идей).
Их статичность и каузальную бесполезность.
Их трансцендентность (отделённость от мира).
Его собственный Перводвигатель – един, является конечной причиной всего движения (а не бессильной моделью) и, хотя он трансцендентен, его бытие имманентно миру как цель стремления.
С книгой IV (Γ) (О природе и задачах первой философии):
Критика платонизма в XIII книге является практическим исполнением программы, заявленной в IV книге. Там Аристотель говорит, что первая философия должна исследовать первые причины и начала, а также быть наукой о сущем как таковом. Анализируя и опровергая учение об Идеях и числах как о сущем, он очищает поле для правильного понимания сущего как такового.
С книгой I (А) (История вопроса о первоначалах):
XIII книга – это углублённый и детальный разбор того учения, которое в книге I было представлено в историческом обзоре как самое продвинутое, но всё же недостаточное – учения Платона и пифагорейцев.
2. Связи с другими сочинениями Аристотеля
«Физика»:
Это, пожалуй, самая важная внешняя связь. Критика в XIII книге постоянно опирается на принципы, изложенные в «Физике».
Учение о четырёх причинах (материальная, формальная, движущая, целевая) – главный инструмент критики. Аристотель постоянно показывает, что Идеи не являются ни одной из этих причин в платоновском понимании.
Анализ движения и изменения из «Физики» – основа для отвержения платоновского дуализма вечного, неизменного мира Идей и изменчивого мира вещей. Для Аристотеля форма имманентна вещи и является принципом её изменения.
«О душе»:
Теория абстракции, кратко изложенная в XIII.9, подробно разработана в III книге трактата «О душе». Аристотель объясняет, как разум (nous) абстрагирует формы от материи, что и является основой математического познания.
«Никомахова этика» (I.6):
Здесь содержится сжатая и яркая критика Идеи Блага. Аристотель argues, что благо реализуется в разных категориях (в сущности, в качестве, в отношении и т.д.), и therefore не может быть одной общей Идеи Блага. Это прямое продолжение критики из XIII книги, применённое к этической сфере.
«Вторая Аналитика»:
Гносеологические выводы XIII книги (о том, что знание касается общего, но существует только в единичном) основаны на теории доказательства и научного знания, разработанной в «Второй Аналитике».
Общий вывод о значении связей
XIII книга «Метафизики» – это стратегически важный узел в системе аристотелевской мысли. Она:
Защищает его онтологию (книги VII-IX) от главного конкурента.
Применяет его физические и гносеологические принципы («Физика», «О душе») к решению метафизических проблем.
Подготавливает почву для его собственного учения о высшей субстанции (книга XII), очищая её от неправильных, платонических interpretations.
Демонстрирует единство и системность его философии, показывая, как его учение о природе, душе, знании и этике согласуется с его метафизикой.
Без XIII книги метафизика Аристотеля выглядела бы незавершённой, так как она не дала бы отчёта, почему избран именно этот, а не платоновский путь к первой философии.
Тринадцатая книга. Окончательное опровержение платонического идеализма и чисел как субстанций. Апория принципов и утверждение аристотелевского реализма.
Глава 1. Критика учений о математических объектах и идеях как о субстанциях
1. Определение предмета исследования: вечная и неподвижная субстанция.
[1] Мы рассматривали природу чувственно воспринимаемой субстанции отчасти при исследовании физики материи, а затем при исследовании актуальности существующей субстанции. [2] Поскольку теперь нам предстоит выяснить, существует ли помимо чувственных вещей неподвижная и вечная субстанция, а если существует, то какова она…
Проблема: Переход от изучения чувственной субстанции (физического мира) к исследованию возможной нематериальной, вечной и неподвижной субстанции. Ставится главный вопрос всей последующей дискуссии.
Комментарии:
А.Ф. Лосев (СССР): Лосев подчёркивает, что Аристотель здесь завершает всё здание своей метафизики, поднимаясь от физики (учения о подвижном) к первой философии (учению о неподвижном). Этот переход не случаен: он логически вытекает из необходимости найти первопричину всего движения и становления, которую самодвижущаяся природа (предмет физики) дать не может. «Аристотель приходит к выводу о необходимости существования неподвижного и вечного двигателя, который является чистой актуальностью, умом-перводвигателем, мыслящим сам себя. Вся дальнейшая критика платонизма и пифагореизма подчинена этой цели – очистить поле для обоснования собственного учения о высшей субстанции». (Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. – М.: Искусство, 1975. – С. 79-80).
W.D. Ross (Зарубежный специалист): Росс указывает, что это предложение связывает учение «Метафизики» с «Физикой», особенно с кн. VIII, где доказывается существование первого неподвижного двигателя. Задача Метафизики – исследовать природу этой субстанции. Он также отмечает, что Аристотель уже исследовал чувственную субстанцию в кн. VII–IX (Z, H, Θ) и теперь переходит к сверхчувственной. «Главный вопрос, который теперь стоит перед ним, – существуют ли помимо чувственных субстанций другие, вечные и неподвижные, и если да, то как они соотносятся с чувственными и друг с другом». (Ross W.D. Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary. Vol. II. – Oxford: Clarendon Press, 1924. – P. 403).
2. Методологический принцип: учёт мнений предшественников.
…мы должны сначала рассмотреть утверждения других философов, чтобы в одном случае, если они ошибаются, мы не оказались виновными в той же ошибке, а в другом случае, если у нас есть общее с ними учение, мы не могли бы обвинить в нем только себя. Ибо мы должны быть удовлетворены, если кто-то учит одним вещам более правильно, а другим, по крайней мере, не хуже.
Проблема: Обоснование необходимости критического разбора существующих теорий (Платона и пифагорейцев) для формирования собственной позиции, избегая их ошибок и признавая верные insights.
Комментарии:
В.П. Гайденко (Россия): Гайденко видит в этом пассаже классическое выражение аристотелевского метода, который она называет «критико-конструктивным». Аристотель не отвергает предшественников с порога, но видит в них союзников, частично нашедших истину. Критика платоников и пифагорейцев необходима, так как их учение об идеях и числах как самостоятельных сущностях является главным препятствием на пути к правильному пониманию нематериальной субстанции. «Аристотель стремится показать, что платоновские идеи и математические объекты пифагорейцев не могут быть теми вечными и неподвижными субстанциями, которые он ищет, ибо они… лишены причинной силы по отношению к чувственным вещам». (Гайденко В.П. История греческой философии в её связи с наукой. – М.: Университетская книга, 2000. – С. 194).
Joseph Owens (Зарубежный специалист): Оуэнс интерпретирует этот методологический принцип как проявление аристотелевского «эпистемологического оптимизма». Истина не рождается в вакууме, и даже ошибочные мнения содержат в себе крупицу истины, которую нужно выявить. Критика Платона в последующих книгах – это не враждебный выпад, а попытка «спасти явление», то есть объяснить те интуиции, которые привели Платона к теории идей, но более корректным способом, согласующимся с аристотелевской онтологией. (Owens J. The Doctrine of Being in the Aristotelian 'Metaphysics'. – Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1978. – P. 405).
3. Классификация существующих теорий о нематериальных субстанциях.
Существует два мнения [3] по рассматриваемому вопросу. С одной стороны, субстанция математическая, такая как число, линия и связанные с ними вещи, а с другой – идеи. Поскольку одни философы разделяют эти две субстанции – идеи и [4] математические числа – на две области, других их отождествляют, а третьи позволяют считать субстанциями только математические субстанции…
Проблема: Систематизация оппонентов. Аристотель выделяет два основных класса претендентов на роль нематериальной субстанции («математическое» и «идеи») и три варианта их соотношения между собой (разделение, отождествление, признание только математического).
Комментарии:
Д.В. Бугай (Россия): Бугай уточняет, что под «некоторыми», разделяющими идеи и математические числа, Аристотель подразумевает самого Платона и его прямых последователей (например, Ксенократа). Те, кто их отождествляет, – это, вероятно, Спевсипп, а те, кто признаёт только математические субстанции, – пифагорейцы. Эта классификация crucial, так как позволяет Аристотелю вести полемику не с абстрактным противником, а с конкретными философскими школами, каждая из которых будет критиковаться по отдельности в последующих главах. (Бугай Д.В. Аристотель. Метафизика. Переводы. Комментарии. Толкования // ΣΧΟΛΗ. 2008. №2. – С. 317–340).
Stephen Menn (Зарубежный специалист): Менн обращает внимание на то, что Аристотель намеренно сводит все многообразие учений о сверхчувственном к двум типам: идеи и математические объекты. Это позволяет ему структурировать аргументацию. Его собственная теория Ума как перводвигателя будет представлена как третий, единственно верный путь, избегающий ошибок обоих лагерей. «Аристотель не отрицает реальность универсалий или математических истин, но отрицает, что они существуют как отдельные субстанции (ousiai). Его критика направлена против гипостазирования, против превращения абстракций в самостоятельные сущности». (Menn S. The Aim and the Argument of Aristotle's Metaphysics. – 2012. – P. Iβ5).
4. План последующего критического анализа.
…мы должны сначала рассмотреть математические, не добавляя к ним никаких других сущностей. [5] Так, например, мы не будем сначала спрашивать, существуют ли идеи или нет, и являются ли они принципами и субстанциями бытия или нет, но будем исследовать исключительно в отношении математического, существует ли оно или нет, и в утвердительном случае, как оно существует. После этого мы рассмотрим идеи в частности, просто и настолько, насколько это необходимо для удобства: ведь большая часть этого уже обсуждалась в экзотерических исследованиях. [6] Кроме того, мы должны более подробно остановиться на вопросе о том, являются ли субстанциями и принципами бытия числа и идеи. После идей это остается третьим [7] объектом исследования.
Проблема: Выстраивание чёткой последовательности опровержения. Аристотель намечает трёхчастную структуру:
Анализ статуса математических объектов.
Анализ статуса идей (с отсылкой к более ранним, возможно, устным, дискуссиям).
Итоговый вопрос о способности чисел и идей быть первопричинами и субстанциями.
Комментарии:
М.А. Солопова (Россия): Солопова отмечает, что отсылка к «экзотерическим сочинениям» (возможно, утраченным диалогам Аристотеля или к устным обсуждениям в Ликее) показывает, что критика теории идей была для Аристотеля хорошо разработанной и многократно повторяемой темой. План показывает его систематический подход: сначала разобрать более «простые» математические объекты, а затем перейти к более сложным и спорным – идеям. Финальный вопрос о принципах – это главный вопрос метафизики, ради которого и затевается вся критика. (Солопова М.А. Аристотель. Метафизика // Новая философская энциклопедия. – М.: Мысль, 2010).
Myles F. Burnyeat (Зарубежный специалист): Бёрньет подчёркивает стратегическую важность этого плана. Аристотель начинает с математики, потому что её он считает в чём-то более ясной дисциплиной, а её объекты – менее проблематичными, чем идеи. Это позволяет ему разработать основные онтологические аргументы (которые будут изложены в следующем е), которые затем можно будет применить и к идеям. Упоминание «третьего объекта исследования» (вопрос о принципах) указывает на то, что критика – не самоцель, а пролог к позитивному учению, которое последует в книге XII (Λ). (Burnyeat M.F. A Map of Metaphysics Zeta. – Pittsburgh: Mathesis Publications, 2001. – P. 15-16).
5. Ключевая дилемма о способе существования математических объектов.
Если математическое существует, то оно должно либо, как утверждают некоторые, существовать в чувственных вещах, либо, как утверждают другие, отдельно от чувственных вещей: если ни того, ни другого нет, то оно либо не существует вовсе, либо существует каким-то иным образом. Таким образом, предметом нашего обсуждения будет не его существование, а природа его существования.
Проблема: Формулировка центральной апории (логического затруднения) для математических объектов. Аристотель сужает поле дискуссии: он не отрицает полезность математики, но ставит под сомнение онтологический статус её объектов – являются ли они самостоятельными сущностями (субстанциями) или же существуют лишь в мышлении.
Комментарии:
В.В. Петров (Россия): Петров видит здесь core аргумент всей аристотелевской философии математики. Аристотель отвергает как платоновский дуализм (отдельное существование математических объектов), так и наивный материализм (их полное тождество с чувственными вещами). Его собственное решение, которое будет развито далее, состоит в том, что математические объекты – это абстракции, мысленно выделяемые из чувственной субстанции и не существующие независимо от неё. Таким образом, они не являются субстанциями в строгом смысле, а существуют «в другом роде» – как атрибуты или модусы субстанции. (Петров В.В. Аристотелевская теория математического предмета // Философия. Язык. Культура. Вып. 5. – СПб.: Алетейя, 2014. – С. 32–43).
Jonathan Lear (Зарубежный специалист): Лир считает, что Аристотель здесь формулирует дилемму, которая до сих пор актуальна в философии математики: платонизм vs. номинализм. Гениальность Аристотеля в том, что он предлагает третий путь – концептуализм. Математические объекты реальны, но их реальность зависит от деятельности ума, абстрагирующего определённые свойства (количество, форма) от физических тел. Поэтому вопрос «как они существуют?» для Аристотеля важнее вопроса «существуют ли они?». Их существование – это существование в мышлении (ens rationis). (Lear J. Aristotle’s Philosophy of Mathematics // The Philosophical Review, Vol. 91, No. 2 (Apr., 1982). – PP. 161-192).
Глава 2. Опровержение самостоятельного существования математических объектов.
1. Критика теории вложения: математические объекты не могут существовать внутри чувственных вещей.
[1] То, что математическое не может существовать в разумном и что такое утверждение ложно, мы уже отмечали в «Апориях», где показали, что два тела не могут находиться в одном и том же пространстве в одно и то же время. Далее мы отметили, что с тем же правом можно утверждать, что [2] другие способности и природы также находятся в чувствующих вещах и что ни одна из них не является отдельной. В дополнение к этим уже приведенным причинам [3] также невозможно, чтобы тело было делимым в соответствии с этим предположением…
Проблема: Опровержение точки зрения, что математические объекты (точки, линии, поверхности) физически вложены в чувственные тела как их составные части. Аристотель приводит три контраргумента:
Физическая невозможность: Два тела (чувственное и математическое) не могут занимать одно и то же место (апория).
Логическое следствие: Тогда и все другие свойства (цвет, способности) пришлось бы считать отдельными телами внутри вещей.
Апория делимости: Если тело состоит из поверхностей, те – из линий, а линии – из точек (которые неделимы), то деление становится невозможным.
Комментарии:
А.Ф. Лосев (СССР): Лосев видит здесь классический пример аристотелевского эмпиризма и его борьбы с платоновским «гипостазированием» (опредмечиванием) абстракций. Аргумент о невозможности двух тел в одном месте – это удар по самой возможности существования идеального как физически осязаемого. «Аристотель хочет сказать, что математические объекты, если их понимать как телесные сущности, ничем не отличались бы от обыкновенных физических тел и, следовательно, не могли бы быть вечными и неподвижными, ибо все физическое подвижно». (Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. – М.: Искусство, 1975. – С. 85).
W.D. Ross (Зарубежный специалист): Росс обращает внимание на отсылку к «Апориям» (вероятно, к более ранним дискуссиям в Ликее). Он подчёркивает силу второго аргумента (редукции к абсурду): если бы математические объекты были телами внутри тел, то тогда и любое свойство, например, «белизна» или «способность нагревать», пришлось бы считать отдельным телом, что ведёт к полной неразберихе и уничтожению самой категории субстанции. (Ross W.D. Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary. Vol. II. – Oxford: Clarendon Press, 1924. – P. 409-410).
2. Критика теории отделения: недопустимое умножение сущностей (argument from proliferation).
С другой стороны, такие экзистенты [математические] не могут существовать отдельно. Ведь если бы, кроме чувственно воспринимаемых тел, существовали другие тела, отдельные от них и предшествующие им, то, очевидно, кроме поверхностей должны были бы существовать и другие поверхности, отдельные от них, и кроме точек – точки, а кроме линий – линии, [6] по той же самой причине…
Проблема: Опровержение теории, что математические объекты существуют отдельно от чувственного мира. Аристотель показывает, что это приводит к бесконечному регрессу и умножению сущностей. Если есть отдельное математическое тело, то должны быть и отдельные поверхности, его составляющие, а затем отдельные линии, составляющие эти поверхности, и так до бесконечности. Это абсурдно.
Комментарии:
В.П. Гайденко (Россия): Гайденко называет этот аргумент «принципом пролиферации (размножения) сущностей», который является одним из самых мощных орудий аристотелевской критики платонизма. Аристотель применяет здесь свой собственный критерий научности: объяснение не должно множить сущности сверх необходимости (бритва Оккама ante litteram). Теория, порождающая бесконечный регресс, не может быть истинной, так как она делает невозможным любое познание. (Гайденко В.П. История греческой философии в её связи с наукой. – М.: Университетская книга, 2000. – С. 196).
G.E.L. Owen (Зарубежный специалист): Оуэн отмечает, что этот аргумент адресован не только «чистым» платоникам, но и, возможно, Спевсиппу, который пытался построить всю онтологию на математических объектах. Аристотель показывает, что такая онтология внутренне противоречива и обречена на бесконечное удвоение мира. «Аргумент Аристотеля демонстрирует, что платоновское отделение Идей (или математических объектов) разрушает саму возможность иерархии сущего, делая её бесконечной и, следовательно, бессмысленной». (Owen G.E.L. The Platonism of Aristotle // Proceedings of the British Academy, Vol. 50 (1965). – P. 142).
3. Следствие для наук: предметом какой математики была бы эта «вторая реальность»?
О чем же из этого должны теперь [11] заботиться математические науки? Конечно, не о поверхностях, линиях и точках неподвижного тела? Ведь наука всегда занимается первым.
Проблема: Практический вывод из теории отделения. Если существует бесконечная иерархия математических объектов, то какой именно из этих бесчисленных «этажей» реальности изучает геометрия? Наука должна иметь дело с первым и главным, а в этой теории непонятно, что является первым.
Комментарии:
Э.В. Диль (Россия): Диль подчёркивает, что Аристотель атакует платонизм с позиций практикующего учёного. Математика как наука работает успешно именно потому, что имеет дело с абстракциями, а не с отдельными мирами. Вопрос «о чём же должна заботиться геометрия?» – это риторический вопрос, показывающий практическую несостоятельность теории отделения. Она делает науку невозможной, лишая её чётко определённого предмета. (Диль Э.В. Аристотелевская критика платоновской теории идей в XIII книге «Метафизики» // Вестник ЛГУ. Серия 6. 1991. Вып. 3. – С. 54-55).
Stephen Menn (Зарубежный специалист): Менн видит здесь обращение к аристотелевскому понятию «первого по природе» (prôton physei). Для науки важен именно тот объект, который является причиной для других, а не тот, который логически или онтологически изолирован. В платонической иерархии «математических миров» невозможно установить, что является таким «первым», следовательно, наука теряет свой фундамент. (Menn S. The Aim and the Argument of Aristotle's Metaphysics. – 2012. – P. Iβ7).
4. Расширение критики на другие науки и чувственные свойства.
Так же обстоит дело и с числами… [13] Кроме того, как можно разрешить трудность, на которую мы уже обратили внимание в апории? Ведь тогда то, чем занимается астрономия, окажется так же за пределами чувственного восприятия, как и то, чем занимается геометрия…
Проблема: Демонстрация абсурдных следствий теории для всех наук и чувственных качеств. Если для геометрических объектов есть отдельный мир, то по той же логике он должен быть для объектов астрономии (небеса), оптики (зримые образы), гармонии (звуки). Это привело бы к существованию отдельного неба, отдельного голоса и, в конечном счёте, даже отдельных животных.
Комментарии:
Д.В. Бугай (Россия): Бугай отмечает, что Аристотель применяет логику платоников ко всем без разбора сущностям, доводя её до абсурда. Это классический приём reductio ad absurdum. Если последовательно проводить принцип «каждому понятию соответствует отдельно существующая сущность», то мир распадётся на бесконечное количество изолированных «миров-двойников», что уничтожает целостность и связность универсума, столь важную для аристотелевского мировоззрения. (Бугай Д.В. Аристотель. Метафизика. Переводы. Комментарии. Толкования // ΣΧΟΛΗ. 2008. №2. – С. 325).
Myles F. Burnyeat (Зарубежный специалист): Бёрньет интерпретирует этот пассаж как доказательство того, что аристотелевская философия науки является единой. Он не допускает онтологического разрыва между физикой, математикой и другими науками. Все они изучают один и тот же чувственный мир, но с разных сторон, абстрагируя разные его аспекты. Платонизм же, напротив, онтологически разрывает науки друг от друга, помещая их предметы в разные миры. (Burnyeat M.F. Aristotle's Divine Intellect. – Milwaukee: Marquette University Press, 2008. – P. 27).
5. Конфликт с физикой: математическое не может быть причиной и субстанцией.
В общем, если таким образом представить математическое как отдельное существование, то возникает конфликт как с истиной, так и с обычными предпосылками [19]. Ведь в этом случае математическое должно было бы быть раньше чувственно воспринимаемых величин, тогда как в истине оно позже…
Проблема: Онтологический аргумент. Математические объекты (линия, поверхность) в реальном мире (по сущности) позже тела, так как тело – завершённая субстанция. Они являются абстракциями от тела. Тело онтологически первично, а его математические свойства – вторичны. Линии и поверхности не могут быть субстанциями, так как не являются ни формой (как душа), ни материей (они не могут «страдать», т.е. быть подвержены изменению).
Комментарии:
М.А. Солопова (Россия): Солопова акцентирует внимание на аристотелевском понимании субстанции как того, что существует самостоятельно и является субъектом изменения. Математические объекты не удовлетворяют этому критерию: геометрическую линию нельзя отделить от тела, она не может ни возникать, ни уничтожаться самой по себе, ни быть причиной изменения. «Таким образом, математические объекты не могут быть ни формальной, ни материальной причиной чувственных вещей, а значит, не могут быть искомой вечной и неподвижной субстанцией». (Солопова М.А. Аристотель. Метафизика // Новая философская энциклопедия. – М.: Мысль, 2010).
Joseph Owens (Зарубежный специалист): Оуэнс видит здесь ключевой момент: аристотелевская иерархия бытия основана на понятии актуальности. Чувственное тело актуально, оно есть «вот это нечто» (tode ti). Математические объекты (поверхность, линия, точка) являются его потенциями, мысленными выделениями. Потенция не может быть онтологически раньше актуальности. Поэтому мир математических объектов, если бы он существовал отдельно, был бы миром потенций без актуальности, что для Аристотеля немыслимо. (Owens J. The Doctrine of Being in the Aristotelian 'Metaphysics'. – Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1978. – P. 412).
6. Различение приоритета в понятии и приоритета в реальности.
Поэтому они могут быть более ранними в понятии, но не все, что является более ранним в понятии, является также более ранним в реальном существовании… Отсюда следует [26], что ни то, что вычитается, не является более ранним, ни то, что создается сложением, не является более поздним…
Проблема: Уточнение статуса математического. Аристотель признаёт, что математические объекты логически (в понятии) prior: мы можем мысленно вычесть все свойства тела и рассмотреть только его геометрическую форму. Но это не означает, что эта форма существует реально отдельно от тела. Это различие снимает главный аргумент платоников.
Комментарии:
В.В. Петров (Россия): Петров считает это различие фундаментальным для всей западной философии науки. Аристотель отделяет гносеологический порядок (порядок познания) от онтологического (порядка бытия). Мы познаём сложные вещи через анализ их простых составляющих (например, тело через его поверхности и линии). Но из этого не следует, что эти простые составляющие существуют раньше сложных. Напротив, целое онтологически первично по отношению к своим частям. (Петров В.В. Аристотелевская теория математического предмета // Философия. Язык. Культура. Вып. 5. – СПб.: Алетейя, 2014. – С. 38).
Jonathan Lear (Зарубежный специалист): Лир утверждает, что именно это различие позволяет Аристотелю «спасти явление» математики, не впадая в платонизм. Математика имеет дело с объектами, которые являются «первыми по определению» (мы даём определение точке, а не телу, состоящему из точек), но это не имплицирует их отдельного существования. Математика – это наука об абстракциях, а не о самостоятельном мире. (Lear J. Aristotle’s Philosophy of Mathematics // The Philosophical Review, Vol. 91, No. 2 (Apr., 1982). – P. 176).
7. Итоговый вывод о способе существования математического.
О том, что, следовательно, математическое не более субстанциально, чем телесное, и что оно не раньше по бытию, чем чувственно воспринимаемое, а только по понятию, и что оно нигде не может существовать отдельно, было достаточно сказано. [28] Но поскольку, как мы видели, оно не может существовать и в чувственном, из этого следует, что оно либо вообще не существует, либо существует только определенным образом, а значит, не абсолютно, ибо существование выражается в разных смыслах.
Проблема: Формулировка окончательной позиции Аристотеля. Математические объекты не существуют ни в чувственных вещах как физические компоненты, ни отдельно от них как самостоятельные сущности. Они существуют «определённым образом» – как абстракции, мысленно выделенные из чувственных вещей разумом. Их бытие – это бытие в мышлении.
Комментарии:
А.Ф. Лосев (СССР): Лосев подводит итог: Аристотель находит третий путь. Математические объекты существуют, но не как субстанции, а как «мыслимые содержания», как продукты деятельности ума по абстрагированию. Их бытие – это бытие «в возможности», актуализируемое в акте математического познания. «Таким образом, Аристотель… признает объективную значимость математических истин, но отрицает онтологическую реальность математических объектов помимо акта мышления». (Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. – М.: Искусство, 1975. – С. 88).
W.D. Ross (Зарубежный специалист): Росс обращает внимание на последнюю фразу о том, что «существование выражается в разных смыслах» (pollachôs to on legetai). Это отсылка к центральной доктрине «Метафизики» о многозначности бытия. Бытие математического объекта – это не бытие субстанции, а бытие как атрибут, как свойство, рассматриваемое в абстракции. Этот вывод позволяет Аристотелю сохранить математику как науку, не переступая границ своего эмпирического онтологического принципа. (Ross W.D. Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary. Vol. II. – Oxford: Clarendon Press, 1924. – P. 423).
Глава 3. Положительное определение статуса математики как науки об абстракциях.
1. Принцип абстракции: как математика существует, не будучи отдельной сущностью.
[1] Ибо как общее в математике относится не к вещам, отдельным от величин и чисел, а именно к ним, но не в той мере, в какой они имеют величину или делимы, так, очевидно, возможно, что существуют понятия и доказательства разумных величин, но не в той мере, в какой они разумны, а в той, в какой они являются величинами.
Проблема: Положительный ответ на вопрос, поставленный в конце предыдущей главы: каким образом математическое всё же существует? Аристотель вводит ключевое понятие абстракции. Математик изучает те же чувственные вещи, но не в их чувственной конкретности (цвет, температура, движение), а лишь в одном, мысленно выделенном аспекте – как величины, фигуры, числа.
Комментарии:
В.В. Петров (Россия): Петров подчёркивает, что здесь Аристотель формулирует ядро своей философии математики. Абстракция – это не создание нового объекта, а селективное внимание ума. «Математик… рассматривает реальные физические объекты, но игнорирует (ἀφαιρεῖ) все их свойства, кроме количественных и пространственных. Таким образом, математические объекты существуют, но не как самостоятельные сущности (οὐσίαι), а как абстракции (ἐξ ἀφαιρέσεως)». (Петров В.В. Аристотелевская теория математического предмета // Философия. Язык. Культура. Вып. 5. – СПб.: Алетейя, 2014. – С. 39).
Jonathan Lear (Зарубежный специалист): Лир акцентирует, что аристотелевская абстракция решает главную проблему: она объясняет объективность математики (она о реальном мире) и её точность (она о простых, мысленно выделенных аспектах этого мира). «Математика для Аристотеля – это наука о физических объектах, рассматриваемых квази-независимо от их материи. Её объекты – это "как если бы" объекты (hôs echorismena), а не действительно отделённые (kechorismena). Это эпистемологическое, а не онтологическое отделение». (Lear J. Aristotle’s Philosophy of Mathematics // The Philosophical Review, Vol. 91, No. 2, 1982. – P. 169).
2. Аналогия с другими науками: предмет науки определяется её аспектом рассмотрения.
[2] Ибо подобно тому, как существует множество понятий величин лишь постольку, поскольку они находятся в движении, совершенно отдельно от сущности каждой величины и ее случайных свойств… так и понятия и науки о телах… будут существовать не постольку, поскольку они находятся в движении, но постольку, поскольку они только тела… [3] Поскольку, таким образом, можно с истиной сказать не только о том, что имеет отдельное существование, что оно есть, но и о том, что не существует отдельно, например, о том, что движется, можно с истиной сказать и о математическом, что оно есть…
Проблема: Обоснование законности абстракции через аналогию. Медицина изучает тело не как тело вообще, а как здоровое; физика изучает тело как движущееся. Так и математика изучает тело как геометрическое тело, как поверхность, как линию. Предмет науки – не отдельная сущность, а аспект рассмотрения реальной сущности.
Комментарии:
Э.В. Диль (Россия): Диль видит в этом пассаже доказательство единства аристотелевской системы наук. Разные науки – это не разные онтологии, а разные взгляды на одну и ту же реальность. «Аристотель проводит мысль о том, что один и тот же предмет – чувственно воспринимаемое тело – может изучаться разными науками, каждая из которых абстрагирует свой собственный аспект: физика – аспект движения, математика – аспект величины и формы, первая философия – аспект бытия как такового». (Диль Э.В. Аристотелевская критика платоновской теории идей в XIII книге «Метафизики» // Вестник ЛГУ. Серия 6. 1991. Вып. 3. – С. 56).
Stephen Menn (Зарубежный специалист): Менн обращает внимание на фразу «можно с истиной сказать… что оно есть». Это ключевой момент: Аристотель расширяет значение «бытия» за пределы категории субстанции. Быть движением – это один способ бытия, быть величиной – другой. Математика истинна, потому что она высказывается о реальном аспекте бытия сущего, а не о фикции. (Menn S. The Aim and the Argument of Aristotle's Metaphysics. – 2012. – P. Iβ8).
3. Онтологический статус математических объектов: бытие как абстракция.
[6] Многие определения этого рода по существу приписываются вещам в соответствии с различными точками зрения, под которые попадает каждая вещь: так, например, животное имеет свои особые качественные определения, поскольку оно является самкой или самцом, не имея, однако, существования самки или самца отдельно от животного: то же самое происходит, когда животное рассматривается [7] в той мере, в какой оно является только длиной или поверхностью.
Проблема: Уточнение онтологического статуса. Математические свойства (быть линией, поверхностью) реальны и присущи вещам, но не существуют отдельно от них, подобно тому как свойство «быть самцом» реально, но не существует отдельно от самого животного.
Комментарии:
Д.В. Бугай (Россия): Бугай отмечает, что Аристотель использует здесь аналогию с другими не-субстанциальными категориями (качество, отношение). Это помещает математические объекты в общий онтологический контекст: они являются акциденциями, свойствами субстанций. «Математические атрибуты существуют в субстанции (ἐν ὑποκειμένῳ), а не сами по себе. Они онтологически вторичны, но именно это и позволяет им быть предметом точной науки, ибо они, в отличие от самой субстанции, неизменны и лишены материальной неопределённости». (Бугай Д.В. Аристотель. Метафизика. Переводы. Комментарии. Толкования // ΣΧΟΛΗ. 2008. №2. – С. 328).
Joseph Owens (Зарубежный специалист): Оуэнс подчёркивает, что эта аналогия показывает зависимость способа бытия от способа познания. То, как мы рассматриваем вещь (как самца, как длину), определяет, какой аспект её бытия мы выделяем. Бытие математического объекта – это бытие-в-аспекте (being-under-an-aspect), а не абсолютное бытие-само-по-себе. (Owens J. The Doctrine of Being in the Aristotelian 'Metaphysics'. – Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1978. – P. 415).
4. Гносеологическое преимущество математики: точность благодаря простоте.
[7] Чем раньше понятие и чем проще вещи, тем большую точность они допускают. [8] Такой вещью является простое. Таким образом, то, что не имеет величины, допускает большую точность, чем то, что имеет величину, и особенно то, что не имеет движения.
Проблема: Объяснение, почему математика является точной наукой. Математика абстрагируется от сложности и изменчивости материального мира, имея дело с простейшими и неизменными аспектами реальности (форма, количество). Эта простота объекта и обеспечивает точность и достоверность математических доказательств.
Комментарии:
В.П. Гайденко (Россия): Гайденко видит здесь основание аристотелевской иерархии наук по степени их точности. Математика точнее физики, потому что её объект проще и неподвижнее. «Точность науки прямо пропорциональна простоте и неизменности её предмета. Поскольку математика имеет дело с такими абстракциями, как число и фигура, которые лишены материальной изменчивости, она и достигает высшей степени точности и доказательности, недоступной физике, изучающей движущиеся тела». (Гайденко В.П. История греческой философии в её связи с наукой. – М.: Университетская книга, 2000. – С. 197).
Myles F. Burnyeat (Зарубежный специалист): Бёрньет указывает на связь этого пассажа с учением о четырёх причинах. Точность математики проистекает из того, что она изучает почти исключительно формальную причину, абстрагируясь от материальной, движущей и целевой. Это сужение фокуса и даёт силу её доказательствам. (Burnyeat M.F. Aristotle's Divine Intellect. – Milwaukee: Marquette University Press, 2008. – P. 29).
5. Метод математики: рассмотрение не-отдельного как отдельного.
[11] …Лучший способ взглянуть на любую вещь – это рассматривать то, что не является отдельным, как отдельное [12], как это делают арифметик и геометр.
Проблема: Описание метода математического познания. Хотя математические объекты не существуют отдельно, математик в своём исследовании рассматривает их так, как если бы они были отдельными сущностями. Это методологический приём, позволяющий изучать свойства фигур и чисел в чистом виде, не отвлекаясь на материальные наслоения.
Комментарии:
А.Ф. Лосев (СССР): Лосев называет этот метод «гипостатизацией абстракций в порядке методологического приёма». Это не онтологическое утверждение, а рабочая гипотеза математика. «Математик… временно и условно приписывает самостоятельное существование тому, что в действительности самостоятельно не существует. Это – фикция, но фикция плодотворная, необходимая для построения математической науки». (Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. – М.: Искусство, 1975. – С. 90).
W.D. Ross (Зарубежный специалист): Росс обращает внимание на выражение «лучший способ» (βέλτιστον). Это не просто допустимый приём, а оптимальная методологическая стратегия. Она позволяет математике достигать необходимых и всеобщих истин о количественных и пространственных отношениях, которые хотя и имплицитно присутствуют в чувственных вещах, но могут быть явлены только таким образом. (Ross W.D. Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary. Vol. II. – Oxford: Clarendon Press, 1924. – P. 428).
6. Математика и прекрасное: косвенное выражение блага через порядок и симметрию.
[14] …Поскольку благое и прекрасное различны… то ошибаются те, кто утверждает, что математические науки ничего не говорят о прекрасном или благом. Они во всех отношениях говорят [16] о нем и указывают на него, даже если не употребляют этого слова, а только доказывают его произведения и отношения. [17] Главными видами красоты являются порядок, симметрия и определенность, и именно на них предпочитают указывать математические науки.
Проблема: Ответ на возможное обвинение математики в отрыве от ценного и meaningful. Аристотель утверждает, что математика, хотя и не говорит прямо о благе (которое связано с действием), говорит о прекрасном, которое проявляется в неподвижности. А главные формы прекрасного – порядок, симметрия, соразмерность (taxis, summetria, to horismenon) – как раз и являются прямым предметом математики. Таким образом, математика изучает formal cause красоты.
Комментарии:
М.А. Солопова (Россия): Солопова видит здесь важное расширение горизонта математики. Аристотель защищает её не только как точную, но и как meaningful науку, связанную с высшими ценностями. «Указывая, что математика изучает порядок, симметрию и определённость, Аристотель подчёркивает её эстетическую и космологическую значимость. Математическая структура лежит в основе гармонии космоса, и в этом смысле математика оказывается связанной с теологией, изучающей наивысшие причины миропорядка». (Солопова М.А. Аристотель. Метафизика // Новая философская энциклопедия. – М.: Мысль, 2010).
G.E.L. Owen (Зарубежный специалист): Оуэн интерпретирует этот пассаж как ответ тем, кто, подобно Исократу, обвинял математику в бесполезности. Аристотель показывает, что математика имеет высшую ценность – она открывает formal conditions красоты и, следовательно, вносит вклад в понимание устройства наилучшего космоса. «Математика не говорит о благе прямо, как этика, но она демонстрирует его структурные предпосылки – те самые порядок и меру, которые являются основой всякого блага в мире». (Owen G.E.L. The Platonism of Aristotle // Proceedings of the British Academy, Vol. 50, 1965. – P. 145).
Глава 4. Критический анализ теории Идей: генезис учения и его внутренние противоречия.
1. Историко-философские истоки теории Идей.
[2] …Сторонники учения об идеях пришли к своему мнению благодаря убеждению в правильности гераклитовского учения о том, что все чувственное находится в вечном движении: если, заключали они далее, должна существовать наука и познание чего-либо, то наряду с чувственно воспринимаемым и помимо него должны существовать другие, постоянные существа, ибо науки о движении не существует.
Проблема: Выявление гносеологического корня теории. Аристотель показывает, что Платон и его последователи, приняв тезис Гераклита о тотальной изменчивости чувственного мира, пришли к выводу о необходимости существования неизменных сущностей (Идей) как единственно возможного объекта истинного знания (науки).
Комментарии:
А.Ф. Лосев (СССР): Лосев подчёркивает, что Аристотель даёт глубокий историко-философский анализ, вскрывая действительную генетическую связь платонизма с гераклитизмом. Однако Аристотель не согласен с исходной посылкой. «Аристотель… сам признает изменчивость чувственного мира, но он не абсолютизирует её, как это делали киренаики или Кратил. Для Аристотеля в самом чувственном мире есть определённость и устойчивость, позволяющие иметь о нём науку, – а именно, его форма». (Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. – М.: Искусство, 1975. – С. 92).
W.D. Ross (Зарубежный специалист): Росс отмечает, что Аристотель здесь указывает на фундаментальное различие между своей и платоновской эпистемологией. Для Платона наука (epistêmê) возможна только о неизменном. Для Аристотеля наука возможна и о изменчивом, если рассматривать его под определённым, устойчивым аспектом (через его форму и сущность). Таким образом, теория Идей, по Аристотелю, рождена из ложной дилеммы. (Ross W.D. Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary. Vol. II. – Oxford: Clarendon Press, 1924. – P. 431-432).
2. Роль Сократа и смещение акцента с натурфилософии на определения.
Теперь, занимаясь нравственными добродетелями [4] и, прежде всего, пытаясь сделать общие выводы о них… Сократ справедливо искал, что именно. Ведь он пытался сформировать рассуждение, [7] а принцип рассуждения – это то, что… Сократу по праву можно приписать две вещи: индукцию и определение, и обе они относятся к [9] принципу научности.
Проблема: Определение роли Сократа как предтечи. Аристотель отделяет заслугу Сократа (разработка индуктивного метода и поиск универсальных определений, особенно в этике) от ошибки платоников. Сократ искал общие понятия (logoi), но не приписывал им отдельного онтологического статуса.
Комментарии:
В.П. Гайденко (Россия): Гайденко видит в этом пассаже тонкую историко-философскую критику. Аристотель отдаёт должное Сократу как основателю логики и методологии, но чётко отделяет его от Платона. «Сократ, по Аристотелю, открыл общее как предмет логического определения, но не онтологизировал его. Платон же, столкнувшись с проблемой обоснования неизменности общего, придал ему статус самостоятельного сверхчувственного бытия, что, с точки зрения Аристотеля, и было роковой ошибкой». (Гайденко В.П. История греческой философии в её связи с наукой. – М.: Университетская книга, 2000. – С. 199).
G.E.L. Owen (Зарубежный специалист): Оуэн соглашается с этой оценкой, отмечая, что Аристотель ценит Сократа за его focus на логических и этических универсалиях, что было шагом вперёд по сравнению с натурфилософией досократиков. Однако платоновская онтологизация этого общего представляется Аристотелю неоправданным и ошибочным метафизическим скачком. (Owen G.E.L. The Platonism of Aristotle // Proceedings of the British Academy, Vol. 50, 1965. – P. 148).
3. Ошибка платоников: гипостазирование общих понятий.
Но Сократ не превращал общее и определения в конкретные сущности, тогда как платоники [10] делали это и называли такого рода сущности Идеями.
Проблема: Формулировка основной ошибки платонизма. Платоники, в отличие от Сократа, совершили логическую ошибку, превратив универсальные понятия (общее) в самостоятельные, отдельно существующие сущности (hypostasizing).
Комментарии:
Д.В. Бугай (Россия): Бугай определяет эту ошибку как «нарушение категориального строя мышления». Платоники смешали логический статус предиката (то, что говорится о subject) с онтологическим статусом субъекта (самой сущности). «Они приняли predicables за substances, универсалии за первичные сущности. Это, по Аристотелю, фундаментальная категориальная ошибка, ведущая ко всем последующим апориям теории Идей». (Бугай Д.В. Аристотель. Метафизика. Переводы. Комментарии. Толкования // ΣΧΟΛΗ. 2008. №2. – С. 330).
Joseph Owens (Зарубежный специалист): Оуэнс называет этот процесс «reification» (опредмечивание). Платоники, стремясь объяснить, почему многие вещи подпадают под одно понятие, постулировали отдельно существующий прообраз этого понятия. Аристотель же предлагает иное объяснение: общность основана на том, что одна и та же форма присутствует в разных материях. Таким образом, нет нужды выходить за пределы чувственного мира для объяснения универсалий. (Owens J. The Doctrine of Being in the Aristotelian 'Metaphysics'. – Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1978. – P. 420).
4. Следствие ошибки: неконтролируемое умножение сущностей.
Поэтому, следовательно, им пришлось принять идеи почти за все общее… ведь идей почти больше, чем отдельных чувственных вещей… Ибо для каждой вещи существует одноименная Идея… согласно доводам, вытекающим из природы науки, были бы идеи для всего, о чем имеет место наука; согласно доказательству, вытекающему из единства во многих, были бы идеи и для отрицательного…
Проблема: Демонстрация абсурдного следствия из предпосылок платоников. Если логика платоников верна, то Идей должно быть бесконечное множество, включая идеи отрицательных понятий, относительных свойств и преходящих вещей, что сами платоники признать отказываются. Это приводит к противоречию внутри их же системы.
Комментарии:
Э.В. Диль (Россия): Диль обращает внимание на то, что этот аргумент является развитием аргумента от пролиферации (размножения сущностей), применённого ранее к математическим объектам. Аристотель показывает, что платонизм не может быть последовательно проведённой системой. Его собственные принципы требуют существования Идей для всего, что мыслимо, включая несуществующее и отрицательное (например, «Идея Не-Сущего»), что абсурдно. (Диль Э.В. Аристотелевская критика платоновской теории идей в XIII книге «Метафизики» // Вестник ЛГУ. Серия 6. 1991. Вып. 3. – С. 58).
Stephen Menn (Зарубежный специалист): Менн подчёркивает, что это не просто внешняя критика, а демонстрация внутренней противоречивости платонизма. Платоники вынуждены произвольно ограничивать сферу идей, чтобы избежать абсурда, но тем самым они нарушают свои же собственные гносеологические принципы (например, что наука возможна только об идеях). Это показывает, что теория не выдерживает проверки на логическую последовательность. (Menn S. The Aim and the Argument of Aristotle's Metaphysics. – 2012. – P. Iγ1).
5. Логические несоответствия в теории причастности.
Но по необходимости и [18] согласно господствующим взглядам на идеи, если идеи способны к участию, то должны существовать идеи только отдельных субстанций… Идеи, таким образом, являются единичными субстанциями.
Проблема: Критика теории причастности (methexis). Аристотель показывает, что если вещь причастна Идее, то это имеет смысл только для субстанций (сущностей), а не для свойств или отношений. Но это ведёт к другому противоречию: Идеи, будучи общими по definition, оказываются единичными сущностями, что невозможно.
Комментарии:
М.А. Солопова (Россия): Солопова видит здесь апелляцию к аристотелевскому учению о категориях. Идея, по замыслу, должна быть сущностью (ousia). Но сущность по definition есть «вот это нечто» (tode ti), единичное. Однако платоновская Идея по definition есть общее (katholou). Таким образом, в понятии «Идеи» совмещаются взаимоисключающие характеристики: быть общей и быть единичной сущностью. Это логический тупик. (Солопова М.А. Аристотель. Метафизика // Новая философская энциклопедия. – М.: Мысль, 2010).
Myles F. Burnyeat (Зарубежный специалист): Бёрньет интерпретирует этот аргумент как показывающий, что теория причастности не может объяснить, как именно единичная вещь связана с общей Идеей. Либо Идея должна быть единичной (тогда она не может быть обшей для многих), либо обшей (тогда она не может быть сущностью). Платонизм оказывается зажатым между Сциллой номинализма и Харибдой универсального реализма, не будучи able to найти между ними стабильную позицию. (Burnyeat M.F. A Map of Metaphysics Zeta. – Pittsburgh: Mathesis Publications, 2001. – P. 52).
6. Главная апория: проблема общности Идей и вещей.
Если идеи и то, что в них участвует, одного [21] рода, то между ними должно быть что-то общее… Если же они не одного и [22] того же рода, то они просто омонимы…
Проблема: Формулировка знаменитого «Третьего человека». Аристотель указывает на центральную логическую трудность теории: если вещь и её Идея сходны, то должно существовать нечто общее между ними, то есть новая, более высокая Идея, и так до бесконечности. Если же они не сходны, то Идея не может быть сущностью вещи, а лишь её омонимом (как если бы и человека, и его statue назвать «человеком»).
Комментарии:
В.В. Петров (Россия): Петров отмечает, что этот аргумент, известный ещё из диалога «Парменид», является самым сильным логическим возражением против теории Идей. Он показывает, что платонизм не может объяснить самое главное – отношение подобия между идеей и вещью – без того, чтобы не впасть в бесконечный регресс (третий человек, четвёртый и т.д.) или не разорвать всякую связь между мирами. «Аристотель демонстрирует, что теория Идей либо бесплодна (регресс), либо бессмысленна (омонимия)». (Петров В.В. Аристотелевская теория математического предмета // Философия. Язык. Культура. Вып. 5. – СПб.: Алетейя, 2014. – С. 41).
Jonathan Lear (Зарубежный специалист): Лир подчёркивает, что апория «третьего человека» разрушает саму возможность объяснения через Идеи. Если для объяснения подобия между человеком и Идеей Человека требуется новая Идея, то объяснение никогда не будет завершено. Таким образом, Идеи не выполняют своей основной функции – быть причиной сходства и бытия вещей. Они оказываются бесполезными сущностями. (Lear J. Aristotle and Logical Theory. – Cambridge: Cambridge University Press, 1980. – P. 107).
7. Пустота определения Идей через родо-видовые понятия.
Если же мы предположим, [23] что общие понятия в остальном применимы к идеям, например, общие понятия фигуры, поверхности и других частей этого понятия… то мы должны увидеть, не является ли эта информация совершенно пустой.
Проблема: Критика попытки определить сами Идеи. Аристотель argues, что если пытаться определить Идею (например, «Идея Человека») через общие родовые и видовые понятия («животное», «двуногое»), то это либо ведёт к регрессу (нужны Идеи для этих родов и видов), либо определение оказывается пустым, так как не объясняет, чем именно эта Идея отличается от других. Идея оказывается просто синонимом общего понятия, лишённым explanatory power.
Комментарии:
А.Ф. Лосев (СССР): Лосев резюмирует: Аристотель показывает, что Идеи оказываются «вечными дубликатами» чувственных вещей, не несущими никакой новой информации. Их определения совпадают с определениями соответствующих чувственных сущностей, что делает их онтологически избыточными. «Зачем нужны эти копии, которые ничего не объясняют и только удваивают мир? – спрашивает Аристотель. Его собственная теория формы, имманентной вещи, экономичнее и объяснительно мощнее». (Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. – М.: Искусство, 1975. – С. 95).
W.D. Ross (Зарубежный специалист): Росс соглашается с этой оценкой. Определение Идеи Человека будет таким же, как определение человека вообще. Но тогда Идея не добавляет ничего к нашему пониманию человека, кроме утверждения, что существует некий сверхчувственный образец, что является голым утверждением, не несущим объяснительной силы. Таким образом, теория Идей оказывается метафизически бесплодной. (Ross W.D. Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary. Vol. II. – Oxford: Clarendon Press, 1924. – P. 437-438).
Глава 5. Бесполезность идей: критика их каузальной и объяснительной роли.
1. Основной обвинительный тезис: Идеи не выполняют никакой объяснительной функции
[1] Больше всего, однако, возникает вопрос, что, собственно, делают Идеи для вечного при материально существующем, или какую пользу они приносят возникающему и преходящему: ведь они [2] не являются причиной ни движения, ни какого-либо другого изменения. Не вносят они ничего и в научное познание вещей… ни в их бытие, поскольку они не пребывают в том, что участвует в них.
Проблема: Постановка главного обвинения. Аристотель утверждает, что Идеи, даже если предположить их существование, бесполезны. Они не объясняют:
Движение/Изменение (не являются действующей причиной).
Познание (поскольку не присутствуют в познаваемых вещах).
Бытие вещей (поскольку отделены от них).
Комментарии:
А.Ф. Лосев (СССР): Лосев подчёркивает, что здесь Аристотель переходит от логической критики к функциональной. Даже если бы удалось разрешить все апории, теория Идей всё равно была бы отвергнута, так как не выполняет главной задачи метафизики – объяснения причин бытия и становления. «Идеи оказываются праздными и бездейственными сущностями, "ненужным удвоением мира", которое ничего не объясняет и ничему не служит. Они – "мертвые куклы", не способные быть двигателями мира». (Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. – М.: Искусство, 1975. – С. 96).
W.D. Ross (Зарубежный специалист): Росс акцентирует, что этот аргумент основан на аристотелевской теории четырёх причин. Чтобы быть настоящей причиной, Идея должна быть либо формальной (но она не в вещи), либо движущей (но она неподвижна), либо целевой (но она не притягивает). Таким образом, Идеи не вписываются ни в одну из категорий причинности, что делает их метафизически бесплодными. (Ross W.D. Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary. Vol. II. – Oxford: Clarendon Press, 1924. – P. 439-440).
2. Критика теории причастности как пустой метафоры.
Самое большее, что можно сказать, – это то, что они являются причинами, подобно тому как белое смешивается с [3] белой массой… Называть идеи образцами и допускать, что вещи в них участвуют, – пустая болтовня в поэтических метафорах.
Проблема: Опровержение конкретных платонических объяснений. Аристотель сравнивает теорию причастности с неудачной теорией Анаксагора о «примешивании» и объявляет её бессодержательной поэтической метафорой, а не философским объяснением.
Комментарии:
В.П. Гайденко (Россия): Гайденко видит в этом сравнении с Анаксагором тонкую иронию. Аристотель низводит возвышенную платоновскую метафору причастности до уровня наивного физикализма досократиков, показывая её философскую несостоятельность. «"Участие" (μέθεξις) и "присутствие" (παρουσία) – это не объяснительные понятия, а лишь образные выражения, за которыми не стоит никакого ясного механизма causation. Аристотель требует чёткого ответа на вопрос: как именно идея вызывает бытие вещи? И платонизм такого ответа дать не может». (Гайденко В.П. История греческой философии в её связи с наукой. – М.: Университетская книга, 2000. – С. 201).
G.E.L. Owen (Зарубежный специалист): Оуэн соглашается, отмечая, что Аристотель обвиняет платоников в использовании «поэтического» языка, который создаёт иллюзию объяснения, но на деле лишь переименовывает проблему. Сказать, что вещь существует потому, что «причастна Идее», – это то же самое, что сказать «она существует потому, что существует её сверхчувственный двойник». Это тавтология, а не объяснение. (Owen G.E.L. The Platonism of Aristotle // Proceedings of the British Academy, Vol. 50, 1965. – P. 150).
3. Критика модели «образца и подобия».
[5] Ибо кто же творит, имея в виду идеи? Кроме того, вполне возможно, что нечто может быть или становиться похожим на другое, не будучи созданным по его образцу…
Проблема: Доказательство неработоспособности модели. Аристотель указывает на два изъяна:
Отсутствие «демиурга»: В природе нет сознательного творца, который «смотрел» бы на Идеи-образцы.
Логическая избыточность: Сходство между вещами не требует существования отдельного образца (Сократ похож на человека, но не потому, что оба «смотрят» на Идею Человека).
Комментарии:
Д.В. Бугай (Россия): Бугай подчёркивает, что Аристотель атакует антропоморфный характер платоновской модели. Она заимствована из сферы ремесла (мастер смотрит на образец) и некритически перенесена на природу. «Для Аристотеля природа (φύσις) творит не по образцу, а из внутреннего принципа – формы. Сходство между индивидами одного вида объясняется не внешним образцом, а наличием у них одной и той же имманентной формы». (Бугай Д.В. Аристотель. Метафизика. Переводы. Комментарии. Толкования // ΣΧΟΛΗ. 2008. №2. – С. 332).
Stephen Menn (Зарубежный специалист): Менн обращает внимание на второй, ещё более разрушительный аргумент: сходство не требует образца. Два человека похожи друг на друга непосредственно, в силу общей природы, а не потому, что оба копируют некий третий объект. Введение Идеи как посредника в объяснении сходства является избыточным и нарушает принцип «бритвы Оккама» (entia praeter necessitatem non sunt multiplicanda). (Menn S. The Aim and the Argument of Aristotle's Metaphysics. – 2012. – P. Iγ3).
4. Внутреннее противоречие: регресс в определении самих Идей.
[6] …даже если бы Сократ существовал как идея, все равно существовало бы несколько его архетипов… Более того, идеи – это не просто архетипы разумных, но и сами идеи: ведь между собой идеи опять-таки находятся в отношении [8] рода к виду: так что одна и та же вещь может быть архетипом и образом.
Проблема: Демонстрация абсурда внутри самой теории. Если Идеи сами являются сущностями, то для их определения потребуются更高ие Идеи (например, Идея Живого Существа для Идеи Человека). Это ведёт к бесконечному регрессу или к путанице, где одна и та же Идея одновременно является и образцом, и копией.
Комментарии:
Э.В. Диль (Россия): Диль отмечает, что этот аргумент показывает порочный круг в основании платонизма. Теория Идей, призванная объяснить иерархию и подобие в чувственном мире, сама оказывается нуждающейся в таком же объяснении, что ведёт к дурной бесконечности. «Платонизм оказывается саморазрушающейся системой: чтобы обосновать её, нужно выйти за её пределы, но такого выхода она не предусматривает». (Диль Э.В. Аристотелевская критика платоновской теории идей в XIII книге «Метафизики» // Вестник ЛГУ. Серия 6. 1991. Вып. 3. – С. 60).
Joseph Owens (Зарубежный специалист): Оуэнс видит здесь отсылку к проблеме «третьего человека», но применённую уже к самим Идеям. Если Идеи образуют свой собственный мир с родо-видовой структурой, то для объяснения сходства между, скажем, Идеей Человека и Идеей Животного потребуется новая, сверх-Идея, и так до бесконечности. Таким образом, мир Идей оказывается столь же нуждающимся в объяснении, как и мир чувственный. (Owens J. The Doctrine of Being in the Aristotelian 'Metaphysics'. – Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1978. – P. 423).
5. Онтологический аргумент: невозможность отделённой сущности.
[8] Кроме того, должно казаться невозможным, чтобы сущность была отделена от вещи, чьей сущностью она является. Как же тогда Идеи, если они [9] суть вещи, могут быть отделены от них?
Проблема: Удар по самой основе платонизма. Аристотель утверждает свой ключевой принцип: сущность (ousia) вещи не может существовать отдельно от самой вещи. Платоновские Идеи – это именно что сущности, существующие отдельно, что, по Аристотелю, является логической невозможностью.
Комментарии:
М.А. Солопова (Россия): Солопова указывает, что это – центральный расхождения двух философов. Для Аристотеля форма (сущность) существует только в Matter, а не отдельно от неё. «Отделённая сущность» – это contradictio in adjecto. Платоновский мир Идей – это, по сути, мир отделённых форм, который для Аристотеля есть нонсенс, философская фикция. (Солопова М.А. Аристотель. Метафизика // Новая философская энциклопедия. – М.: Мысль, 2010).
Myles F. Burnyeat (Зарубежный специалист): Бёрньет подчёркивает, что этот аргумент основан на аристотелевском понимании сущности как того, что делает вещь этой самой вещью. Сущность не может быть отделена от вещи, не уничтожив тем самым саму вещь. Таким образом, Идеи, если бы они и существовали, были бы сущностями самих себя, а не чувственных вещей, и потому были бы бесполезны для объяснения последних. (Burnyeat M.F. A Map of Metaphysics Zeta. – Pittsburgh: Mathesis Publications, 2001. – P. 55).
6. Эмпирическое опровержение: Идеи не объясняют возникновение.
В «Фаэдо» говорится, что Идеи являются причинами бытия и становления: но, несмотря на то, что Идеи существуют, отдельные вещи, которые в них участвуют, не возникают, если не добавляется движущая причина, и, наоборот, многие вещи возникают, например, дом, кольцо, для которых платоники не предполагают никаких Идей [10].
Проблема: Практическое опровержение на примерах.
Для возникновения вещи недостаточно одной лишь Идеи (формальной причины), нужна действующая причина (то, что создаёт).
Множество вещей (артефакты) возникают и без предполагаемых для них Идей, что доказывает: реальные причины возникновения – другие (искусство, природа), а не Идеи.
Комментарии:
В.В. Петров (Россия): Петров называет этот аргумент «эмпирическим coup de grâce». Аристотель апеллирует к фактам: дома строят архитекторы и плотники, а не «Идея Дома»; кольца куют ювелиры. Теория Идей не только логически порочна, но и эмпирически нерелевантна – она не соответствует тому, как в действительности происходит процесс возникновения и творения. (Петров В.В. Аристотелевская теория математического предмета // Философия. Язык. Культура. Вып. 5. – СПб.: Алетейя, 2014. – С. 44).
Jonathan Lear (Зарубежный специалист): Лир обращает внимание на вторую часть аргумента: платоники произвольно ограничивают сферу Идей, отрицая их для артефактов. Но это произвольное ограничение доказывает, что в реальном объяснении мы обходимся без Идей. Если для объяснения возникновения дома нам не нужна Идея Дома, то, возможно, для объяснения возникновения человека нам не нужна и Идея Человека? Это подрывает универсальность теории. (Lear J. Aristotle and Logical Theory. – Cambridge: Cambridge University Press, 1980. – P. 110).
7. Итоговый вердикт.
Таким образом, а также при еще [11] более четких и точных исследованиях можно привести множество причин, подобных приведенным, против идей.
Проблема: Заключительный вывод. Теория Идей не выдерживает критики ни с логической, ни с онтологической, ни с практической точек зрения. Она бесполезна для объяснения мира.
Комментарии:
А.Ф. Лосев (СССР): Лосев резюмирует: критика Аристотеля носит тотальный характер. Он показал, что теория Идей:
Логически противоречива (апории «третьего человека», регресса).
Онтологически несостоятельна (отделённая сущность невозможна).
Гносеологически бесплодна (не помогает познанию).
Каузально бесполезна (не объясняет движение и возникновение).
«После такой разрушительной критики платонизм как строгая философская система был для Аристотеля окончательно преодолён». (Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. – М.: Искусство, 1975. – С. 98).
W.D. Ross (Зарубежный специалист): Росс заключает, что цель этой главы – не просто опровергнуть платонизм, но и расчистить ground для положительного аристотелевского учения о форме и сущности, которое будет изложено в других книгах (особенно VII и XII). Критика показывает, что истинная причина и сущность вещи должна быть имманентной, а не трансцендентной. (Ross W.D. Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary. Vol. II. – Oxford: Clarendon Press, 1924. – P. 443).
Глава 6. Систематизация и классификация теорий о природе числа.
1. Исходная дилемма: возможные способы существования числа как отдельной сущности.
[1] …Если число есть некое бытие и если [2] его сущность не есть нечто иное, а только это, как утверждают некоторые, то возможны три случая…
Проблема: Формализация основных логических возможностей для теории числа, претендующей на онтологический статус. Аристотель задаёт систему координат для последующего анализа, выделяя три ключевых аспекта:
Внутренняя структура числа: Как соотносятся единицы внутри числа?
Отношение числа к вещам: Отделимо ли число от вещей или имманентно им?
Виды чисел: Сколько существует видов чисел?
Комментарии:
В.П. Гайденко (Россия): Гайденко подчёркивает, что Аристотель здесь действует как систематизатор и логик. Он не просто перечисляет мнения, а выстраивает строгую классификацию всех возможных вариантов онтологизации числа, чтобы затем последовательно их опровергнуть. «Аристотель показывает, что, какую бы позицию ни занял платоник или пифагореец, он неизбежно столкнётся с непреодолимыми трудностями. Эта классификация – своего рода "ловушка" для всех вариантов математического метафизического реализма». (Гайденко В.П. История греческой философии в её связи с наукой. – М.: Университетская книга, 2000. – С. 203).
W.D. Ross (Зарубежный специалист): Росс отмечает, что Аристотель начинает с гипотетического допущения («если число есть некое бытие»), которое сам он не разделяет. Это классический диалектический приём: принять тезис оппонента и показать, что даже в его рамках невозможно построить непротиворечивую теорию. Вся классификация строится на предпосылке, что число – это отдельная сущность, что и будет главным объектом критики. (Ross W.D. Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary. Vol. II. – Oxford: Clarendon Press, 1924. – P. 444).
2. Классификация по внутренней структуре: природа единиц и их счётности.
[2] …либо в нем есть первое, второе и т. д, каждая из которых конкретно отличается от другой… либо все они образуют последовательность с самого начала, и каждая из них сочтена вместе с каждой… Или же единицы иногда считаются вместе, иногда [4] нет…
Проблема: Анализ того, как теоретики числа понимают состав числа. Аристотель выделяет три позиции:
Несчётные единицы (Платон): Каждая единица в числе уникальна и несравнима с другими (единица в "двойке" иная, чем в "тройке").
Счётные/Однородные единицы (Математики): Все единицы тождественны и взаимозаменяемы (2 = 1+1, 3 = 2+1).
Смешанная модель: Единицы сравнимы внутри одного числа, но не сравнимы между разными числами.
Комментарии:
А.Ф. Лосев (СССР): Лосев видит здесь критику платоновского учения об «идеальных числах», которые состоят из не-сравнимых, гетерогенных единиц. «Аристотель справедливо указывает на абсурдность такого представления: если единицы внутри числа различны и несравнимы, то само понятие числа как множества однородных единиц разрушается. Платон, желая онтологизировать число, лишает его главного свойства – счётности». (Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. – М.: Искусство, 1975. – С. 99).
Stephen Menn (Зарубежный специалист): Менн обращает внимание на то, что Аристотель противопоставляет «философское» (платоновское) и «математическое» понимание числа. Математика работает только с однородными, взаимозаменяемыми единицами. Платоновская же теория, создавая онтологию для числа, делает его непригодным для математических операций. Таким образом, платонизм не только метафизически порочен, но и практически бесполезен для науки. (Menn S. The Aim and the Argument of Aristotle's Metaphysics. – 2012. – P. Iγ4).
3. Классификация по отношению к чувственному миру: отделимость vs. имманентность.
[9] Далее, числа могут быть либо отделимы от вещей, либо не отделимы, но имманентны разумным вещам… или, наконец, числа могут быть частично отделимы, частично не отделимы…
Проблема: Определение онтологического статуса числа по отношению к реальности. Аристотель намечает спектр мнений:
Полная отделимость (Платон: идеальные и математические числа отделены от вещей).
Полная имманентность (Пифагорейцы: вещи состоят из чисел, числа не отделены).
Промежуточные варианты.
Комментарии:
Д.В. Бугай (Россия): Бугай отмечает, что Аристотель чётко разделяет два основных лагеря: платоников (трансценденталисты) и пифагорейцев (имманентисты). Это разделение fundamental для понимания всей последующей критики, так как аргументы против каждой из позиций будут различны. Против первых будет работать аргумент от отделённости и бесполезности, против вторых – аргумент от невозможности составления физических тел из неделимых единиц. (Бугай Д.В. Аристотель. Метафизика. Переводы. Комментарии. Толкования // ΣΧΟΛΗ. 2008. №2. – С. 334).
Joseph Owens (Зарубежный специалист): Оуэнс подчёркивает, что Аристотель намеренно включает и «промежуточные» варианты, чтобы показать, что любая попытка совместить отделимость и имманентность ведёт к эклектике и непоследовательности. Его собственная позиция, как будет ясно далее, заключается в том, что число не является ни отдельной сущностью, ни составной частью вещей, а есть атрибут, мысленно абстрагируемый от количественной стороны сущего. (Owens J. The Doctrine of Being in the Aristotelian 'Metaphysics'. – Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1978. – P. 425).
4. Сводная классификация существующих философских школ.
[12] Одни утверждают, что существуют оба вида чисел… другие, напротив, утверждают, что только математическое число является первым… [13] Пифагорейцы, кроме того, знают только одно число, математическое, но они не допускают, чтобы оно было отдельным… Другой говорит, что существует только одно, идеальное число; другие также допускают, что математическое число совпадает с ним.
Проблема: Соотнесение логически возможных моделей с реальными историко-философскими школами. Аристотель распределяет позиции:
Платоники (Спевсипп?): Признают два отделённых вида числа – идеальное (с несчётными единицами) и математическое (со счётными).
(Некоторые платоники, Ксенократ?): Признают только математическое число как первое и отделённое.
Пифагорейцы: Признают одно имманентное число (вещи состоят из чисел, которым приписаны spatial величины).
(Платон?): Признает только идеальное число.
(Другие): Отождествляют идеальное и математическое число.
Комментарии:
Э.В. Диль (Россия): Диль обращает внимание на то, что Аристотель не просто классифицирует, но и показывает внутреннюю раздробленность и противоречивость лагеря его оппонентов. «Платоники не смогли выработать единой позиции по ключевому для них вопросу о числе. Это свидетельствует о глубине проблем, присущих самой теории». Аристотель использует это как дополнительный аргумент: если даже сами основатели и последователи теории не могут договориться о её содержании, значит, она внутренне несостоятельна. (Диль Э.В. Аристотелевская критика платоновской теории идей в XIII книге «Метафизики» // Вестник ЛГУ. Серия 6. 1991. Вып. 3. – С. 62).
Myles F. Burnyeat (Зарубежный специалист): Бёрньет отмечает, что эта классификация – бесценный исторический источник, показывающий расхождения внутри Древней Академии после смерти Платона (между Спевсиппом, Ксенократом и другими). Аристотель, бывший членом Академии, был прекрасно осведомлён об этих дискуссиях. Его критика направлена не на абстрактного противника, а на вполне конкретные и влиятельные философские течения его времени. (Burnyeat M.F. Aristotle's Divine Intellect. – Milwaukee: Marquette University Press, 2008. – P. 31).
5. Распространение классификации на другие математические объекты.
Аналогичные различия обнаруживаются [15] в отношении длин, площадей и твердых тел.
Проблема: Показ универсальности проблемы. Те же самые дилеммы (отделимость/имманентность, виды) возникают не только для чисел, но и для геометрических объектов (линий, поверхностей, тел).
Комментарии:
В.В. Петров (Россия): Петров указывает, что этим замечанием Аристотель подводит итог своей критики математического платонизма в целом. Все аргументы, приведённые против отдельного существования математических объектов в главах 2-3, теперь распространяются и на пифагорейско-платоновские теории числа. Проблема одна и та же: гипостазирование абстракций. (Петров В.В. Аристотелевская теория математического предмета // Философия. Язык. Культура. Вып. 5. – СПб.: Алетейя, 2014. – С. 45).
Jonathan Lear (Зарубежный специалист): Лир видит здесь доказательство системности аристотелевского подхода. Его философия математики едина: будь то арифметика или геометрия, её объекты имеют один и тот же онтологический статус – статус абстракций. Поэтому все попытки приписать им самостоятельное существование, в какой бы форме они ни выражались, будут страдать одними и теми же родовыми пороками. (Lear J. Aristotle’s Philosophy of Mathematics // The Philosophical Review, Vol. 91, No. 2, 1982. – P. 180).
6. Предварительный вердикт.
[17] Из сказанного следует, что взгляды на числа могут быть многообразны, и все мыслимые способы перечислены; но все они недопустимы, хотя, вероятно, один больше другого.
Проблема: Формулировка итога классификации. Аристотель заявляет, что, несмотря на всё многообразие, все перечисленные теории числа как отдельной или составляющей сущности являются в конечном счёте несостоятельными. Однако их критика требует отдельного разбора, которому и посвящены последующие главы.
Комментарии:
М.А. Солопова (Россия): Солопова подчёркивает итоговый характер этого заявления. Аристотель завершил систематизацию и вынес предварительный приговор. Фраза «все они недопустимы» (ἀδύνατοι) – это не просто оценка, а логический вывод: каждая из возможностей ведёт к противоречиям. Последующие главы (7-9) будут посвящены детальному обоснованию этого вердикта для каждой из классифицированных позиций. (Солопова М.А. Аристотель. Метафизика // Новая философская энциклопедия. – М.: Мысль, 2010).
G.E.L. Owen (Зарубежный специалист): Оуэн интерпретирует последнюю оговорку («хотя, вероятно, один больше другого») как указание на то, что некоторые теории (например, пифагорейская) ближе к истине, так как хотя бы пытаются связать число с чувственным миром, тогда как крайний платонизм с его отделёнными идеальными числами полностью отрывается от реальности. Однако и та, и другая в конечном счёте ошибочны, так как исходят из ложной предпосылки о том, что число есть сущность. (Owen G.E.L. The Platonism of Aristotle // Proceedings of the British Academy, Vol. 50, 1965. – P. 152).
Глава 7. Логические апории теории чисел: критика несчётных единиц.
1. Исходная дилемма: счётны или несчётны единицы в числе?
[1] Теперь мы должны сначала выяснить, являются ли единицы вместе счетными или несчетными, и, если последнее, то каким [2] из вышеперечисленных способов они являются таковыми.
Проблема: Постановка центральной проблемы главы. Аристотель начинает детальную критику, фокусируясь на первом и ключевом вопросе своей классификации: природа единиц, составляющих число. Это основа для опровержения платонической теории.
Комментарии:
В.П. Гайденко (Россия): Гайденко подчёркивает, что Аристотель выбирает самый уязвимый платонической доктрины – учение о несравнимых единицах. «Аристотель бьёт в самое сердце платоновской метафизики числа, показывая, что её исходное допущение – гетерогенность единиц – логически несостоятельно и делает невозможной не только математику, но и само понятие числа». (Гайденко В.П. История греческой философии в её связи с наукой. – М.: Университетская книга, 2000. – С. 205).
W.D. Ross (Зарубежный специалист): Росс отмечает стратегический ход Аристотеля: он начинает с дилеммы, которая заведомо ставит платоника в проигрышное положение. Если единицы сравнимы, то рушится уникальность Идей-чисел; если несравнимы, то рушится сама математика. Таким образом, теория проигрывает в любом случае. (Ross W.D. Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary. Vol. II. – Oxford: Clarendon Press, 1924. – P. 448).
2. Опровержение первой возможности: если все единицы счётны (однородны).
[3] Если все единицы вместе и одного рода, то мы получаем математическое число как единственное, и тогда идеи не могут быть числами.
Проблема: Критика модели математического числа. Если все единицы тождественны и взаимозаменяемы (2 = 1+1), то:
Потеря уникальности Идей: Каждая Идея должна быть уникальным числом. Но если все тройки тождественны, то нельзя сказать, какая из них является Идеей Человека, а какая – Идеей Животного.
Идеи не могут быть числами: Это делает невозможным отождествление Идей с числами, что разрушает основу платонизма.
Комментарии:
А.Ф. Лосев (СССР): Лосев видит здесь доказательство того, что платонизм несовместим с математикой. «Платон хочет, чтобы число было одновременно и математическим объектом, и метафизической сущностью. Аристотель показывает, что это невозможно: требования к ним прямо противоположны. Математика требует однородности, метафизика Идей – уникальности». (Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. – М.: Искусство, 1975. – С. 101).
Stephen Menn (Зарубежный специалист): Менн акцентирует, что этот аргумент направлен против тех платоников (возможно, Ксенократа), кто пытался сохранить математическое число в ущерб идеальному. Аристотель показывает, что это – тупиковый путь, так как он автоматически отменяет теорию Идей, ради которой всё и затевалось. (Menn S. The Aim and the Argument of Aristotle's Metaphysics. – 2012. – P. Iγ5).
3. Опровержение второй возможности: если все единицы несчётны (гетерогенны).
[7] Но если единицы несовместимы, причем так, что каждая несовместима с каждой, то это число не может быть ни математическим числом… ни идеальным числом…
Проблема: Критика модели, где каждая единица уникальна и несравнима. Это приводит к абсурдным следствиям:
Нарушение математики: Математические операции (сложение) становятся невозможными, так как нельзя прибавить «эту» единицу к «той».
Нарушение платонической генерации чисел: Платоновская «неопределённая двоица» не может порождать числа, если каждая единица уникальна и не может быть просто «прибавлена».
Регресс в порядке: Единицы оказываются «более ранними» и «более поздними», чем числа, которые они составляют, что логически невозможно (например, в двойке должна быть «третья» единица, прежде чем возникнет тройка).
Комментарии:
Д.В. Бугай (Россия): Бугай отмечает, что Аристотель атакует саму возможность арифметики в мире платоновских чисел. «Если единицы несравнимы, то 2 + 1 ≠ 3, так как единицы в "двойке" иные, чем в "единице". Сложение превращается в невыполнимую операцию. Таким образом, платоновское число не может быть предметом науки арифметики, что абсурдно». (Бугай Д.В. Аристотель. Метафизика. Переводы. Комментарии. Толкования // ΣΧΟΛΗ. 2008. №2. – С. 336).
Joseph Owens (Зарубежный специалист): Оуэнс обращает внимание на критику порождения чисел. Платоновская «неопределённая двоица» (ἡ ἀόριστος δυάς) должна была быть принципом множественности. Но если каждая единица уникальна, то двоица не может быть неопределённой, она должна порождать строго определённые, уникальные единицы, что противоречит её сути как принципа неопределённости. (Owens J. The Doctrine of Being in the Aristotelian 'Metaphysics'. – Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1978. – P. 427).
4. Апория «двойки-в-себе» и состава чисел.
[19] …не может быть ни двух-сущности в себе, [19] ни трех-сущности в себе и так далее… число обязательно должно исчисляться путем сложения… В них, с другой стороны, четыре-сущности была создана из первичной дву-сущности и неопределенной дву-сущности, и, таким образом, две дву-сущности получаются помимо дву-сущности-в-себе…
Проблема: Внутреннее противоречие в платоническом построении чисел. Аристотель показывает, что если строить числа из «неопределённой двоицы», то получается, что, например, число 4 состоит из двух двоек. Но тогда возникает вопрос: тождественна ли одна из этих двоек «Идее Двойки» или нет? Если да, то Идея становится частью другой вещи. Если нет, то существует множество двоек, что отрицает уникальность Идеи.
Комментарии:
Э.В. Диль (Россия): Диль называет эту апорию «взрывом изнутри» платонической системы. «Теория требует, чтобы Идея-Число была уникальной и простой. Но механизм её порождения (сложение из двоицы) требует, чтобы она была составной и множественной. Это неразрешимое противоречие в самом основании». (Диль Э.В. Аристотелевская критика платоновской теории идей в XIII книге «Метафизики» // Вестник ЛГУ. Серия 6. 1991. Вып. 3. – С. 64).
Myles F. Burnyeat (Зарубежный специалист): Бёрньет видит здесь проблему целостности. Платоников интересует число как целое, как «идея». Но их же теория вынуждает их объяснять его как сумму частей. Аристотель показывает, что эти два подхода несовместимы: либо число есть нечто целое и неделимое (но тогда оно не состоит из единиц), либо оно есть сумма (но тогда оно не есть уникальная идея). (Burnyeat M.F. Aristotle's Divine Intellect. – Milwaukee: Marquette University Press, 2008. – P. 33).
