Эннеады Плотина. Книга 3
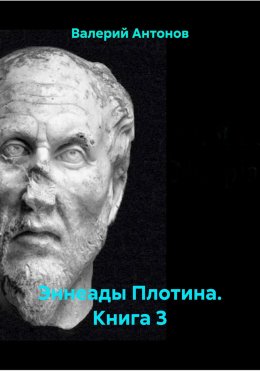
Введение в Эннеады III Плотина: Мир, Судьба и Свобода Души
Эннеады Плотина – это не просто философский трактат, это духовное руководство, карта реальности и глубокий опыт мистического восхождения. Чтобы понять значение третьей Эннеады, важно помнить общую структуру его учения.
Ключевые основы философии Плотина:
1. Три Ипостаси (Принципа) бытия: Всё сущее исходит из Единого невыразимого Первоначала.
⦁ Единое (Благо): Абсолютное начало всего, неизреченное, лишенное всяких форм и качеств. Источник бытия и блага.
⦁ Ум (Нус): Первое эманация Единого. Это сфера чистого Бытия, Идей и Вечных Сущностей. Здесь мыслящее и мыслимое тождественны.
⦁ Душа (Психея): Эманация Ума. Мировая Душа порождает Космос и связывает умственный мир с материальным. Наша индивидуальная душа – часть этой Мировой Души.
2. Материя: Последняя и самая слабая эманация, граница бытия, принцип не-сущего, тьмы и зла (поскольку лишена света и формы Единого).
3. Цель человеческой жизни: «Бегство одинокого к одинокому» – обратное восхождение души через самопознание и добродетель от мира тел через душу к Уму и, в конечном итоге, к мистическому соединению с Единым.
Место Третьей Энеады в corpus`е Плотина:
Если Первая Энеада посвящена в основном этике и самопознанию человека, а Вторая – критике гностицизма и проблемам материального космоса, то Третья Энеада становится мостом между ними. Она фокусируется на ключевых вопросах, которые возникают на стыке божественного и материального миров:
⦁ Как устроен видимый Космос? Является ли он творением злого демиурга (как у гностиков) или прекрасным воплощением божественных идей?
⦁ Что такое Судьба (Рок, Heimarmene) и Провидение? Подчинены ли мы слепой необходимости или миром управляет божественный замысел?
⦁ Есть ли у человека свобода воли? Если да, то в чем она заключается и как ее обрести?
⦁ Что такое Любовь (Эрос)? Является ли она лишь низким влечением или двигателем духовного восхождения?
⦁ Как связано время с вечностью?
Таким образом, Третья Энеада – это глубокое исследование причинности, свободы и порядка в универсуме.
Ключевые трактаты III Энеады и их основные идеи:
1. III.1 [3] «О Судьбе»: Плотин отвергает стоический фатализм, согласно которому всё предопределено цепью причинно-следственных связей. Он проводит различие: тело человека подчинено судьбе (законам материального мира), но высшая часть его души свободна, так как принадлежит к умопостигаемому миру, где царит не необходимость, а свободная воля и разум.
2. III.2-3 [47-48] «О Провидении» (I и II): Это центральные трактаты. Плотин решает проблему зла: если мир создан по божественным образцам, почему в нем есть несправедливость и страдания? Его ответ: Провидение не micromanages каждое событие. Мир устроен по общим, совершенным законам, исходящим из Ума. Отдельные «несправедливости» – это неизбежные побочные эффекты жизни в сложной, иерархической системе, где низшие существа страдают от рук высших (как животные от человека), а зло – это просто отсутствие блага, ущербность материи. Космос в целом прекрасен и справедлив.
3. III.4-5 [15] «Об Эросе» и «О любви»: Плотин проводит различие между Афродитой Небесной (душой, принадлежащей Уму) и Афродитой Пошлой (душой, связанной с телом). Соответственно, и Эрос бывает двух видов: низший – стремление к телесному порождению, и высший – тоска души по своему истинному отцу, Уму, и стремление к творению в сфере красоты и духа.
4. III.7 [45] «О Вечности и Времени»: Один из самых важных и сложных трактатов. Плотин определяет Вечность не как бесконечную длительность, а как вневременную жизнь Ума, где всё пребывает в совершенном единстве, покое и полноте («все сразу»). Время же – это жизнь Души в ее движении и стремлении от одного состояния к другому. Время – это «беспокойный образ вечности», подражающий ее полноте через последовательность.
5. III.8 [30] «О созерцании»: Плотин радикально расширяет понятие созерцания. Созерцает не только философ – вся Вселенная живет созерцанием. Природа молчаливо творит, подражая идеям (это ее форма созерцания). Душа созерцает Ум, а Ум созерцает Единое. Творение – это не активное «делание», а пассивный продукт созерцания.
Почему это актуально для читателя сегодня?
Третья Энеада предлагает уникальный взгляд на извечные вопросы:
⦁ Она учит видеть гармонию и порядок в целом, не зацикливаясь на хаосе и несправедливости в частностях.
⦁ Она дает философское обоснование свободы: наша истинная свобода – не в возможности удовлетворять любые желания, а в способности подняться над детерминизмом материального мира через обращение к разуму и духовному началу в себе.
⦁ Она представляет время не как нейтральные тикающие часы, а как отражение внутреннего состояния души. Чем ближе душа к вечности Ума, тем больше она преодолевает fragmentation времени.
Чтение Третьей Энеады – это интеллектуальное путешествие, которое заставляет пересмотреть самые базовые представления о мире, своей роли в нем и природе подлинной свободы.
Трактат I (3.1) О судьбе. Начало: «Все происходящее…»
О причинности, судьбе и свободе.
В начале трактата Плотин устанавливает главный закон мироздания: ничто не происходит без причины. Однако он сразу усложняет картину, показывая, что причинность – не однородный механизм (как у стоиков), а сложная иерархия: от самодостаточной деятельности вечного Ума до переплетения множества частных причин в материальном мире. Это основа для его дальнейших рассуждений о том, как в этом причинно обусловленном мире возможна подлинная свобода человеческого душа.
Текст Плотина (Эннеады III.1, начало):
«Все происходящее и существующее либо происходит и существует по причинам, либо оба – без причины; либо одно – без причины, другое – с причиной в обоих случаях; либо все происходящее – с причиной, а из существующего одно – с причиной, другое – без, или же ничто – с причиной; либо, наоборот, все существующее – с причиной, а из происходящего одно – так, другое – иначе, или же ничто из них – с причиной… Поскольку же все происходит по причинам, ближайшие причины каждого легко установить и к ним свести [его действия]…»
Плотин начинает трактат не с утверждения, а с логического перебора всех возможных вариантов отношения причины и следствия в мире. Он структурирует проблему, как геометр, прежде чем дать решение. Его цель – опровергнуть теории случайности (как у эпикурейцев) и слепой предопределенности (как у стоиков), чтобы утвердить собственную, иерархическую модель причинности.
1. Логический фундамент: Классификация всех возможностей.
Прежде чем говорить о судьбе, нужно рассмотреть все логически возможные отношения между вещами и их причинами. Мир состоит из того, что "существует" (например, вечные идеи, законы, душа) и того, что "происходит" (события, действия, изменения). Для каждого из этих аспектов можно предположить четыре варианта:
1. Все имеет причину.
2. Ничто не имеет причины (полный хаос).
3. Существующее имеет причину, а события – нет (мир стабилен, но события случайны).
4. События имеют причину, а существующее – нет (все события предопределены, но основы мира беспричинны).
Плотин методом исключения приходит к выводу, что единственно разумная позиция – это признание тотальной причинности. Беспричинность – абсурд.
Комментарий:
Г. В. Малеванский (дореволюционный русский переводчик): «Плотин… желая опровергнуть учение эпикурейцев о случайном отклонении атомов (κλίσις), а вместе и всех вообще, допускающих беспричинность чего бы то ни было в мире, предпосылает своему исследованию диалектическое разделение всех возможных случаев отношения между причиной и следствием… дабы показать, что из всех возможных гипотез только одна заслуживает внимания – та, по которой все имеет свою причину» [Малеванский Г. В. Философия Плотина. Т.1. Санкт-Петербург, 1914. С. 325].
А. Ф. Лосев (советский исследователь): Этот логический перебор – не схоластика, а «метод исчерпывающей дихотомии», характерный для платоников. Он служит для очищения ума читателя от ложных предпосылок, чтобы подготовить его к восприятию истинной, умопостигаемой причинности, отличной от физической [Лосев А. Ф. История античной эстетики. Т. VI. М., 1980. С. 592-593].
2. Два уровня причинности: Вечное и происходящее.
Но причинность бывает разной.
Для вечного (Благо, Ум, Душа): Это «первые причины», они самодостаточны и не нуждаются ни в чем внешнем для своего существования. Их бытие тождественно их деятельности. Ум существует как мыслящая деятельность, он не «решает» мыслить – он и есть само мышление.
Для происходящего (мир изменчивых вещей и событий): Здесь тоже нет беспричинности. Бессмысленно говорить о «случайном отклонении» атома (как у Эпикура) или о внезапном движении тела без предпосылки. Даже «безумный порыв» души всегда имеет причину – perhaps неосознанное желание, внешний стимул или внутреннее состояние. Если бы душа действовала truly беспричинно, это значило бы, что она не владеет собой, а одержима слепым импульсом.
Комментарий:
Пьер Адо (французский исследователь): «Плотин проводит фундаментальное различие между причиной-сущностью (αἰτία) и причиной-предшествующим обстоятельством (αἴτιον). Вечные сущности – это причины-основания, в то время как в чувственном мире мы имеем дело с цепью причин-событий… Критика "безумного порыва" души направлена против стоиков, которые, утверждая детерминизм, все же пытались найти место для свободы в виде "согласия" души на действие» [Hadot P. Plotin. Traité 3 (III, 1). Paris, 1994. P. 32].
Томас Тейлор (английский переводчик XVIII-XIX вв.): «The first principles are above fate, because they are above the chain of necessary connexion… The activity of intellect is not caused, but is essential to its being» [Taylor T. Select Works of Plotinus. London, 1817. P. 204]. (Первые начала выше судьбы, ибо они выше цепи необходимых связей… Деятельность Ума не причинена, но существенна для его бытия).
3. Примеры из повседневности: Цепь объяснимых причин.
Чтобы показать, как всеобщая причинность работает на практике, Плотин приводит простые примеры из жизни. Мы всегда можем проследить цепь причин для любого действия:
Идти на рынок меня побуждает не слепая судьба, а конкретная причина: мысль о встрече, необходимость что-то купить или получить деньги.
Выздоровление происходит не случайно, а благодаря искусству врача, действию лекарств и силе природы тела.
Обогащение – результат найденного клада (причина – удачное стечение обстоятельств), подарка (причина – щедрость дарителя) или собственного труда.
Рождение ребенка имеет причиной отца, мать, их физиологию, питание и т.д.
За каждым событием стоит конкретная, обнаружимая причина или их совокупность.
Комментарий:
А. В. Цыб (российский переводчик): «Эти примеры… являются полемическим ответом стоикам, которые сводили все причины к единой цепи судьбы (εἱμαρμένη). Плотин же показывает, что помимо судьбы существуют и другие виды причин: целевые (иду на рынок "ради" чего-то), природные (выздоровление), случайные (клад) и т.д. Он не отрицает судьбу, но помещает ее в более широкий контекст универсальной причинности» [Плотин. Сочинения (Плотин в русских переводах). СПб., 1995. С. 421, комм.].
Пол Генри и Ханс-Рудольф Швицер (редакторы критического издания Эннеад): «Примеры Плотина иллюстрируют его теорию "со-причинности" (συναίτια). Ни одно событие не вызывается одной-единственной причиной, но всегда является результатом сложного взаимодействия множества факторов на разных уровнях бытия: личного выбора, внешних обстоятельств, природных законов и т.д.» [Henry P., Schwyzer H.-R. Plotini Opera. Tomus I. Oxford, 1964. P. 279 (прим.)].
Критика материализма и стоического фатализма: Почему нужно искать высшие причины.
Плотин проводит критический разбор основных учений о причинности:
1. Материализм слишком примитивен и не объясняет духовные явления.
2. Стоицизм тотален, но ошибочно распространяет необходимость на внутренний мир человека, лишая его свободы.
3. Астрология верно фиксирует связи в космосе, но ошибается, принимая знаки за причины.
Его цель – показать, что все эти системы, описывая часть истины, не видят главного: иерархии причин. Истинная причина наших решений и индивидуальности лежит не в атомах, не в безличной Судьбе и не в звездах, а выше – в сфере Ума и собственной деятельности души. Цепь физических причин существует, но она не является первичной.
Текст Плотина (Эннеады III.1, продолжение):
«Остановиться на этом и не пожелать подняться выше – пожалуй, удел ленивого и невнимательного… Различия в нравах, характерах и судьбах требуют восходить дальше… одни, положив в начало телесные [сущности]… объясняют все… Так они вводят эту необходимость… Другие, дойдя до начала всего, от него выводят все… Они называют это судьбой… Иные же, [указывая на] движение всего… подтверждают это предсказаниями… если кто-то говорит о взаимном переплетении причин… окажется прав.»
Плотин утверждает, что останавливаться на ближайших, материальных причинах – признак интеллектуальной лени. Чтобы понять истинную природу судьбы и причинности, необходимо подняться выше и критически оценить существующие философские системы, объясняющие мир.
1. Недостаточность материальных причин: Вопрос о различиях.
Находить причины вроде «он пошел на рынок, чтобы получить долг» – это только первый шаг. Но почему при одних и тех же внешних обстоятельствах (например, одинаковой бедности или одном положении звезд) люди поступают по-разному? Один ворует, другой нет; один заболевает, другой остается здоров. Эти различия в характерах, поступках и судьбах указывают, что одних лишь внешних или материальных причин недостаточно. Нужно искать причину самих этих различий.
Комментарий:
А. Ф. Лосев: «Плотин… указывает на факт индивидуального различия судеб при, казалось бы, тождественных внешних обстоятельствах. Этот факт необъясним ни материализмом, ни стоическим фатализмом, и он-то и заставляет Плотина искать причину судьбы в сверхчувственных областях» [Лосев А. Ф. История античной эстетики. Т. VI. М., 1980. С. 595].
Пьер Адо: Этот аргумент направлен против редукционизма. Сведение всего к материальным причинам игнорирует главное – внутренний мир, нравственный выбор и индивидуальность, которые и являются определяющими факторами человеческой жизни [Hadot P. Plotin. Traité 3 (III, 1). Paris, 1994. P. 45].
2. Критика материализма (Эпикурейцы, Демокрит).
Плотин рассматривает первую группу учений – материалистов (атомистов). Они возводят всё к телесным началам – атомам. Столкновения, сплетения и движения этих крошечных тел якобы определяют абсолютно всё: не только физические явления, но и наши мысли, желания и душевные настроения. Таким образом, они вводят слепую механическую необходимость, где нет места свободе или осмысленному выбору. Всё предопределено траекторией атомов.
Комментарий:
Г. В. Малеванский: «Учение атомистов, по которому все в мире, включая и духовные явления, происходит от механического движения, столкновения и сцепления атомов, Плотин признает явно несостоятельным, ибо оно не в состоянии объяснить ни целесообразности в мире, ни разумной деятельности человека» [Малеванский Г. В. Философия Плотина. Т.1. Санкт-Петербург, 1914. С. 327].
Томас Тейлор: «The doctrine of atoms is here justly censured by Plotinus, as introducing a most absurd necessity, and making the most excellent things to depend on the most insignificant» [Taylor T. Select Works of Plotinus. London, 1817. P. 206]. (Учение об атомах справедливо порицается Плотином как вводящее самую нелепую необходимость и заставляющее превосходнейшие вещи зависеть от самых ничтожных).
3. Критика стоического фатализма.
Вторая, более сложная группа – это стоики. Они тоже верят в единое начало (божественный Логос-Огонь), из которого с необходимостью вытекает всё сущее. Они называют это всеобъемлющей причинной цепью Судьбой (Εἱμαρμένη – Хеймармене). Однако Плотин указывает на главную проблему их учения: для стоиков даже наши мысли и решения – просто продукты движения этой безличной Судьбы. Человек подобен пассивной частице в живом организме, которая движется не сама по себе, а лишь по воле целого. Это, по сути, тоже полное отрицание свободы воли, просто на более высоком, духовном уровне.
Комментарий:
А. В. Цыб: «Полемика со стоиками является центральной в трактате. Плотин признает силу судьбы в материальном мире, но не согласен с тем, что она простирается на высшую часть души… Стоики, по его мнению, смешивают разные уровни причинности, сводя все к единому механизму» [Плотин. Сочинения (Плотин в русских переводах). СПб., 1995. С. 422, комм.].
Пол Генри и Х.-Р. Швицер: «Плотин проводит тонкое различие: стоики правы, описывая работу судьбы в космосе как взаимное переплетение причин (εἰρμὸς αἰτίων – эйрмос айтион). Где они ошибаются, так это в отождествлении этой цепи с высшим Принципом и в распространении ее детерминирующей силы на весь умственный мир» [Henry P., Schwyzer H.-R. Plotini Opera. Tomus I. Oxford, 1964. P. 281 (прим.)].
4. Критика астрологического детерминизма.
Третья группа – астрологи. Они видят причину всего в движении небесных тел, в конфигурациях звезд и планет, и подтверждают это кажущейся точностью предсказаний. Плотин не отрицает влияния звезд (как части материального космоса), но он категорически против того, чтобы считать их первопричиной и источником наших решений.
Комментарий:
Пьер Адо: «Для Плотина звезды – не причины, а знаки (σημεῖα – сэмейа). Они указывают на события в подлунном мире в силу симпатической связи всего космоса, но не определяют их с абсолютной необходимостью. Их влияние адресуется прежде всего телу и низшей, неразумной душе, но не уму» [Hadot P. Plotin. Traité 3 (III, 1). Paris, 1994. P. 50].
5. Признание рационального зерна.
Плотин – диалектик. Он признает, что в учении о взаимосвязи и переплетении причин (стоический «эйрмос айтион») есть доля истины. Действительно, в материальном мире события вытекают одно из другого, образуя нисходящую цепь, где последующее подчинено предыдущему. Тот, кто описывает судьбу таким образом, «окажется прав» – но лишь отчасти, в пределах своего поля зрения. Его ошибка в том, что он не видит, откуда сама эта цепь берет свое начало и что находится над ней.
Комментарий:
С. В. Месяц (российский исследователь): «Плотин не отвергает стоическое понятие судьбы полностью, но ограничивает сферу его применения… Судьба у него управляет лишь внешней стороной жизни человека, тем, что происходит "с ним", но не тем, что исходит "от него" как от разумного и самодеятельного существа» [Месяц С.В. Концепция судьбы у Плотина и поздних стоиков // ΣΧΟΛΗ. 2008. №2. С. 257].
Опровержение материализма: Почему атомы не объясняют разум, душу и свободу.
Плотин наносит сокрушительный удар по материализму, используя несколько неотразимых аргументов:
1. Метафизический: Низшее (материя) не может быть причиной высшего (разум, душа).
2. Утверждение о том, что атомарный хаос делает предсказания невозможными, противоречит наблюдаемой реальности.
3. От сознания: Содержание мыслей, идеалы и интеллектуальные склонности несводимы к механическим воздействиям.
4. От свободы: Материализм аннигилирует человеческую личность, превращая ее в марионетку слепых сил.
Душа и ее деятельность автономны по отношению к миру тел и требуют для своего объяснения иного, высшего уровня причинности.
Текст Плотина (Эннеады III.1, продолжение):
«Поручить все телам… порождать порядок, разум и ведущую душу – нелепо и невозможно… Допустим сначала, что атомы существуют… Но раз нет никакого порядка, то и происходящее – это просто то, что получилось… Следовательно, не может быть никаких предсказаний… Каким ударом… можно объяснить те или иные рассуждения, стремления?… Вообще, наше собственное действие и то, что мы – живые существа, исчезнет…»
В этом разделе Плотин переходит от общей классификации к детальному и уничтожающему критическому разбору материалистической доктрины. Его главный тезис: материя, будь то атомы или элементы, принципиально неспособна породить то, что выше ее по природе – порядок, разум, душу и свободу.
1. Невозможность выведения высшего из низшего.
Доверять слепым и бесформенным телам (атомам) или даже более сложным элементам (огню, воде и т.д.) создание вселенского порядка, разума и руководящей души – верх абсурда. Это невозможно по определению. Беспорядочное движение не может породить порядок, бессмысленная материя – смысл, неразумное – разум. Это фундаментальный закон бытия: причина должна быть равной или превосходить по своему достоинству следствие.
Комментарий:
А. Ф. Лосев: «Это основоположение всего платонизма… из не-сущего не может возникнуть сущее, из не-жизни – жизнь, из не-ума – ум… Материя есть принцип бесформенности, а потому она не может быть причиной формы, принцип бесконечности – не может быть причиной предела, принцип тьмы – не может быть причиной света» [Лосев А. Ф. История античной эстетики. Т. VI. М., 1980. С. 597].
Томас Тейлор: «It is absurd to suppose that body, which is itself inanimate and irrational, should be the cause of life and intelligence» [Taylor T. Select Works of Plotinus. London, 1817. P. 207]. (Абсурдно предполагать, что тело, само по себе неодушевленное и неразумное, может быть причиной жизни и разума).
2. Аргумент от беспорядка: Крах предсказаний.
Допустим на минуту, что атомы существуют и движутся хаотично. Тогда всё в мире – просто случайный результат их столкновений. Но в таком мире не могло бы существовать ни искусство предсказания (мантика), ни божественное вдохновение (прорицание). И то, и другое основано на предпосылке, что будущее определено и связано с настоящим строгими закономерностями. В абсолютно хаотичном мире будущее непредсказуемо по определению. Таким образом, сам факт существования предсказаний, в которые верили даже многие материалисты, опровергает их же теорию.
Комментарий:
Пьер Адо: «Этот аргумент обращен против эпикурейцев, которые, отрицая провидение и детерминизм, тем не менее, пытались сохранить некоторые формы религии и гадания. Плотин показывает здесь внутреннее противоречие их позиции: если мир случаен, то любое гадание бессмысленно» [Hadot P. Plotin. Traité 3 (III, 1). Paris, 1994. P. 55].
Г. В. Малеванский: «Существование предсказаний будущего, поскольку оно предполагает строгую закономерность в смене явлений, служит для Плотина одним из доказательств против учения о случайном возникновении мира» [Малеванский Г. В. Философия Плотина. Т.1. Санкт-Петербург, 1914. С. 328].
3. Аргумент от ментальных явлений: Несводимость мысли к удару.
Это ключевой и самый сильный аргумент Плотина. Даже если допустить, что атомы механически определяют телесные состояния (например, боль от удара), как они могут объяснить внутренний мир души?
Мысли и рассуждения: Какая конфигурация атомов заставляет меня размышлять о теореме Пифагора или о смысле справедливости?
Желания и стремления: Какой удар атома рождает во мне желание помочь другу или стремление к знанию?
Сопротивление страстям: При каком движении атомов душа принимает решение противостоять телесному искушению? Это решение явно направлено "против" физического импульса, а не вызвано им.
Интеллектуальные склонности: Почему одни люди становятся геометрами, другие – астрономами, а третьи – мудрецами? Объяснять это случайным сцеплением атомов смехотворно.
Комментарий:
А. В. Цыб: «Плотин проводит четкую границу между физической причинностью (удар, страдание тела) и ментальной причинностью (сознательное действие, мысль, выбор). Второе невыводимо из первого и требует признания самостоятельного, нематериального начала – души» [Плотин. Сочинения (Плотин в русских переводах). СПб., 1995. С. 423, комм.].
Пол Генри и Х.-Р. Швицер: «Этот пассаж – классическое выражение аргумента от сознания против редуктивного материализма. Плотин указывает на качественный разрыв между миром физических взаимодействий и миром смысла, интенциональности и саморефлексии» [Henry P., Schwyzer H.-R. Plotini Opera. Tomus I. Oxford, 1964. P. 282 (прим.)].
4. Аргумент от ответственности и самости: Исчезновение «Я».
Если всё определяется движением атомов, то исчезает сама идея личной ответственности и само наше «Я». Мы перестаем быть действующими субъектами и превращаемся в пассивные объекты, которых «несут туда, куда тела толкают нас, словно бездушные предметы». Наша жизнь, наши поступки и наши мысли оказываются не "нашими", а лишь результатом внешнего механического толчка. Это противоречит фундаментальному переживанию собственной активности и свободы.
Комментарий:
С. В. Месяц: «Плотин защищает не просто свободу воли, а само существование "субъекта" действия. Материализм, по его мнению, уничтожает agency – способность быть источником действия, стирая грань между человеком и камнем, падающим под действием силы тяжести» [Месяц С.В. Концепция судьбы у Плотина и поздних стоиков // ΣΧΟΛΗ. 2008. №2. С. 259].
5. Расширение критики на любую телесную причину.
Плотин подчеркивает, что его критика относится не только к атомизму, но к "любой" теории, выводящей всё из телесных начал. Даже если взять более утонченные «элементы» (как у Аристотеля или стоиков), которые могут нагревать или охлаждать, они всё равно объясняют лишь физические процессы. Действия души – мышление, выбор, любовь, ненависть – должны исходить из принципиально иного, нематериального источника.
Критика монистического детерминизма: Сохраняется ли «Я» в руках всеобщей Души?
Плотин демонстрирует, что даже самая духовная версия детерминизма (стоическая) оказывается неприемлемой, так как она:
1. Логически противоречива: Абсолютный монизм уничтожает саму идею причинной связи между отдельными вещами.
2. Этически катастрофична: Она аннигилирует человеческую личность, лишая смысла понятия выбора, заслуги и вины. Человек превращается в бессознательный винтик в механизме мира.
Необходимо найти такое объяснение судьбы и причинности, которое, признавая единство и порядок космоса, одновременно сохраняло бы пространство для свободы и ответственности индивидуальной души. Это приведет Плотина к его собственной иерархической модели.
Текст Плотина (Эннеады III.1, продолжение):
«Но не проникает ли повсюду единая душа, все устраивая… И раз причины нисходят оттуда, то необходимость их последовательной связи и переплетения и есть судьба… Но, во-первых, сама эта строгость необходимости и подобной судьбы упраздняет судьбу… Так что и мы – не мы, и ничто не наше дело…»
Здесь Плотин переходит к критике более изощренной формы детерминизма – стоической (и близкой к ней) модели, где миром управляет не слепая материя, но единая разумная Душа (Мировая Душа, Логос). Он признает силу этой концепции, но показывает, что даже она, будучи доведенной до логического конца, приводит к неприемлемым последствиям, уничтожающим индивидуальность и моральную ответственность.
1. Модель противника: Мир как единый организм.
Стоики и подобные им мыслители представляют мир как единое живое существо, все части которого пронизаны и управляются единой Душой. Все события – это звенья в нисходящей от этой Души цепи причин, их неразрывное переплетение и есть Судьба (Хеймармене). Это подобно растению: от корня (единого начала) с необходимостью произрастают стебель, листья, цветы; их рост, взаимодействие и увядание – это и есть «судьба» данного растения.
Комментарий:
Пьер Адо: «Плотин точно описывает стоическую аналогию, которая действительно сравнивает космос с гигантским растением или животным, чьи части координируются единым, имманентным логосом… Судьба понимается как разумная и благая необходимость, проистекающая из божественного провидения» [Hadot P. Plotin. Traité 3 (III, 1). Paris, 1994. P. 60].
А. В. Цыб: «Это сильная и соблазнительная модель, объясняющая порядок и целесообразность в мире. Плотин не отрицает её полностью, но показывает, что её радикальное применение к человеку ведет к абсурду» [Плотин. Сочинения (Плотин в русских переводах). СПб., 1995. С. 424, комм.].
2. Контраргумент 1: Упразднение самой причинности.
Плотин применяет излюбленный диалектический прием: доводит идею противника до абсурда. Если "всё" без остатка есть действие единой Души, то сама идея причинности и судьбы рушится. Ведь причинность предполагает отношение между "разными" сущностями: одно (причина) воздействует на другое (следствие). Но если действует только одно-единственное начало, а всё остальное – лишь его пассивное проявление, то исчезает сама множественность, необходимая для причинной связи. Остается лишь монолитное Единое, а не цепь причин. Судьба упраздняет саму себя, превращаясь в чистый акт единственной силы.
Комментарий:
А. Ф. Лосев: «Плотин здесь блестяще вскрывает логическое противоречие стоического монизма… Если всё есть только проявление единого Логоса, то исчезает сама возможность говорить о "причинах", ибо причина может быть только там, где есть нечто отличное от неё, ею определяемое» [Лосев А. Ф. История античной эстетики. Т. VI. М., 1980. С. 600].
Томас Тейлор: «If all is one, then there is no proper causation, but only an emanation or manifestation of the One. The concept of fate, which implies a chain of distinct causes and effects, becomes meaningless» [Taylor T. Select Works of Plotinus. London, 1817. P. 209]. (Если всё едино, то нет и собственной причинности, но лишь эманация или проявление Единого. Понятие судьбы, подразумевающее цепь различных причин и следствий, становится бессмысленным).
3. Контраргумент 2: Исчезновение личности и нравственности.
Это главный практический и этический аргумент Плотина. Если моя рука поднимается не потому, что "я" так решил, а потому, что единая Мировая Душа движет ею как своим орудием, то где же "я"? В такой модели:
«Мы – не мы»: Исчезает индивидуальное «Я». Наша личность – иллюзия.
«Ничто не наше дело»: Мы не являемся авторами своих поступков. Мы марионетки.
«Мы не сами размышляем»: Наши мысли – не наши, это «размышления другого» (Мировой Души).
Мы не действуем, а лишь приводимся в действие, как нога, которая бьет не сама по себе, а по команде мозга.
Это полностью уничтожает основу этики – личную ответственность. Невозможно хвалить или винить человека, если все его «дурные деяния» на самом деле совершены целым. Это делает бессмысленными понятия заслуги, вины, справедливости и сам смысл человеческой жизни.
Комментарий:
С. В. Месяц: «Плотин отстаивает автономию индивидуальной души. Его главный пафос – в спасении человеческой личности от растворения в безличном космическом процессе, будь то механический (атомы) или органицистский (Мировая Душа)» [Месяц С.В. Концепция судьбы у Плотина и поздних стоиков // ΣΧΟΛΗ. 2008. №2. С. 261].
Пол Генри и Х.-Р. Швицер: «Этот пассаж – краеугольный камень этики Плотина. Свобода и ответственность коренятся не в противодействии судьбе, а в онтологическом статусе нашей высшей души, которая принадлежит к умопостигаемому миру и потому трансцендентна по отношению к каузальным цепям физического космоса» [Henry P., Schwyzer H.-R. Plotini Opera. Tomus I. Oxford, 1964. P. 284 (прим.)].
Опровержение астрологического детерминизма: Звезды – знаки, а не творцы судьбы.
Плотин не отрицает астрологию полностью, но низводит её с роли универсальной причинной силы до скромной роли системы знаков. Его выводы:
1. Звезды – знамения, а не причины. Они указывают на события в силу «симпатической» связи всего в космосе, но не творят их.
2. Их влияние ограничено телесным и низшим душевным. На разум, нравственный выбор и личность они повлиять не могут.
3. Логика астрологического детерминизма внутренне противоречива. Он не может объяснить наследственность, взаимные предсказания и одновременное рождение разных существ.
Астрология, как и предыдущие теории, не может быть окончательным объяснением судьбы. Истинная причина человеческой индивидуальности и свободы лежит beyond звёзд.
Текст Плотина (Эннеады III.1, продолжение):
«Но, возможно, не так все происходит, а движение, управляющее всем, и движение звезд так располагают все вещи… Именно на этом основании гадатели предсказывают… Следовательно, движение всего управляет всем… На это прежде всего следует ответить, что и этот [взгляд] приписывает наши [действия] – решения, страсти, пороки и стремления – иному…»
Плотин переходит к разбору, пожалуй, самой популярной в его время теории судьбы – астрологического детерминизма. Он не отрицает влияния звезд вообще, но яростно выступает против идеи, что они являются "творящей причиной" всего, включая внутренний мир человека.
1. Модель противника: Звезды как управляющая сила.
Сторонники астрологии утверждают, что движение небесных тел и их конфигурации (аспекты) определяют всё на Земле. Положения, восходы и заходы звезд задают «расписание» всех событий. Это подтверждается практикой предсказаний: гадатели, глядя на небо, accurately предсказывают судьбы людей и мировые события. Влиянию звезд подвержено всё: рост растений, характер местности (из-за разного положения относительно Солнца), а также виды, размеры, цвет кожи, характеры, желания и занятия людей. Из этого делается вывод: «движение всего [неба] управляет всем».
Комментарий:
Пьер Адо: «Плотин описывает общепринятую в античности "науку" о небесных влияниях (которой он и сам отчасти верил). Его цель – не отрицать астрологию как таковую, но ограничить сферу её компетенции и опровергнуть её детерминистические претензии» [Hadot P. Plotin. Traité 3 (III, 1). Paris, 1994. P. 65].
А. В. Цыб: «Астрология была мощным интеллектуальным вызовом. Её сила – в кажущейся точности предсказаний и наблюдаемом влиянии небесных циклов (смена сезонов, приливы). Плотин атакует её с самой сильной стороны – с её успехов» [Плотин. Сочинения (Плотин в русских переводах). СПб., 1995. С. 425, комм.].
2. Этическое возражение: Уничтожение человеческого.
Плотин сразу указывает на главный порок этой теории: как и предыдущие, она лишает человека его сущности. Если наши решения, страсти, пороки и стремления предопределены звездами, то мы ничем не отличаемся от камней, несомых течением реки. Мы не имеем «собственного дела», то есть личной initiative и ответственности. Необходимо провести разграничение: что в нас от нас самих, а что привносится извне. Нельзя всё списывать на светила.
Комментарий:
С. В. Месяц: «Это сквозной мотив всей критики Плотина: любая форма радикального детерминизма, будь то механистическая или астрологическая, делает невозможной этику. Нравственность предполагает, что у поступка есть автор – сам человек» [Месяц С.В. Концепция судьбы у Плотина и поздних стоиков // ΣΧΟΛΗ. 2008. №2. С. 262].
3. Уточнение сфер влияния: Что действительно от звезд, а что – нет.
Плотин готов признать ограниченное влияние небесных тел. Они могут влиять на телесное смешение (температуру, влажность тела), подобно тому как влияют климат или наследственность от родителей (объясняя внешнее сходство и некоторые бессознательные душевные движения). Однако нравы, мысли, способность противостоять телесным вожделениям —这一切 исходит из иного, высшего начала (души и ума), а не от звезд.
Комментарий:
А. Ф. Лосев: «Плотин проводит четкую границу: звезды влияют на "судьбу" (то, что происходит с телом и низшей душой), но не на "жизненный выбор" человека, который определяется его высшей, разумной душой» [Лосев А. Ф. История античной эстетики. Т. VI. М., 1980. С. 602].
4. Логические аргументы: Несостоятельность астрологии как творящей причины.
Плотин переходит к тонкой логической критике, показывающей внутреннюю противоречивость астрологического детерминизма:
Аргумент от предсказания: Если гадатель, видя полет птиц (ауспиции) или внутренности животного (гаруспиции), предсказывает событие, это не значит, что птицы или печень "создали" это событие. Они – "знаки", а не причины. Точно так же звезды могут быть знамениями, не будучи творцами.
Аргумент от предшествования (родители): Астрологи предсказывают знатность человека по положению звезд при его рождении. Но знатность "уже предсуществует" в его родителях, которые родились при совершенно иной звёздной конфигурации. Как звёзды при рождении сына могут быть причиной того, что уже существовало до них?
Аргумент от взаимных предсказаний: Астрологи предсказывают судьбу родителей по рождению детей, и наоборот; судьбу мужа по жене, и наоборот. Это доказывает, что звёздная конфигурация при рождении "одного" человека является лишь "знаком" событий в жизни "другого", а не их причиной. Причина должна быть общей для обоих, и она не может сводиться к моменту рождения одного из них.
Аргумент от наследственности: Сходство детей с родителями доказывает, что красота и безобразие идут «из дома» (от природы, наследственности), а не от звёзд.
Аргумент от одновременных рождений: В один и тот же момент под одной и той же конфигурацией звезд рождаются самые разные существа: люди, животные, насекомые. Если бы звёзды были творящей причиной, у всех них была бы идентичная судьба, характер и внешность, чего очевидно не происходит.
Комментарий:
Пол Генри и Х.-Р. Швицер: «Эти логические аргументы devastating для строгого астрологического детерминизма. Плотин показывает, что астрология работает лишь как семиотическая система (искусство толкования знаков), но полностью проваливается как каузальная теория» [Henry P., Schwyzer H.-R. Plotini Opera. Tomus I. Oxford, 1964. P. 286 (прим.)].
Томас Тейлор: «The stars are but letters in the book of fate, which the wise soul of the universe has written; but they are not the writer himself» [Taylor T. Select Works of Plotinus. London, 1817. P. 211]. (Звезды – лишь буквы в книге судьбы, написанной мудрой душой универсума; но они – не сам писатель).
О судьбе, звёздах и природе зла. Разбор аргументов Плотина (Enn. III, 1, 5-6)
Исходный текст для анализа: Плотин. Эннеады III.1.5-6 (традиционная нумерация по изданию Генри-Швицера).
Плотин ставит под сомнение распространённые в его время (особенно в астрологии) представления о том, что звёзды-боги напрямую и сознательно определяют всю человеческую жизнь, включая наши профессии, пороки и добродетели.
1. О природе и внешних влияниях: Да, многому в нашей жизни есть объяснение. Живое существо действует согласно своей природе: лошадь ведёт себя как лошадь, а человек – как человек. Кроме того, движение Вселенной (космоса) и окружающие нас тела действительно влияют на нас чисто физически – они могут согревать, охлаждать, влиять на смешение элементов в нашем теле, то есть на наше физическое состояние.
2. Главное возражение: нравы и занятия: Но как тогда объяснить то, что, казалось бы, не зависит от телесных смешений? Как звёзды могут сделать человека грамматиком, геометром, азартным игроком или изобретателем? И самое главное – как боги (звёзды) могут "даровать" человеку "порочность"? Это абсурдно и недостойно божественной природы.
3. Критика антропоморфизма: Астрологи говорят, будто звёзды становятся «злыми», когда заходят за горизонт или находятся в «плохом» положении, и от этого насылают на нас зло. Но это смешно! Боги всегда пребывают на небесной сфере в блаженстве, их порядок неизменен. Они не могут, как капризные люди, портиться от того, что видят друг друга в ином положении. Они не могут быть причиной зла.
4. Альтернативное объяснение: звёзды как знаки: Итак, звёзды не "создают" события и не "командуют" нашими душами. Их движение служит высшей цели – сохранению гармонии всего Космоса. Но попутно их расположение является "знаком" грядущих событий для того, кто умеет читать, подобно тому как грамотный человек читает смысл в сочетаниях букв. Это чтение по аналогии: например, высокий полёт орла может быть истолкован как знак грядущего величия, но орёл не "вызывает" это величие, он лишь "указывает" на него.
К пункту 1 (О природе и влияниях):
Г. В. Малеванский (отечественный комментатор, 19 век): «Плотин не отвергает вовсе влияния внешнего мира на человека, но ограничивает это влияние одной материальной, телесной стороной его существа. Стихии мира могут действовать на стихии тела, но не на разумную душу, которая выше всяких телесных смешений» (Малеванский Г.В. "Учение Плотина о душе". – Киев, 1904. – С. 45).
А. Ф. Лосев (отечественный исследователь): «Телесные воздействия, по Плотину, реальны, но они относятся к области "пассивной материи", а не к активному, формирующему принципу – душе. Душа использует тело, но не сводится к его состояниям» (Лосев А.Ф. "История античной эстетики. Т. VI". – М., 1980. – С. 312).
К пункту 2 (О нравах и занятиях):
П. Адо (зарубежный исследователь): Этот вопрос – ключевой для всего неоплатонизма. Если душа бестелесна и божественна по своей природе, то как чисто телесные небесные тела могут определять её высшие функции – интеллектуальные и моральные? Плотин защищает автономию и ответственность человеческой души. Выбор порока или добродетели – это выбор самой души, а не результат внешнего принуждения (Hadot P. "Plotinus or the Simplicity of Vision". – Chicago, 1993. – P. 67).
Т. Г. Сидаш (отечественный переводчик): «Плотин проводит чёткую границу между судьбой как общим законом материального космоса (heimarmene), которому подвластно низшее, телесное в человеке, и волей высшей души, которая способна этот закон превзойти через обращение к Уму и Единому» (Сидаш Т.Г. Комментарии к III Эннеаде // Плотин. "Сочинения". – СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2020. – С. 550).
К пункту 3 (Критика антропоморфизма):
Э. Брехье (зарубежный переводчик и комментатор): Плотин здесь полемизирует с популярной астрологической практикой, которая приписывала планетам человеческие страсти и злобу («злые» Сатурн, Марс). Для него божественные небесные тела неизменны и благи, так как пребывают в непосредственной близости к Уму. Их движение – это воплощение разума и гармонии, а не хаоса и злобы (Br éhier É. "Notice" // Plotin. "Ennéades", Tome III. – Paris: Les Belles Lettres, 2003. – P. 10-11).
С. В. Месяц (отечественный исследователь): «Обвинение звёзд в причинении зла для Плотина кощунственно. Зло происходит не от богов, а от материи, от слабости и пассивности самой души, которая не сумела противостоять низшим влияниям. Звёзды же, будучи частью божественного Ума, не могут быть источником не-бытия (зла)» (Месяц С.В. Комментарий к трактату III.1 // Плотин. "Избранные трактаты". – М.: ГЛК, 2021. – С. 289).
К пункту 4 (Звёзды как знаки):
А. Х. Армстронг (зарубежный переводчик и комментатор): Это одна из самых влиятельных идей Плотина. Он не отрицает астрологию полностью, но радикально переосмысляет её. Звёзды – не причинные агенты, а parts of a universal sympatheia (части всеобщей симпатии), чьи движения отражают единый замысел Космоса. Астролог – не колдун, предсказывающий принудительную судьбу, а «грамотей», читающий знаки в великой книге вселенной. Это учение было воспринято и развито последующими неоплатониками, например, Порфирием (Armstrong A. H. "Introduction to III Ennead" // Plotinus. "Enneads", Vol. III. – Loeb Classical Library, 1967. – P. 8).
Ю. А. Шичалин (отечественный исследователь): Сравнение с буквами фундаментально. Буквы сами по себе не несут смысла, смысл рождается в их сочетаниях и в разуме читающего. Так и конфигурация звёзд – это «письмена», смысл которых открывается лишь тому, кто постиг логику и гармонию целого, то есть философу, а не простому гадателю (Шичалин Ю.А. "История античного платонизма". – М., 2000. – С. 234).
О всеобщей связи и иллюзии свободы воли. Разбор аргументов детерминизма (Enn. III, 1, 7)
Исходный текст для анализа: Плотин. Эннеады III.1.7 (традиционная нумерация по изданию Генри-Швицера).
Здесь Плотин излагает взгляд своих оппонентов (вероятно, стоиков или строгих детерминистов), против которого он будет выступать. Это не его конечная позиция, но сильный аргумент, который нужно опровергнуть.
1. Единый принцип и семенные логосы: Всё в мире взаимосвязано и подчинено единому, всеобъемлющему принципу (Логосу). Из этого принципа, как из семени, разворачиваются по predetermined плану («семенным логосам») все события и вещи. Вся причинно-следственная цепь предопределена.
2. Мировая Душа и иллюзия свободы: Даже если считать, что всё исходит от мировой души, это не отменяет детерминизма. Эта Душа может позволять нам чувствовать, что мы действуем по своей воле, но на самом деле это ощущение – иллюзия. Наши «свободные» поступки так же предопределены, как и всё остальное.
3. Абсолютная необходимость (судьба-heimarmene): Существует абсолютная необходимость. Если учесть все причины, действующие в каждый момент, то становится ясно, что каждое событие не может не произойти именно так, а не иначе. Всё уже «заключено в судьбе». Ничто не может помешать этому разворачиванию.
4. Критика «того, что в нашей власти»: При таком взгляде от человеческой свободы ничего не остается. Наши представления и мысли определяются предыдущими причинами. Наши желания и стремления, в свою очередь, автоматически следуют из этих представлений. Мы можем продолжать говорить, что что-то «в нашей власти», но это пустой звук. Наше стремление не добавляет ничего нового к причинной цепи; оно само является её неизбежным продуктом.
5. Человек как автомат: В таком случае человек ничем не отличается от животных, детей или безумцев, которые слепо идут на поводу у своих импульсов. Его «свобода» подобна «стремлению» огня жечь или камня – падать вниз. Это просто следование своей предзаданной природе. Все это интуитивно понимают, но, желая верить в свою исключительность, ищут какие-то другие, особые причины и не хотят признать этот простой и суровый факт.
К пункту 1-2 (Единый принцип и Мировая Душа):
А. Ф. Лосев: «Плотин здесь излагает стоический детерминизм, для которого мировой Логос является и промыслом, и судьбой, и физической необходимостью. "Семенные логосы" – это у стоиков творящие принципы, из которых разворачиваются все вещи. Плотин принимает идею Логоса, но категорически против того, чтобы свести к нему всё, включая высшую деятельность души» (Лосев А.Ф. История античной эстетики. Т. VI. – М., 1980. – С. 315).
П. Адо: «Ключевой момент – "она позволяет нам… действовать по своей воле". Оппоненты Плотина (стоики) действительно пытались совместить детерминизм с чувством свободы, утверждая, что, хотя наши действия предопределены, мы совершаем их соглашаясь с судьбой. Но для Плотина этого "согласия", если оно вынуждено, недостаточно для подлинной свободы» (Hadot P. Plotinus or the Simplicity of Vision. – Chicago, 1993. – P. 70).
К пункту 3 (Абсолютная необходимость):
Т. Г. Сидаш: «Плотин прекрасно излагает силу стоической аргументации: если принять, что универсум един и в нём господствует причинность, то любое событие кажется необходимым. Стоики называли это "судьбой" (heimarmene). Задача Плотина – показать, что есть сфера бытия (Ум и выше), которая свободна от этой цепи причин и потому может быть источником подлинной, а не иллюзорной свободы для души» (Сидаш Т.Г. Комментарии к III Эннеаде // Плотин. Сочинения. – СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2020. – С. 552).
Э. Брехье: «Это классическая формулировка лапласовского детерминизма до Лапласа: гипотетический ум, знающий все причины, увидел бы всё будущее в прошлом. Плотин не отрицает причинности в материальном мире, но отрицает, что она является высшим и единственным законом бытия» (Br éhier É. Notice // Plotin. Ennéades, Tome III. – Paris: Les Belles Lettres, 2003. – P. 12).
К пункту 4-5 (Критика свободы воли и сравнение с автоматом):
С. В. Месяц: «Сравнение человеческого стремления с движением огня – это прямой парафраз стоического аргумента (Хрисипп). Для стоика мудрец свободен, когда его воля согласна с судьбой, и он так же "естественно" действует добродетельно, как огонь жжёт. Плотин же считает, что подлинная свобода – это как раз преодоление автоматической природной необходимости, возможность действовать не так, как диктует внешняя причинность, а исходя из внутреннего принципа, данного в Уме» (Месяц С.В. Комментарий к трактату III.1 // Плотин. Избранные трактаты. – М.: ГЛК, 2021. – С. 291).
А. Х. Армстронг: «Плотин признаёт силу этого детерминистического взгляда. Он согласен, что большая часть человеческой жизни действительно протекает так – слепо, по привычке, под влиянием страстей, то есть "как у животных". Но его цель – показать, что у человека есть возможность выйти за пределы этого состояния через философское восхождение и обращение души к её высшему источнику, где и обретается истинная свобода» (Armstrong A. H. Introduction to III Ennead // Plotinus. Enneads, Vol. III. – Loeb Classical Library, 1967. – P. 9).
Важное примечание: Весь этот пассаж – это изложение позиции оппонента, которую Плотин считает слишком узкой и не объясняющей реальный опыт свободы и ответственности. Его собственный ответ последует далее.
Опровержение детерминизма: душа как самосущая причина и источник свободы (Enn. III, 1, 8).
После рассмотрения сильной аргументации детерминистов Плотин предлагает собственное решение, которое, по его мнению, сохраняет всё ценное в их системе (порядок, предсказания), но при этом обосновывает реальную свободу человека.
1. Постановка задачи: Нужно найти такую причину, которая, с одной стороны, не нарушит всеобщий порядок и причинность (не оставит события беспричинными) и сохранит возможность предсказаний, а с другой – не низведёт человека до уровня огня или камня.
2. Введение иного начала – Души: Решение – признать, что помимо цепи физических причин существует иное, высшее начало – Душа. Причём не только Мировая Душа, но и индивидуальная душа каждого человека является самостоятельной, творящей причиной, а не просто следствием предшествующих физических событий. Она не «происходит из семян» материального мира.
3. Свобода вне тела и несвобода в теле: По своей истинной природе, без связи с телом, душа абсолютно свободна и властна над собой, она находится вне причинно-следственных связей материального мира («вне мировых причин»). Однако, вселившись в тело и оказавшись впутанной в круговорот материальной жизни, она утрачивает часть своей власти. Теперь она вынуждена считаться с другими силами – обстоятельствами, телесными потребностями, страстями.
4. Диалектика влияния и власти: Таким образом, жизнь воплощённой души – это постоянное взаимодействие между внешним влиянием и внутренней властью.
Внешнее влияние («Окружающие обстоятельства… ведут ее»): Обстоятельства часто управляют душой, заставляя её совершать какие-то действия.
Внутренняя власть («…в другом сама властвует»): Но в иных случаях душа сама проявляет свою силу, властвует над обстоятельствами и ведёт себя так, как хочет она.
5. Степень свободы зависит от качества души: Ключевой момент – степень свободы зависит от нравственного состояния самой души.
«Худшая душа»: Это душа, которая уступила власти тела, его смешениям и страстям. Она почти полностью порабощена: бедность унижает её, богатство надмевает, власть превращает в тирана. Её действия предопределены внешними условиями, как у описанных ранее детерминистов.
«Лучшая (добродетельная) душа»: Это сильная душа, устойчивая по своей природе. Даже попав в тяжёлые обстоятельства, она не подчиняется им, а, наоборот, сама преобразует их, придавая им смысл и лишая их разрушительной силы. Она позволяет событиям происходить, но не позволяет им причинить нравственное зло ей самой. Её поступки исходят от неё самой, а не от внешних причин.
К пункту 2 (Душа как иное начало):
А.Ф. Лосев: «Здесь Плотин проводит коренное отличие своей философии от стоицизма. Если для стоиков есть только один мир и один тип причинности – физический, то Плотин утверждает иерархию бытия. «Душа принадлежит к высшему уровню реальности, чем тело, и потому её деятельность не может быть полностью объяснена телесными причинами. Она – "иное начало"» (Лосев А. Ф. История античной эстетики. Т. VI. – М., 1980. – С. 317).
Т.Г. Сидаш: «Утверждение, что душа не происходит "из семян" – прямой вызов стоическому гилозоизму. Плотин настаивает на онтологической пропасти между душой (принципом жизни и ума) и материей (принципом бессилия и инерции. Индивидуальная душа для него не менее реальна, чем Мировая, и обладает собственной causal power (причинной силой)» (Сидаш Т.Г. Комментарии к III Эннеаде // Плотин. Сочинения. – СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2020. – С. 554).
К пункту 3-4 (Свобода в воплощении):
П. Адо: «Плотин даёт очень точное описание человеческого состояния: мы находимся посередине (как он говорит, "как бы поставленная среди других"). Мы разрываемся между необходимостью тела и свободой души. Наша свобода – это не данность, а задача. Она реализуется в мере нашего сопротивления внешнему determinism (детерминизму)» (Hadot P. Plotinus or the Simplicity of Vision. – Chicago, 1993. – P. 72).
Ю.А. Шичалин: «Концепция "двойной причинности" у Плотина: на событие могут влиять две независимые линии – цепь внешних, материальных причин и воля души. Итог события зависит от их взаимодействия и силы души. Это и объясняет, почему предсказания возможны (они читают линию материальных причин), но не абсолютно точны (ибо воля души может её скорректировать)» (Шичалин Ю.А. История античного платонизма. – М., 2000. – С. 237).
К пункту 5 (Качество души и добродетель):
С.В. Месяц: «Плотин проводит различие между судьбой (heimarmene), которой подвластно тело и низшая часть души, и уделом (moira), который человек выбирает себе сам своей добродетелью или порочностью. "Худшая душа" выбирает себе худший удел и попадает в полную власть судьбы. "Лучшая душа" своим выбором формирует свой удел и тем самым ограничивает власть над собой внешней судьбы» (Месяц С.В. Комментарий к трактату III.1 // Плотин. Избранные трактаты. – М.: ГЛК, 2021. – С. 293).
А.Х. Армстронг: «Идея о том, что добродетельная душа "изменяет обстоятельства больше, чем изменяется сама" – ключевая для этики Плотина. Это не стоическое безразличие, а активная преобразующая сила. Зло для Плотина – не в самих событиях (бедность, власть), а в дурной реакции души на них. Добродетельная душа может пройти через любое внешнее зло, не запятнав себя им, то есть, по сути, лишив его силы быть для неё злом» (Armstrong A. H. Introduction to III Ennead // Plotinus. Enneads, Vol. III. – Loeb Classical Library, 1967. – P. 10).
Обретение подлинной свободы: различение действий и страданий души (Enn. III, 1, 9).
В этом фрагменте Плотин подводит итог, резюмируя, какие действия души являются по-настоящему свободными («в нашей власти»), а какие – нет. Он не отрицает Necessity (необходимость) полностью, но строго ограничивает её сферу, выделяя область подлинной свободы.
1. Признание сферы необходимости: Прежде всего, нужно признать, что огромный пласт событий действительно происходит по необходимости. Сюда относится всё, что вызвано:
Внешними обстоятельствами: Влияние других тел, социальных условий, событий.
Движением светил: Воздействие космоса (но, как было сказано ранее, не как сознательная воля звёзд, а как часть общей физической причинности).
Если учесть все эти внешние и телесные причины, то событие кажется неизбежным.
2. Действия, которые НЕ являются свободными (добровольными): Плотин выделяет два типа таких действий:
Слепое следование внешнему: Когда душа, будучи пассивно изменена внешними причинами (например, страхом, искушением, физическим насилием), действует под их влиянием. Она словно «слепо следует движению» космоса и обстоятельств. Это не её собственное действие, а реакция.
Действие худшей души: Когда душа и действует «сама по себе», но является «худшей» – то есть ослеплена страстями, невежеством, ложными представлениями. Её стремления «неверные», они ведут не к истинному благу. Такие действия тоже нельзя назвать подлинно свободными.
3. Действия, которые являются свободными («в нашей власти»): Подлинная свобода – это очень специфическое и высокое состояние. Оно наступает, когда:
Душа руководствуется не внешними стимулами и не страстями, а «чистым и бесстрастным разумом» (нусом). Этот разум – её высшая часть, связующая её с божественным Умом.
Именно стремление, исходящее из этого руководства, и только оно, можно назвать «добровольным» и «в нашей власти» (to eph'hemin).
4. Источник подлинного действия: Такое действие – «наше дело» в самом строгом смысле. Его источник:
Не внешний: Оно не пришло извне.
Внутренний, от «чистой души»: Оно рождается из самой сущности души, когда она очищена от наслоений тела и страстей.
От «первого и властного начала»: Оно исходит от высшего,主权ного (властного) начала в нас – ума (нуса), который суверенен и не подвластен мировой причинности.
5. Противопоставление: дело (action) vs. страдание (passion): Плотин проводит жесткую границу. Всё, что совершается под влиянием неведения или насилия страстей, – это уже не наши дела, а наши страдания. Мы не действуем в этот момент, а претерпеваем: нас «увлекают и влекут» внешние или низшие силы. Свободное действие – это всегда действие, а не страдание.
К пункту 1-2 (Сфера необходимости и несвободные действия):
Т.Г. Сидаш: «Плотин проводит тонкий анализ. Он различает источник импульса. Если источник внешний (даже если он вызывает движение в душе) – действие несвободно. Если источник внутренний, но низший (страсть) – действие тоже несвободно, ибо страсть сама есть результат прошлых внешних воздействий или слабости души. Таким образом, он сужает поле свободы до минимума, но зато делает его абсолютным» (Сидаш Т.Г. Комментарии к III Эннеаде // Плотин. Сочинения. – СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2020. – С. 556).
К пункту 3-4 (Условия подлинной свободы):
П. Адо: «Ключевая фраза – "имеет чистый и бесстрастный разум как руководителя". Для Плотина свобода тождественна разумности и добродетели. Быть свободным – значит действовать в соответствии с нашей deepest self (глубочайшим "Я"), которым является ум, а не с нашими поверхностными желаниями или внешними влияниями. Это не "свобода выбора" между добром и злом, а свобода от зла и необходимости через утверждение в добре» (Hadot P. Plotinus or the Simplicity of Vision. – Chicago, 1993. – P. 74).
А.Ф. Лосев: «"Первое и властное начало" – это перевод греческого to kyrion, суверенное, верховное начало. Этим Плотин указывает на иерархию в самом человеке. Свободен только тот, в ком властвует высшее над низшим. В ком властвуют страсти, тот – раб, и его "я" находится не в разуме, а в телесных влечениях» (Лосев А.Ф. История античной эстетики. Т. VI. – М., 1980. – С. 320).
К пункту 5 (Дело vs. страдание):
С.В. Месяц: «Оппозиция "дело" (praxis) / "страдание" (pathos) – фундаментальна. Она восходит к Аристотелю, но Плотин придаёт ей онтологический смысл. Pathos – это всегда следствие внешнего воздействия на пассивную материю. Praxis – активная энергия, исходящая от самого деятеля. Поэтому, совершая действие из ума, душа проявляет свою активную, а не пассивную природу, утверждает себя как causa sui (причину себя)» (Месяц С.В. Комментарий к трактату III.1 // Плотин. Избранные трактаты. – М.: ГЛК, 2021. – С. 295).
Э. Брехье: «Это различение кардинально меняет взгляд на человеческую жизнь. Большая часть того, что мы обычно называем "нашими поступками", с точки зрения Плотина, является лишь "страданиями" – пассивными реакциями. Истинная человеческая деятельность начинается только с философского очищения (катарсиса) и восхождения к уму. Это элитарная, но единственно последовательная концепция свободы в детерминированном космосе» (Br éhier É. Notice // Plotin. Ennéades, Tome III. – Paris: Les Belles Lettres, 2003. – P. 14).
Итог учения о двойной причинности и природе добродетели (Enn. III, 1, 10).
Плотин подводит итог всей своей аргументации, резюмируя свою теорию «двойной причинности» и давая окончательный ответ на вопрос о свободе воли и ответственности.
1. Всеобщая ознаменованность и двоякая причинность: Итог рассуждений таков: всё в мире действительно происходит по причинам и может быть «прочитано» как знак (например, в астрологии). Однако причины – двоякие:
Причины от души: Это внутренние, самопроизвольные действия, исходящие от нашей сущности.
Причины от окружающего: Это внешние воздействия материального мира и телесных обстоятельств.
2. Душа как источник разумного и правильного: Когда души действуют самостоятельно, исходя из себя, они совершают правильные и разумные поступки. Это и есть область их подлинной свободы и ответственности. Во всём остальном, где душа вынуждена подчиняться внешнему, она не столько действует, сколько страдает (претерпевает).
3. Ответственность и судьба: Таким образом, за всё неразумное и дурное в наших поступках ответственны не мы, а «иные причины» – внешние обстоятельства, влияние тела, страсти. Поэтому можно сказать, что такие действия совершаются «по судьбе» (heimarmene), если понимать под судьбой именно эту внешнюю, necessitating (принуждающую) причинность.
4. Лучшее в нас – это и есть мы сами: Самое важное утверждение: всё лучшее исходит от нас самих. Наша истинная природа проявляется именно тогда, когда мы «остаёмся одни» – то есть когда наша душа освобождается от внешних помех и влияний и действует из самой себя.
5. Природа добродетели: Исходя из этого, добродетельный человек совершает прекрасные поступки по собственной воле – его действия целиком исходят из его чистой и разумной природы. Что касается остальных людей («прочих»), то они способны на хорошие поступки лишь в той мере, в какой внешние обстоятельства «дают им передохнуть» – то есть временно перестают на них давить и принуждать к дурному. В эти моменты их собственная, изначально добрая природа получает возможность проявиться. Они не получают разумность извне (она уже есть в них), им лишь временно не мешают ей следовать.
К пункту 1 (Двоякая причинность):
А.Ф. Лосев: «Это итог всего спора с стоиками. Плотин не отрицает причинность вообще, но делит её на два плана: высший (духовный, ноуменальный) и низший (материальный, феноменальный). Астрология, предсказания и "судьба" имеют силу лишь в низшем плане. Высший план – это царство свободы, исходящей из самоопределяющейся личности» (Лосев А.Ф. История античной эстетики. Т. VI. – М., 1980. – С. 322).
Т.Г. Сидаш: «Концепция "двойной причинности" – это остроумное решение, позволяющее снять противоречие между детерминизмом и свободой. Она объясняет, почему предсказания возможны (они работают с внешней причинностью), но не абсолютно точны (внутренняя причинность души может внести коррективы)» (Сидаш Т.Г. Комментарии к III Эннеаде // Плотин. Сочинения. – СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2020. – С. 558).
К пункту 3-4 (Ответственность и истинная природа):
П. Адо: «Утверждение "лучшее – от нас" – это квинтэссенция этического оптимизма Плотина. Зло всегда приходит извне, от не-сущего (материи), а добро – изнутри, от нашей подлинной сущности, которая божественна. Задача человека – отождествить себя не с тем, что он претерпевает, а с тем, что он творит из самого себя» (Hadot P. Plotinus or the Simplicity of Vision. – Chicago, 1993. – P. 76).
С.В. Месяц: «Плотин проводит радикальную переоценку понятия "судьба". Для обывателя судьба – это всё. Для философа судьба (heimarmene) – это лишь внешний, низший слой событий, за который он не несёт ответственности. Его истинный "удел" (moira) творится его собственной добродетелью или порочностью» (Месяц С.В. Комментарий к трактату III.1 // Плотин. Избранные трактаты. – М.: ГЛК, 2021. – С. 297).
К пункту 5 (Природа добродетели):
А.Х. Армстронг: «Идея о том, что злые люди творят добро, лишь когда им "дают передохнуть", – глубокая психологическая и этическая insight (проницательность). Она implies (подразумевает), что зло не является posititive (положительной) силой, а есть лишь lack (отсутствие) добра, искажение внутренней природы под внешним давлением. Добродетель же – это естественное состояние души, когда ничто не мешает ей быть собой» (Armstrong A. H. Introduction to III Ennead // Plotinus. Enneads, Vol. III. – Loeb Classical Library, 1967. – P. 11).
Ю.А. Шичалин: «Тезис о том, что разумность не получается извне, а лишь не подвергается препятствиям, восходит к платоновскому Сократу (меноническая анамнесис). Это сугубо интеллектуалистическая этика: знать добро значит делать его. Зло – это ошибка, неведение, помрачение ума под влиянием тела. Следовательно, очищение (катарсис) ума является прямым путём к добродетели и свободе» (Шичалин Ю.А. История античного платонизма. – М., 2000. – С. 240).
Трактат II. (3.2) О провидении первое. Начало: «То, что приписывается случайности…»
Критика учения о случайности и постановка проблемы теодицеи.
Текст Плотина:
Приписывать происхождение и устройство вселенной случаю или самопроизвольности – явно неразумно и свойственно человеку, лишенному как разума, так и чувства. Это уже было многократно и убедительно опровергнуто многими до нас. Однако вопрос о том, каким образом все происходит и устроено, и почему некоторые вещи кажутся нам неправильными, вызывая сомнения в провидении, – требует более глубокого рассмотрения.
Объяснение:
Плотин начинает с опровержения материалистических взглядов (например, эпикурейцев), которые объясняли мироздание хаотичным столкновением атомов. Для него очевидно, что космос является воплощением разумного порядка (Логоса). Однако главная проблема не в опровержении атеистов, а в разрешении кажущегося противоречия: если миром правит божественный Разум (Провидение), почему в нем существует зло, несправедливость, страдание и ущербность? Это классическая проблема теодицеи – оправдания Бога перед лицом существующего в мире зла.
Комментарии:
Порфирий (ученик Плотина, редактор «Эннеад»):Указывает, что цель трактата – ответить не столько на внешних критиков, сколько на внутренние сомнения самого философа или его учеников, возникающие при созерцании несовершенства чувственного мира. Вопрос ставится так: если Единое – Благо, а Ум – совершенство, то откуда в их порождении возникает дисгармония? (По материалам жизнеописания Плотина и введения к трактатам).
Марсилио Фичино (итальянский платоник XV века):В своем комментарии к «Эннеадам» подчеркивает, что Плотин сразу отделяет «глупость невежд» (attribuentium casui) от «мудрого сомнения» мудрых, которые видят зло в мире и потому либо отрицают провидение, либо, как гностики, объявляют мир творением злого демиурга. Задача Плотина – найти средний путь, объясняющий наличие зла без умаления благости первоначал.
А. Ф. Лосев (русский философ, переводчик Плотина):Отмечает, что критика «случайности» у Плотина носит онтологический, а не просто моральный характер. «Неразумный» человек – это тот, чье сознание не способно узреть логическую и иерархическую структуру бытия, пронизанную необходимостью. Проблема же зла – это проблема восприятия частным, ограниченным существом целостного и вечного замысла. («История античной эстетики», т. VI).
Различение частного и общего провидения.
Текст Плотина:
Оставим в стороне частное провидение, которое есть предварительный расчет, как должно или не должно что-то произойти, или как что-то должно быть или не быть для нас. Рассмотрим провидение в отношении всей вселенной.
Объяснение:
Здесь Плотин проводит crucial distinction (ключевое различие). «Частное провидение» (πρόνοια μερική) – это антропоморфное представление о божестве, которое вмешивается в отдельные события ради пользы или в наказание конкретного человека. Такое понимание Плотин считает слишком упрощенным и низшим. Его интересует «общее провидение» (πρόνοια καθόλου) – всеобщий, целостный и неизменный мировой порядок, исходящий из высших принципов (Ума и Единого) и определяющий законы бытия всей вселенной в целом.
Комментарии:
Прокл (позднеантичный неоплатоник V в.):Развивает эту идею в своей работе «О провидении, роке и том, что в нас». Он объясняет, что частное провидение – это уже проявление более низших уровней мировой иерархии (богов-управителей, душ), которые действуют в рамках общего божественного плана. Общее провидение исходит от высших богов и самого Ума. (Proc. Cl. "De prov.").
С. С. Аверинцев (советский и российский филолог и культуролог):Комментируя этот отрывок, указывает на его полемическую направленность против популярных языческих и раннехристианских представлений о «чуде» как точечном вмешательстве Бога. Плотин поднимает провидение на уровень безличного, но разумного космического закона. Это философское очищение понятия от мифологической шелухи.
Вечность мира и провидение как сущностное отношение.
Текст Плотин:
Если бы мы считали, что мир возник в какой-то момент времени, будучи до этого несуществующим, то мы бы применили к нему тот же принцип, что и к частным случаям: предвидение и расчет Бога, как это целое могло возникнуть и как оно может быть наилучшим в возможной мере. Но поскольку мы утверждаем, что мир всегда существовал и никогда не переставал быть, то правильно будет сказать, что провидение для вселенной – это ее разумное бытие, а разум предшествует ей не во времени, но как причина, прообраз и образец, по которому она существует.
Объяснение:
Это центральный онтологический аргумент Плотина. В отличие от креационистских моделей (например, христианской или платоновского «Тимея» в его буквальном прочтении), мир для неоплатоника не был создан во времени. Он вечно изливается из Единого через Ум. Поэтому и провидение – это не «план», составленный до начала творения, а вечное и неизменное отношение Причины (Ума) к своему следствию (Космосу). Ум является не временным «творцом», а вневременным «образцом» (парадигмой) и причиной. Провидение – это сам факт существования мира как отражения вечного Разума.
Комментарии:
Плотин (в других трактатах, например, Энн. V.1):Сам подробно развивает эту мысль: отношение прообраза и образа вечно. Как свет существует одновременно с солнцем, так и космос вечно существует вместе с Умом. Поэтому «пред-видение» есть на самом деле вечное «видение» и бытие-в-соответствии-с-разумом.
Эмиль Брейе (французский историк философии):В своей фундаментальной работе «Философия Плотина» подчеркивает, что это утверждение снимает множество ложных проблем. Вопрос «почему Бог создал мир в тот, а не иной момент?» теряет смысл. Провидение есть имманентный закон самого бытия, а не внешний по отношению к миру декрет. (Bréhier É. "La philosophie de Plotin". Paris, 1961, p. 135).
Т. Ю. Бородай (российский переводчик и комментатор Плотина):Указывает, что этот подход позволяет Плотину избежать наивного телеологизма. Цель не в будущем, к которому мир стремится, а в вечном настоящем Ума, которым мир постоянно причастен. Провидение – это не движение "к" цели, а вечное присутствие цели "в" причине. (Комментарий к трактату 2 (III.2) в серии «Плотин в переводе Т. Г. Сидаша»).
Идеальный мир Ума как эталон совершенства.
Текст Плотина:
Истинный и первичный мир – это природа ума и бытия, не разделенная сама в себе, не ослабленная разделением, не ущербная, ибо каждая его часть не оторвана от целого. Вся его жизнь и весь ум пребывают в единстве, мысля и живя одновременно, и часть являет собой целое, и все дружественно связано, не разъединено и не враждебно. Поэтому здесь нет несправедливости, нет противоположностей. Будучи везде единым и совершенным, он не подвержен изменениям, ибо не действует одно на другое. Зачем ему что-то изменять, если ни в чем нет недостатка? Какой разум стал бы создавать другой разум? Действие через себя было бы признаком несовершенства, движения к худшему. Для блаженных сущностей достаточно пребывать в себе и быть тем, что они есть. Беспокойная деятельность небезопасна, ибо выводит их из себя.
Объяснение:
Чтобы объяснить несовершенство нашего мира, Плотин сначала описывает совершенство мира умопостигаемого (κόσμος νοητός). Это царство Ума (Νοῦς), где нет пространства, времени и материи. Сущности в нем мыслят друг друга и являются друг другом, пребывая в состоянии абсолютного единства, тождества и полноты (все во всем). Это сфера чистой мысли и бытия, где невозможно зло, ибо нет разделения, конфликта или недостатка. Это и есть подлинная реальность и образец, по которому существует низший, чувственный космос. Активность Ума – это не внешнее «действие» (которое предполагает недостаток), а внутреннее самосозерцание и самопознание, являющееся высшей формой бытия и блаженства.
Комментарии:
Плотин (Энн. V.8.4):Более подробно описывает жизнь в Уме: «В том мире… каждая часть рождается из целого и является одновременно и частью, и целым… она видит все в себе самой, и все в ней видит всякая другая, так что все есть повсюду, и все есть все».
Ямвлих (IV в.) и Сириан (V в.)(представители сирийской и афинской школ неоплатонизма): Развили учение об Уме, детализировав его иерархию (триады: бытие-жизнь-умение). Они подчеркивали, что совершенство Ума заключается в его полной самодостаточности и что любое «творение» низших миров есть не умаление, а неизбежное и вечное следствие его переполненности благом.
А. Х. Армстронг (английский переводчик и исследователь Плотина):Отмечает, что описание Ума у Плотина – это не просто абстрактная метафизика, а попытка описать опыт мистического единения, где исчезают все противоположности. Несовершенство же чувственного мира проистекает из его удаленности от этого источника, из его «разделенности» и погруженности в материю, которая сама по себе есть небытие и начало всяческого ущерба. (Armstrong A. H. "The Architecture of the Intelligible Universe in the Philosophy of Plotinus". Cambridge, 1940, p. 58).
Ю. А. Шичалин (российский филолог и историк философии):Указывает, что отказ от внешней деятельности для высших начал – это важнейший онтологический принцип неоплатонизма: «Причина выше своего следствия и потому не нуждается в нем». Внешняя активность – удел низших, несамодостаточных сущностей. Высшее бытие – это покой и внутренняя энергия. («Античный платонизм в преддверии неоплатонизма»).
Происхождение множественного мира как необходимое следствие
Текст Плотина:
Из этого истинного и единого мира возникает наш мир, который не является подлинно единым. Он множествен, разделен, части его отдалены и чужды друг другу, и вместо дружбы здесь царит вражда из-за разделения и недостатка. Часть не довольствуется собой, но, сохраняясь, становится врагом того, что ее сохраняет.
Объяснение:
Чувственный мир не является результатом ошибки или злого умысла. Его возникновение – необходимое и неизбежное следствие сверхизбыточной мощи и совершенства Первоначала. Единое, будучи абсолютно полным, «изливается», порождая Ум, который, в свою очередь, будучи полным, порождает Мировую Душу, а та, осуществляя свой творческий принцип (Логос), формирует материальный космос. Этот мир по своей природе вторичен, он существует «на периферии» бытия, и потому в нем ослаблено единство, царящее в Уме. Его главные характеристики – разделенность, множественность и, как следствие, конфликт. Сущности здесь обособлены, их интересы сталкиваются, что порождает «вражду». Несовершенство есть неизбежная плата за удаленность от Источника.
Комментарии:
Прокл: В «Первоосновах теологии» формулирует универсальный неоплатонический закон: «Всякая производящая причина благодаря своему превосходству производит низшее себе и сообщает подобающую сущность тому, что занимает следующее после нее место». Таким образом, наш мир не мог "не" возникнуть, и он не мог быть таким же совершенным, как его причина. (Прокл, "Первоосновы теологии", 72).
С. С. Аверинцев: Указывает, что эта модель «истечения» (emanatio) снимает с высшего начала моральную ответственность за несовершенство низшего. Зло и конфликт – не положительная сущность, а «лишенность» (στέρησις) блага, естественное состояние предельной удаленности от света Единого. Это онтологическая, а не моральная категория.
Не-намеренность творения и природа божественной силы.
Текст Плотина: Этот мир возник не по расчету необходимости, но по природе второй реальности, ибо первичный мир не мог быть последним. Он был первым, обладал всей силой, и эта сила состояла в том, чтобы творить иное без стремления творить. Если бы он стремился, то не имел бы этой силы от себя, но был бы подобен ремесленнику, не владеющему мастерством, а заимствующему его извне.
Объяснение:
Это ключевой момент для понимания неоплатонической концепции провидения. Творение не есть сознательный, волевой акт, подобный решению ремесленника что-то построить. Сознательное стремление творить свидетельствовало бы о "недостатке": о наличии нереализованного желания. Высшие принципы абсолютно самодостаточны и не имеют никаких неудовлетворенных желаний. Их творческая мощь – это непроизвольное и естественное следствие их собственного совершенства и избытка силы, подобно тому как солнце светит не потому, что «решило» светить, а в силу своей природы. Это спонтанное, ненамеренное и вечное «излучение» (ἔκλαμψις).
Комментарии:
Плотин (Энн. V.4.1): «[Единое] пребывает в покое, а [все] происходит от Него, когда уже не может оставаться в Нем, но изливается, и это излияние оказывается чем-то отличным от Него».
Пьер Адо (французский историк философии): Подчеркивает, что это различие между «творением по природе» и «творением по расчету» фундаментально. Оно отделяет неоплатонизм от креационистских религий. Провидение, таким образом, – это не исполнение божественного «замысла», а вечное присутствие причины в своем следствии, которое обязано ей своим существованием и порядком. (Hadot P. "Plotinus or the Simplicity of Vision". Chicago, 1993, p. 45).
Роль Ума и Логоса в формировании космоса.
Текст Плотина:
Ум, отдавая часть себя материи, оставаясь неподвижным, творит все. Этот принцип исходит от ума. Истекающее от ума – это логос, и он всегда истекает, пока ум присутствует в бытии.
Объяснение:
Ум не «работает» с материей напрямую. Он пребывает в себе, в состоянии чистого самосозерцания. Его творческая активность опосредована Логосом (λόγος) – творческим принципом, разумной организующей силой, которая исходит от Ума и несет в себе его отпечаток. Логос – это закон, форма и порядок, который налагается на бесформенную материю, чтобы создать упорядоченный космос. Важно, что Ум при этом «остается неподвижным» и не умаляется, ибо он отдает не «часть себя», а свою энергию, свой образ – Логос. Этот процесс вечен: пока существует Ум, вечно изливается и его Логос.
Комментарии:
Филон Александрийский (I в.): Его учение о Логосе как посреднике между Богом и миром оказало значительное влияние на последующую философию, включая неоплатонизм. Однако у Филона Логос чаще выступает как личный посредник, тогда как у Плотина – как безличный творческий принцип.
Т. Ю. Бородай: Объясняет, что «отдавая часть себя» – это метафора. Речь идет не о разделении сущности, а о сообщении формы. Ум действует как парадигма, а Логос является динамическим аспектом этой парадигмы, ее силой оформления. (Комментарий к трактату 2 (III.2)).
Аналогия с семенем и природа космической гармонии.
Текст Плотина:
Как в семени все содержится вместе, ничто не противоречит друг другу, но когда оно развивается, части занимают разные места, мешают друг другу, уничтожают одна другую, – так и из единого ума и его логоса возникла эта вселенная, разделилась, и по необходимости одни части стали дружественными, другие – враждебными. Одни по своей воле, другие против воли вредят друг другу, уничтожаясь, дают жизнь иным. Но над всем этим царит гармония, где каждый звучит своим голосом, а логос создает единый порядок.
Объяснение:
Плотин использует яркую аналогию, чтобы объяснить, как из единства рождается конфликтный, но гармоничный порядок. В Логосе, как в семени, все формы будущего космоса пребывают в состоянии нераздельного единства и непротиворечивости. Однако при воплощении в материи, которая есть принцип разделения и множественности, эти формы обретают отдельное существование. Их интересы и природные функции начинают сталкиваться (хищник и жертва, стихии). Этот конфликт – не хаос, а часть общего замысла. Подобно тому как в музыке диссонансы и консонансы, низкие и высокие ноги, сливаются в единую гармонию, так и конфликты в мире, включая страдания и гибель отдельных существ, подчинены высшему порядку и красоте целого. Частное зло оборачивается всеобщим благом.
Комментарии:
Готфрид Вильгельм Лейбниц (немецкий философ XVII-XVIII вв.): Его концепция «предустановленной гармонии» и тезис о том, что мы живем в «наилучшем из возможных миров», прямо восходят к этой неоплатонической идее. Лейбниц развил мысль о том, что каждая монада отражает всю вселенную со своей точки зрения, и кажущиеся конфликты разрешаются в гармонии, установленной Богом.
А. Ф. Лосев: Видит в этой аналогии глубокую диалектику: единство (Ум) необходимо переходит в свою противоположность – множественность (космос), но эта противоположность снимается в новом, более сложном единстве – в мировой гармонии, управляемой Логосом. Зло и конфликт являются необходимой ступенью в самораскрытии абсолютного. («История античной эстетики», т. VI).
Смешанная природа чувственного космоса и управление необходимостью
Текст Плотина:
Этот мир не таков, как ум и логос, но причастен им. Поэтому он нуждается в гармонии, сочетающей ум и необходимость. Необходимость тянет к худшему, к неразумности, ибо она лишена логоса, но ум все же правит ею. Умный логос един, и не может быть иным. Если возникает что-то иное, оно должно быть меньше его, не логосом, но и не чистой материей – ибо та бесформенна. Это смешение.
Объяснение:
Чувственный космос – это гибрид, соединение двух начал: 1) принципа разумного порядка (Логоса, идеи) и 2) принципа бесформенной, инертной и пассивной материи (ἀνάγκη – необходимости). Материя сама по себе есть «не-сущее», потенция для принятия формы, но также и источник сопротивления, инерции и «ухудшения» формы. Поэтому космос не может быть идеально совершенным. Однако Логос не устраняется материей, а «управляет необходимостью», подчиняет ее себе, заставляя даже слепые и механические законы материального мира служить осуществлению разумного плана. Космос – это «смешение», где Логос налагает порядок на беспорядок, форму на бесформенное, создавая тем самым прекрасный и упорядоченный, хотя и не абсолютно совершенный, чувственный мир.
Комментарии:
Платон («Тимей» 47e-48a): Плотин прямо следует за своим учителем, который вводит понятие «Необходимости» (Ἀνάγκη) как «второй причины» наряду с Умом (Νοῦς), с которой Уму приходится «убеждать» и которой нужно «управлять» для создания космоса.
Эмиль Брейе: Комментируя этот пункт, пишет, что материя у Плотина – это не просто пространство, а метафизический принцип инертности и инаковости. Победа Логоса заключается не в уничтожении материи, а в ее полном оформлении, в превращении ее из потенции в акт, насколько это возможно для нее. Брейе называет это «драмой воплощения идеи». (Bréhier É. "La philosophie de Plotin", p. 102-105).
Ю. А. Шичалин: Подчеркивает, что учение о «смешении» показывает статус чувственного мира как среднего звена в иерархии бытия. Он хуже, чем умопостигаемый мир, но бесконечно лучше, чем чистая материя. Его существование оправдано как максимально возможное воплощение идеи в материи.
Защита совершенства Космоса и его Творца
Текст Плотина:
Мир в его целостности не может быть признан некрасивым или несовершенным, а его Творец (или Первопричина) – некомпетентным. Это утверждение основывается на двух ключевых моментах. Во-первых, мир порожден не в результате сознательного "плана" или "расчета" (как у ремесленника), а по необходимости иной, высшей природы – эманации Единого, которая, переполняясь, естественно и ненамеренно рождает подобное себе (Ум, а затем и Космос). Во-вторых, даже если бы мы допустили акт творения по расчету, результатом стало бы целое, прекрасное, самодостаточное и гармоничное, где каждая часть, главная или второстепенная, занимает подобающее ей место.
Ошибочно судить о целом, ориентируясь на отдельные, особенно малозначительные, части. Ценность части определяется ее ролью в целом, а не наоборот. Критик, указывающий на несовершенство отдельных элементов (например, хищных животных или уродливых людей), подобен тому, кто, рассматривая человека, видит лишь волос или палец, игнорируя красоту всего тела, или кто, отвергнув все человечество, выставляет напоказ его самого уродливого представителя (как Ферсита у Гомера).
Космос как всеобъемлющее живое существо провозглашает свое совершенство: он совершенен, ибо произошел от Совершенного; он самодостаточен, ибо содержит в себе все формы жизни – растения, животных, людей, демонов, богов. Все его части, от земли до эфира, одушевлены и стремятся к благу, каждая в соответствии со своей мерой и природой. Требовать, чтобы палец видел, как глаз, – абсурдно; совершенство каждой вещи заключается в точном исполнении своей собственной функции в рамках великой иерархии бытия.
Комментарии и разъяснения:
Порфирий (III в. н.э., ученик и издатель трактатов Плотина):
Порфирий, комментируя этот трактат ("Эннеады" II.9 "Против гностиков"), подчеркивает, что атака Плотина направлена против гностиков, презиравших материальный мир как творение злого демиурга. Порфирий видит в этом тексте апологетику не столько "творения", сколько упорядочивающей деятельности Мировой Души, которая формирует космос по образцам-логосам, пребывающим в Уме. Он акцентирует мысль, что зло и уродство – не сущности, а лишь недостаток, отсутствие блага и формы (steresis), неизбежный на периферии эманации, где связь с Единым ослабевает. Для Порфирия совершенство целого включает в себя и существование несовершенных частей, необходимых для полноты всеобщей гармонии. "(Источник: Porphyry. "On the Life of Plotinus and the Order of His Books"; его комментарии отражены в самом расположении трактатов в "Эннеадах")".
Прокл (V в. н.э., глава Афинской неоплатонической школы):
Прокл развивает идею Плотина в более сложной иерархической системе. Он утверждает, что мир не просто "не стыден", но является блестящим откровением божественных свойств. В своем труде "Первоосновы теологии" Прокл доказывает, что всякое производящее начало порождает подобное себе и возвращает к себе свое порождение (Тезисы 28-33). Поэтому Космос необходимо прекрасен. Несовершенства отдельных вещей объясняются их материей, которая сопротивляется полному воплощению идеи (логоса). Однако провидение богов (у Прокла это уровень "Ума") простирается и на материю, организуя ее наилучшим из возможных способов. "(Источник: Proclus. "The Elements of Theology". Transl. by E.R. Dodds. Oxford, 1963. Pp. 33-39)".
Марсилио Фичино (XV в., глава Платоновской академии в Кареджи):
Фичино, переводя и комментируя Плотина для ренессансной аудитории, интерпретирует этот тезис в ключе оптимизма и прославления творения. Для него слова Плотина – прямой ответ христианским ересям, унижающим мир. Фичино подчеркивает идею "жизненности" всего сущего: "сила души простирается до моря", а воздух и эфир "не лишены души". Это хвала единой живой вселенной, пронизанной божественным светом, где все стремится к Богу. Он видит здесь обоснование для человеческого стремления к познанию и красоте, ибо весь мир есть их проявление. "(Источник: Marsilio Ficino. "Commentaria in Plotinum" (опубликованы в его переводе "Эннеад" 1492 г.))".
Современные исследователи (напр., А. Х. Армстронг, П. Адо):
Современные комментаторы видят в этом тексте фундаментальный онтологический оптимизм неоплатонизма. Армстронг указывает, что Плотин не отрицает существование зла (о чем пойдет речь), но отрицает его онтологическую значимость. Зло – это побочный продукт, "шлак" процесса эманации, не имеющий самостоятельной сущности. Совершенство целого – это совершенство системы, где даже кажущееся зло выполняет роль контраста или необходимо для полноты проявления всех возможных форм. Адо добавляет, что этический вывод из этого для человека – принять свое место в иерархии бытия и, познавая красоту Космоса, устремляться к его первоисточнику. "(Источник: A. H. Armstrong. "The Cambridge History of Later Greek and Early Medieval Philosophy". Cambridge, 1967. P. 243; Pierre Hadot. "Plotinus or the Simplicity of Vision". Chicago, 1993. P. 65-67)".
О природе разрушения, зла и справедливости в Космосе
Текст Плотина:
Разрушение и гибель отдельных существ в мире (как огонь, гасимый водой) не являются свидетельством несовершенства мироустройства. Это естественный процесс превращения: одно разрушается, давая жизнь другому. Высшие, бестелесные принципы (Ум, Душа) при этом остаются вечными и неизменными. Души, будучи бессмертными, лишь сменяют телесные оболочки, проявляясь в разных формах. Тела же по своей природе смертны и участвуют в вечном движении и становлении, которое берет начало в высшем, неподвижном мире.
Что касается морального зла – несправедливостей, совершаемых людьми, – их причина коренится не в злой воле Творца, а в свободной воле самих людей. Стремясь к благу (ибо все стремится к благу), они в силу неведения или слабости ошибаются в выборе средств и обращаются к мнимым, низшим благам (например, к богатству или власти за счет другого). Совершая несправедливость, человек наказывает себя сам, ухудшая собственную душу и обрекая ее на посмертное падение в худшие условия существования. Это – действие неотвратимого космического закона воздаяния.
Порядок и закон существуют не "ради" беспорядка, а "вопреки" ему. Беспорядок и беззаконие – это не цель, а неудача, результат того, что низшая материальная природа или свободная воля не смогла в полной мере воспринять и воплотить высший порядок и благо либо из-за внутренней слабости, либо из-за внешних препятствий. Наклонение воли ко злу – это всегда малый первоначальный выбор, который, не будучи исправлен, разрастается, увлекаемый телесными желаниями. Страдание порочного – это справедливое следствие его выбора, а не внешняя несправедливость. Счастье – удел только добродетельных, ибо оно является внутренним состоянием души, а не внешней наградой.
Комментарии и разъяснения:
Порфирий:
Порфирий, будучи также автором "Сентенций", развивает этические аспекты учения Плотина. Он акцентирует идею самонаказания души. Для него наказание за порок – не внешняя кара, а немедленное и неизбежное внутреннее помрачение и страдание души, которая отдаляется от своего истинного источника (Ума и Единого). Посмертное нисхождение в худшие тела (реинкарнация в животных) является логическим следствием и внешним выражением того внутреннего состояния, которого душа уже достигла при жизни. Порфирий видит в этом строгую и безличную работу космической справедливости (dike). "(Источник: Porphyry. "Sententiae ad intelligibilia ducentes" (Сентенции, ведущие к умопостигаемому). §32, §40)".
Прокл:
Прокл в "Первоосновах теологии" дает более метафизическое объяснение. Он вводит принцип: "Все то, что первично причиною для чего-либо доброго, само в большей мере причастно этому добру" (Тезис 72). Поэтому Первопричина (Единое) не может быть причиной зла. Зло, по Проклу, "паразитирует" на благе. Оно возникает на самом низшем уровне сущего, где сила блага ослабевает, а материя сопротивляется форме. Таким образом, зло не имеет собственной "идеи" или причины, оно – лишь побочный эффект, "сбой" в процессе нисхождения блага. Это полностью снимает с Творца ответственность за моральное зло. "(Источник: Proclus. "The Elements of Theology". Тезисы 72, 115-116. Pp. 67-69, 101-103)".
Марсилио Фичино:
Фичино, комментируя этот трудный аспект учения Плотина, стремится согласовать его с христианской теодицеей. Он интерпретирует "ухудшение души" как грехопадение, а "худшие места" – как чистилище или ад. Однако ключевой для него остается неоплатоническая идея: зло не субстанциально. Фичино подчеркивает роль свободной воли человека (liberum arbitrium) как дара богов, который несет в себе и риск падения. Страдание – это не наказание гневного Бога, а лекарство (medicina) и исправление, направляющее душу обратно к благу. "(Источник: Marsilio Ficino. "Theologia Platonica", кн. XII, гл. 2)".
Современные исследователи (напр., Э. Р. Доддс, Л. П. ГерсонСовременные ученые анализируют этот тезис как попытку решить классическую проблему теодицеи. Доддс отмечает, что Плотин предлагает два разных объяснения зла: для физического мира (неудача материи) и для морального (ошибка свободной воли). Это создает некоторую напряженность в системе, но в целом эффективно снимает вину с божественного. Ллойд П. Герсон подчеркивает, что для Плотина зло – это всегда личная ответственность индивида. Даже если первоначальный толчок к греху мал, душа обладает силой сопротивляться ему. Таким образом, страдание порочного никогда не является несправедливым, а является прямым результатом его собственных choices (выборов). "(Источник: E. R. Dodds. "The Greeks and the Irrational". Berkeley, 1951. P. 254; Lloyd P. Gerson. "Plotinus". Routledge, 1994. P. 194-196)".
О пользе зла и неизбежности страдания в миропорядке.
Текст Плотина:
Если в этом мире одни души обретают счастье, а другие – нет, виновато не место их пребывания (т.е. не сам материальный космос), а их собственная слабость, не сумевшая достойно выдержать борьбу, где высшей наградой является добродетель. Нелепо ожидать, что существа, не ставшие божественными, будут вести божественную жизнь.
Такие внешние обстоятельства, как бедность и болезни, не имеют истинного значения для доброго человека, но могут быть даже полезны для порочного, поскольку, обладая телом, они неизбежно будут испытывать его несовершенство. Эти явления не бесполезны и для устройства целого, внося свой вклад в его полноту. Подобно тому как Мировой Логос использует гибель одних существ для рождения других (ничто не ускользает от его власти), так и поврежденное тело или расслабленная пороком душа подчиняются иному, но также закономерному порядку.
Таким образом, страдания приносят пользу тем, кто страдает, а сам порок, будучи наказанным, служит целому, становясь наглядным примером и пробуждая в других разумность и бдительность против зла. Важно понять: зло существует не "ради" этой пользы, но "раз уж оно возникло", Провидение умеет обратить его во благо. В этой способности – величайшая сила божественного принципа: умение преображать даже злое и безобразное, придавая им новые, полезные для гармонии целого формы. В сущности, зло следует считать не самостоятельной силой, а недостатком (лишенностью) добра. И этот недостаток здесь неизбежен, поскольку материальный мир – это область иного, периферия божественного света, где его сила закономерно ослабевает.
Комментарии и разъяснения:
Порфирий (III в. н.э.):
Порфирий, комментируя этот аспект учения, делает акцент на аскетической и педагогической функции зла. Для него бедность и болезни – это инструменты, которые помогают душе отрешиться от телесного и вспомнить о своей истинной, умной природе. В своем труде "Воздержание от одушевленных" он развивает мысль, что страдание, вызванное телесными обстоятельствами, является уроком, побуждающим к философской жизни. Порок, наказанный по закону воздаяния, служит устрашающим примером (exemplum) для других, что является частью педагогики Мировой Души, направляющей души к добродетели. "(Источник: Porphyry. "De abstinentia" (О воздержании), I, 29-30)".
Прокл (V в. н.э.):
Прокл в своем комментарии к "Тимею" Платона дает более сложное метафизическое обоснование. Он утверждает, что Провидение (pronoia) простирается на все без исключения, но его действие различно. Для низших, материальных вещей оно проявляется как Судьба (heimarmene), безличный закон причинно-следственных связей. Зло и страдание – результат действия именно этого, низшего уровня providence. Однако высшее Провидение умеет "вплетать" даже последствия зла в общий благостный замысел, подчиняя необходимость высшему благу. Таким образом, польза от зла является доказательством того, что даже Судьба подчинена Провидению. "(Источник: Proclus. "On the Existence of Evils". Transl. by J. Opsomer & C. Steel. Ithaca, 2003. Pp. 40-45)".
Марсилио Фичино (XV в.):
Фичино, интерпретируя этот текст, проводит прямую параллель с христианской концепцией "О felix culpa!" ("О счастливая вина!"). Он видит в словах Плотина указание на то, что Божественное Милосердие настолько могущественно, что способно извлечь добро даже из зла. Для Фичино страдания праведников – это не наказание, а испытание, закаляющее душу и делающее ее более совершенной, подобно тому как золото очищается в огне. Процветание же злых – это отсрочка наказания, даваемая им для исправления, или, в ином ключе, – наивысшая кара, ибо оно укрепляет их в порочности, удаляя от Бога. "(Источник: Marsilio Ficino. "Platonic Theology", XVIII, 8)".
Современные исследователи (напр., П. Адо, Д. О'Брайен):
Современные комментаторы (как, например, Пьер Адо) видят здесь развитие стоической идеи о том, что "душа красива сама по себе" и не зависит от внешних обстоятельств. Страдание – это "безразличное" (adiaphoron), что приобретает положительный или отрицательный смысл лишь в зависимости от того, как его использует добродетельная или порочная душа. Дени О'Брайен, специалист по проблеме зла у Плотина, подчеркивает, что тезис о "пользе зла" не означает его оправдания. Это строго эпистемологическая и педагогическая польза: зло позволяет душам "узнать" о себе, сделать выбор и через противопоставление понять природу добра. Его онтологический статус как лишенности (steresis) при этом не меняется. "(Источник: Pierre Hadot. "Plotinus or the Simplicity of Vision". P. 70-72; Denis O'Brien. "Plotinus on the Origin of Matter". In: "Études sur Plotin", ed. M. Fattal, 2000. P. 45-46)".
О "несправедливости" в мире и пределах Провидения.
Текст Плотина:
Когда возникает ситуация, что добрые терпят зло, а порочные, напротив, процветают, правильнее всего сказать, что для подлинно доброго человека не существует подлинного зла (ибо его благо – внутри, в добродетели), а для порочного – не существует подлинного добра (ибо его душа несчастна, даже обладая богатством). Но почему же тогда то, что противоестественно для одного (страдание), становится естественным для другого (процветание злого)? Если естественное положение вещей не приносит счастья, а противоестественное не приносит истинного зла, то в чем же разница?
Более конкретные возражения: разве справедливо, чтобы добрые были рабами, а злые – правителями? Пусть это и не влияет на их внутреннее состояние, но разве не является беззаконием сам факт, что дурные люди, творя зло, побеждают в войнах и управляют другими? Все эти примеры ставят под сомнение всеобъемлющий характер божественного Провидения (pronoia).
Если же мы утверждаем, что Провидение действительно охватывает всё без остатка, то мы обязаны показать, каким образом даже эти, кажущиеся несправедливыми, явления устроены наилучшим из возможных способов и вписаны в общий миропорядок.
Комментарии и разъяснения:
Порфирий:
Порфирий вновь обращается к идее закона воздаяния и метемпсихоза (переселения душ). Кажущаяся несправедливость в настоящей жизни объяснима прошлыми жизнями души. Добрый, страдающий сегодня, возможно, искупает проступки прошлого воплощения. Злой, процветающий сегодня, исчерпывает последние запасы "позитивной кармы", обрекая себя на страдания в будущем. Таким образом, Провидение действует в масштабе всей вечности жизни души, а не одного короткого земного существования. Временный успех зла – это иллюзия, если смотреть на путь души в целом. "(Источник: Porphyry. "Sententiae", §29)".
Прокл:
Прокл предлагает более сложное иерархическое решение. Провидение, исходящее от Богов, обеспечивает общий порядок и благо целого. Отдельные "несправедливости" – это следствие действия низших причин: свободной воли людей, необходимости материи, влияния случая. Провидение не микроуправляет каждым событием, но устанавливает общие законы, в рамках которых эти события происходят. Победа злого в войне может быть следствием его стратегического таланта (причина второго порядка), но это не отменяет действия Провидения, которое через круговращение времен и закон воздаяния в конечном счете все расставит по своим местам. Благо целого (сохранение вселенной) может иногда требовать и частных "жертв". "(Источник: Proclus. "Ten Doubts Concerning Providence", §8-10)".
