Сказки весеннего дождя. Повесть Западных гор
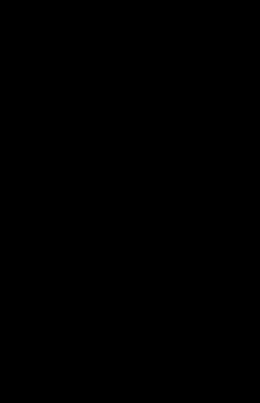
上田 秋成
建部綾足
春雨物語. 西山物語
Состав Галины Дуткиной
Иллюстрации Такэбэ Аятари
© Г. Б. Дуткина, состав, перевод, 2025
© И. В. Мельникова, перевод, статья, комментарии, 2025
© Издание на русском языке. ООО «Издательство АЗБУКА», 2025
Издательство Азбука®
Уэда Акинари
Сказки весеннего дождя
Предисловие автора
Перевод Г. Дуткиной
…Сколько дней уже моросит этот дождь? Мир объят тишиной и исполнен очарования. Достаю любимые тушечницу и кисть, но, как ни ломаю голову, придумать ничего не могу. Подражать старинным историям – занятие для неискушенных; но что я, презренный обитатель лесов, могу поведать о собственной жизни? Преданья давно минувших веков и дней нынешних ввели в заблуждение многих; и сам я, признаться, отдав им дань, морочил голову людям, не зная, сколь лживы эти истории. Но что из того? Все равно одни будут выдумывать сказки, другие – внимать им, принимая за сущую правду. А посему и я стану писать, покуда моросит этот весенний дождь…
Окровавленные одежды
Перевод И. Мельниковой
Государь Хэйдзэй[1] воцарился в пятьдесят первом поколении от начала императорского правления и вершил дела по воле богов, так что во всех пяти провинциях и вдоль семи дорог[2] не было ни засухи, ни наводнения. Люди похлопывали себя по сытым животам и пели хвалу обильному урожаю, а птицы могли вить гнезда повсюду, не выбирая деревьев. Сочтя благоприятным имя Дайдо, «Великое согласие», летописцы предложили его девизом правления для нового императора.
Вскоре после воцарения император приказал построить Весенний дворец для наследника, чтобы поселить там своего младшего брата, царевича Камино[3]. Все потому, что брата жаловал особой любовью прежний император Камму. У царевича был блестящий ум, беспримерный для правителя, он глубоко разбирался в китайских и японских книгах, а его почерк, и уставной, и скорописный, превозносили даже люди из Китая, и говорят, просили образцы, чтобы увезти с собой.
В то время в Китае была эпоха правления императора Сюань-цзуна[4], а поскольку «добродетель не бывает одинокой»[5], наладились обмены посольствами с Японией. Также и правитель Эджан Ван[6] из корейского княжества Силла, следуя примерам старины, послал в Японию десятки кораблей с данью.
Император был по характеру добр и мягок, поэтому он хотел поскорее передать правление обитателю Весеннего дворца и открыл свое намерение ближайшим советникам. Министры и высокие чиновники останавливали его, говоря: «Повремените с этим пока». Однажды ночью императору был сон. Во сне его отец, прежний правитель, огласил стихи:
- Рано утром сегодня
- Крик оленя раздастся.
- А пока его голос не слышен,
- Не покину тебя,
- Пускай даже ночь затянулась[7].
Император задумался о смысле этого сна и разгадал его.
На следующую ночь ему приснилось, что от прежнего императора явился гонец с известием: «Дух принца Савары[8] явился на могилу вашего отца в Касиваре и повинился в своем преступлении. Он жаловался только на то, что у него нет потомков и некому о нем молиться». Передав эту весть, посланец удалился.
Хэйдзэй подумал, что такие сны приходят из-за его слабого характера, и близко к сердцу не принял, однако почившего принца Савару повелел отныне называть императором Судо[9]. А буддийские монахи и служители синто обратились к своим алтарям, стали молиться об отвращении беды, совершать обряды очищения.
