Дома смерти. Книга IV
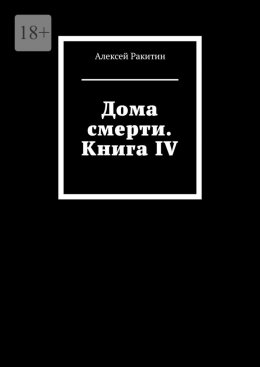
© Алексей Ракитин, 2025
ISBN 978-5-0067-9524-2 (т. 4)
ISBN 978-5-0060-3282-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
«Дом смерти» в тупике Ронсин
Французский президент Феликс Фор сейчас в России известен мало, о нём помнят разве что специалисты, изучающие историю отечественной дипломатии, военно-технического сотрудничества Российской империи и Третьей Французской республики или этапы развития международных финансов и кредита. Между тем время президентства Феликса Фора – речь идёт о 1895 – 1899 годах – чрезвычайно интересно как само по себе, так и теми воистину судьбоносными для России результатами, что явились следствием выбранного Фором курса.
Этот в высшей степени талантливый политик и финансист умудрился превратить Россию в стратегического союзника Франции, добившись от Императора Николая II пересмотра внешнеполитической доктрины его отца, ориентировавшегося на прочный военный союз с Германией. Причём проделал это Фор в кратчайшие сроки – во время двух личных встреч с Российским императором в 1896 и 1897 годах. В первом случае Николай Александрович вместе с супругой приезжали в Париж, а во втором – Фор отправился во главе французской эскадры в Санкт-Петербург. Во время этого визита французский президент принял участие в закладке постоянного Троицкого моста на месте наплавного, действовавшего с 1803 года.
