ПО ЧИНУ ЖИТЬ
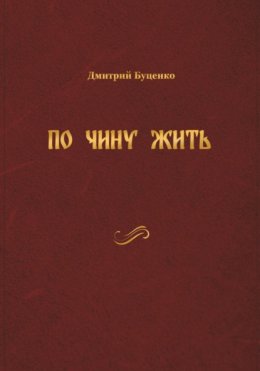
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
Каждое утро, ещё не старый, Андрей Леонтьевич Шубин просыпался до рассвета от собственного сердечного стука. Не надеясь заснуть, вставал, одевался и выходил побродить по безлюдным тёмным улочкам острога. Пройдя от воеводского дома к храму, затем к воротам, он поднимался на стену и направлялся на раскат угловой башни, выходящей на реку. Повелительным жестом отсылал с той башни караульного и, повернувшись к запертой льдом реке, то тревожно вглядывался в окружающие острог белые окоёмы, то внимательно рассматривал ещё крепко спящую вверенную ему государем крепость. Со своего поста ему хорошо видно, как бродят по стенам сонные и продрогшие стрельцы; как загораются лениво в посадских избах маленькие окошки; как кузнец разжигает в горне дрова – свет от пламени вырывается через открытые ворота на снег у кузни и пляшет по нему озорными бликами.
Всего несколько месяцев как он назначен воеводой в Алексеевский острог, но уже видел прилежащие земли собственным наделом – местом для стяжания достатка. К несчастью приходилось мириться с тем, что вся его власть была лишь отражением могущества русского царя на этом отдалённом участке Сибири.
Больше сорока лет, с похода донского атамана Ермолая Тимофеевича, Россия упорно вгрызалась в Сибирские просторы. Перевернувшая всю страну, Смута несколько замедлила движение, но с восшествием на престол новой династии и установлением порядка, освоение этих безграничных земель продолжилось. Москва остро нуждалась в средствах, и Сибирь виделась неиссякаемым их источником.
Всё посылались и посылались отряды для «приискания новых землиц». Для контроля и обеспечения изнурительных походов строились деревянные крепости – остроги. И чем дальше заходили отряды, тем больше появлялось и острогов. На какое-то время они становились остриём копья направленного вглубь далёких и опасных земель, но всегда ненадолго – отряды всё шли и шли, остроги всё строились и строились. Одним из них суждено было стать городами, а другие, сгнившие или сгоревшие, забывались.
Алексеевскому острогу было лет семь. Когда-то в этих местах устроил себе спасительную пустынь старец Макарий. К нему подселилось ещё несколько таких же, ищущих успокоения, неприкаянных душ. Недалеко от них, подыскав место повыше, промышлявшие соболем охотники, поставили первую зимовку… И вот уже вместо неё, на левом берегу Енисея, в десяти вёрстах выше устья реки Кемь, недалеко от другой речки – Мельничная, возвышается целый острог. Поначалу его сложили наспех – страшились нападения тунгусов; пяток домишек и стена, всё из непросушенного леса – он быстро гнил, потому пришлось перестраивать. Взялся за это воевода Яков Хрипаков, которого после и сменил Андрей Леонтьевич.
Теперь это солидная крепость с постоянным гарнизоном около ста пятидесяти стрельцов с пищалями и даже шестью пушками. Прямоугольное строение, двести саженей в длину и семьдесят в ширину. Стены, устроенные из двух рядов брёвен между которыми засыпана вынутая из окружавшего острог рва земля, имели три сажени в высоту и полторы в ширину. Две угловые башни с раскатами – площадками для стрельбы на их вершинах. В каждой из длинных сторон также встроены башни с воротами и тоже с раскатами.
Острог стал защитой для местных пашенных крестьян и мастеровых, рыбаков и охотников, промысловиков и торговых людей. Стал местом отдыха от походов и подготовки новых. Стал то́ржищем и таможней. Для всего окрестного люда он оказался всем, чем была тогда Россия в этих диких местах.
Вот бы ещё колокольный звон на всю округу, чтоб на службу звал и возвещал – новая сила закрепилась основательно, а значит пришла сюда надолго!
Высокими бревенчатыми стенами острог врастал в землю остяков – так стали называть немногочисленное местное население пришедшие сюда русские промышленные люди, не делая разницы между остяками обскими, нарымскими и енисейскими. Сами же остяки иногда называли себя кетами или югами, но чаще наматами, алчынами, хонегитами, хетянами, замшатами и другими именами своих родовых князцов. Охота да рыбалка – вот чем жили местные остяки. Ещё железо делали – хоть и плохонькое, оно было в цене и, как большая редкость, для обмена годилось. Понятное дело и пушнину добывали, но в большей части для себя. Правда если выпадала возможность поменяться – не отказывались.
С приходом русских остяки немного повоевали с ними под предводительством князца Намака, после уступили и пошли под могучую руку Белого царя.
Пришельцы сперва в намацких землях поставили острог, чтоб было кому за волоком с Кети на Кемь приглядывать, а через время уже и на берегу Енисея поднялась новая крепость. Остяки смирились с приходом новых людей, расселявшихся по их родной тайге, перекапывавших землю под свою пашню и собиравших всё пушное зверье, что здесь водилось. Ужились, сторговались. Многие крестились. Стали наниматься в отряды для разведки новых земель проводниками или толмачами, да и свой отряд могли собрать для какого выгодного совместного предприятия. Пахать, правда, не умели… и не хотели – так рыбалкой с охотой и промышляли.
Часто, в эти земли приходили из-за Енисея тунгусы. Приходили, чтоб пограбить. Жили те тунгусы несколько дальше: на правом берегу Енисея по берегам его притоков, прозванных Нижней, Подкаменной и Верхней Тунгусками. Так же, как и остяки, тунгусы ловили рыбу, охотились. Ещё кочевали верхом на оленях. Остяков не любили – считали слабыми, потому многократно на них нападали. Русские же взялись защищать остяков, а те им за это соболя и другую пушнину по тайге собирали – ясак называется. С тунгусами же ещё только предстояло договориться.
Андрею Леонтьевичу досталась совсем непростая служба. Не о таком он мечтал, сидя вторым воеводой в солидной Тюмени. Там у него и людишек поболе, и чести от важного места тоже немало, а здесь – Алексеевский острог, его пограничная служба, стала для Шубина пудовым ярмом на холёной шее, требующим неленивого участия (к которому он всегда стремился), но полного погружения во всё каверзное закулисье, обычно царящее в таких местах. И вблизи большого начальства не радели люди о государевом деле! Что уж говорить – когда до него больше чем полторы тысячи вёрст (и это если по прямой), а если идти по всем, безбожно петляющим речкам – в полгода не добраться! Оттого-то и жили покорители земли сибирской, придерживаясь своих, не всегда согласных с государевыми, законов и правил. Разные люди собирались в далёких землях, разными дорожками приводила их сюда жизнь, но такова человеческая привычка, от всего искать пользу и к любым тяготам приноравливаться. Так всегда и все – кем бы ты ни был, к какому сословию ни приписали бы тебя государевы люди: пашенные, служилые и уж тем более казаки – ищут прибытка и благоустроенности – частенько способны для своих нужд раздавить чужое счастье.
Казаки… Вольный народ, сбивавшийся в бесшабашные ватаги и кочевавший по Сибири в поисках приработка. В казаки не шли, в казаки бежали… от оброка и барщины, от долгов, от притеснений, от безнадёжной бедности. Бежали от преследования за городское воровство и становились ворами лесными; бежали от земельной зависимости и становились зависимы от атамана; бежали от голода, но голодали и мёрзли в тяжёлых походах… Бежали не к лучшей жизни – бежали от той которая не сложилась!
Не часто бывало, что новая жизнь у них счастьем набралась. Случалось, понятно, казаки и землю, и семью при остроге заводили; землю в наём крестьянину, жену под присмотр, а сам в поход – если он в поход не ходит, то какой он казак? Тогда он крестьянин – будет хлеб сеять да оброк платить! Но чаще так и помирали безземельными бобылями – убитые в бою или драке, загнувшись от раны или болезни. Где-то в России были ещё и городовые казаки – нанятые в специальные отряды в подобии стрелецких. Но то в России, а здесь – Сибирь! Здесь своих стрельцов снарядить бы да прокормить, а потому, чем дальше вглубь необъятных земель, тем меньше казаков городовых и тем больше «воровских», которые и своих торговых потрясут и остяков с тунгусами тоже, а всё, на большой дороге отобранное, стащат в острожные кабаки, да там же и прогуляют.
При Алексеевском остроге прижилась ватага дерзкого атамана Василия Новоторжанина. Нанимались к отрядам сборщиков, в охрану, промышляли мелкими набегами на отдалённо живущие и оттого ещё необъясаченные роды. Силой были большой, плохо управляемой из острога. Поздей Фирсов, стрелецкий сотник и соратник предыдущего воеводы Якова Хрипакова, пока что с казаками справляется, потому как видит друг от друга зависимость – маловато для дальнейшего движения силёнок, без такого удалого народа с государевой работой не совладать! И всё же Андрей Леонтьевич оправданно страшится – придёт время и натерпится он от этой братии! Но до времени приходилось мириться.
В Сибири всегда была беда с людьми, а точнее с их недостатком, потому как бесконечные земли растворяли в себе любое число приходящих, оттого воеводы старались даже с неуёмными казаками договариваться – негоже вооружённым людишкам по тайге без присмотра шататься, надобно их к делу пристроить. Атаманов верстали в службу, назначая им оклад зерном и мехом, иногда монетой. Ватаги же нанимались от случая к случаю для опасной работы. Вот так и становились казачки неотъемлемой частью упорного движения России на восток.
Но одними казаками много дела не сделаешь, с ними бережение завсегда нужно – ну как, разбегутся или своих побивать начнут? Отправлялись в остроги разные государевы люди – служилые. Таких не много всегда, но служилый люд приписывался непременно к каждому новому острогу! Кто бы ни построил его, в какой бы далёкой земле ни заложили крепость – сразу направлялись туда стрельцы да подьячие. Закладывались таможенные да съезжие избы, хлебные и пушные амбары. Да всё под запись, а отписки о сделанном – в Томск или Тобольск посылались. Тут же начинали с окрестных земель ясак собирать и в новые земли отряды для разведки отправлять. Стрельцы острог и обозы охраняли, в походы с казаками ходили (чтоб присматривать за ними и о царском деле радеть) бунты усмиряли. Подьячие всё записывали да считали.
Указами разными служилые определялись «годовальщиками» – место их службы должно было меняться каждые год-два. И снова Сибирь беспредельная диктовала свою волю: чем дальше от большого начальства, тем чаще служилые приживались на одном месте, менять-то особенно не на кого. Воеводы тоже были из «годовальщиков», вот их хоть как-то переставлять удавалось (чтоб разные ходы к мздоимству не узнавали и тем души свои не пачкали), а остальные… уж как придётся!
И вот ещё беда: находившийся на краю земли острог нуждался в пропитании. Доставка хлеба на такие расстояния была трудна и рискованна – на пути через многие остроги, заснеженные леса или бесконечные реки, кои в основном и были предельно удобными дорогами, зерно и мокло, и тонуло, да и разворовывалось тоже. Сподручнее всего выращивать его поближе к острогу. Для того переселялись сюда государевы крестьяне (землю пахать, хлеб растить и промышленный люд кормить). Они и заложили в округе деревеньки, часто совсем небольшие, в три-четыре двора, иногда и того меньше. Те, что побольше, раскинулись под стенами острога и стали продолжением посада, остальные же расположились так далеко, что рассчитывать на скорую подмогу, в случае какой беды, их жителям не приходилось. А что делать? В Сибири землю от скал да лесов большим трудом отвоёвывать надо – вот и приходится крестьянину находить свою пахоту, где случится, хоть и далеко от надёжного острога и поселяться к ней поближе. Очищенную от камня и корней пашню, как водится, подьячий сразу к государевым землям приписывает. Крестьянин же ставит дворик, заводит нехитрый заводишко – сохи да бороны, грабли, вилы, серпы да косы. Животинку разную, огородик нажива́ет. Рядом другой крестьянин поселяется,… Может вот так, неспешно, крестьянским трудом и прирастала Россия Сибирью?
Большое и не простое дело – сибирский острог. Над ним ставили воеводу, по возможности двоих, чтоб приглядывали друг за другом, а коль достойных людей недоставало, то обходились одним. Для Алексеевского острога как раз недоставало, потому, назначенный на смену предыдущему воеводе, Андрей Леонтьевич становился здесь безраздельным властителем – пока и его не заменят.
2
Несмотря на раннее утро у съезжей избы собрались крестьяне. Дело было важное, и они ждали прихода воеводы, зная его странную для большого начальства привычку начинать работу с рассветом. Заметив его, галдевшие, мужики замолкли и, расступившись, пропустили Андрея Леонтьевича к крыльцу. Тот важно прошагал мимо, смиренно склонившихся в поклоне людишек, поднялся по высокой лестнице на крыльцо и скрылся в сенях. Рванувшие было, за ним просители были остановлены в дверях вышедшим навстречу подьячим:
– Куда полезли? – зарычал он, широкой грудью выталкивая мужиков наружу. – Ждите ещё. Позже примет.
Зайдя внутрь, воевода несколько раз топнул, сбивая снег с сапог и, пройдя в угол, грузно уселся на лавку:
– Ты, Максим Максимович, только при мне с самого утра при делах? Или всегда таков? – воевода распахнул шубу.
Печь только начали растапливать, но с утреннего мороза ему уже было жарковато.
– Что за люди собрались?
– Ты ж на той неделе распорядился чтоб из Нижних Подгородень люди в Верхние переселялись – так они не хотят. Пришли просить, чтоб воевода смилостивился и оставил их при своих домах, – уже сидящий за своим столом подьячий говорил тихо, не отрываясь от чтения бумаг.
– Вот народ непонятливый. Один год, что ли их деревеньку затапливало? Яков Ефимович сказывает, что только в прошлую весну Бог миловал, а так постоянно заливает. Всё одно страшатся, что полезное для себя сделать.
– Им бы с осени следовало переселяться. Как хлеб смололи, так и за постройку браться. А ты зимой их с места сорвать хочешь, вот они и бунтуют.
Подьячий по-прежнему говорил тихо, но упоминание о возможном бунте тревожило Андрея Леонтьевича. Бунт в остроге – воеводское упущение. Но в чём же его вина? Он только перед Рождеством до острога добрался.
– Им непременно из-под батогов делать надо? – воевода занервничал. – Сами не думали на другое место перейти? На всё им указ нужен. А хлеба сколько тонет? Потом за ним куда идут? В острог идут. Ещё возмущаются: чего это воеводы всё зерно в амбар собирают? Будто не для них стараемся – государево дело делаем! А скотину поберечь? Половодье начнётся – сколько её потонет! Они же сами скумекать не желают. А теперь что: помилуй, воевода, не гони с насиженной землицы? Оно понятно – прижились, приспособились. Каждый год как-то переживают. Потом недоимок понабирают, землю бросают и в бега. Но ведь есть же средство улучшить положение.
Выговорившись, Андрей Леонтьевич успокоился и, вытянув одну ногу вдоль лавки, кивнул подьячему:
– Ладно. Зови мужичьё. Сейчас я им насыплю.
Подьячий вышел в сени. Оттуда послышался скрип открывшейся двери и его низкий спокойный голос:
– Заходи, мужички. Только не все разом, погодя заходи.
Крестьяне, сняв шапки, крестясь и осторожно толкаясь, втиснулись в избу и предстали, смиренные и подневольные, перед важно сидящим воеводой.
За окном зимнее солнце уже вовсю освещало острог. В открытые ворота входил очередной обоз. Острожные обитатели медленно стягивались к нему.
С полчаса разговора и крестьяне, недовольно поругиваясь, покинули съезжую избу:
– Ишь, ты, – ворчали они, – тягло на этот год поднять! Уж лучше дворишки перенесём.
– Потрудимся робяты?
– А то… вестимо потрудимся.
– Будто его зерно для посева волнует. Крадёт он наше зернишко-то. Крадёт, ей-ей, да вино из него курит и в кабаке нам же сбывает.
– А подьячий, чтоб его черти жарили, подсобляет…
– Да тише вы, курьи головы, со двора бы сперва сошли…
Подьячий смотрел за ними в мутное окно, убедившись, что они покинули двор, повернулся к воеводе и улыбнулся с прищуром:
– Крестьянин хоть и прост, но не глуп. Он половодье не из лени терпит – ему к ловушкам ближе. Вокруг острога соболь давно упромыслился, но один-другой всё одно попадается. Так они из-за этого каждым кулемником дорожат. Без присмотра оставлять не хотят – приработок какой-никакой. В этих местах каждый перелесок меж собой поделили. Вот заставил ты их в другое место переехать, а там тоже давно всё поделено. И что ж им теперь?
– Пусть пашней занимаются, – буркнул воевода, – за соболем есть, кому ходить.
Подьячий не переставал посмеиваться:
– Это ты соболя сорока́ми считаешь, а они если одного вскладчину возьмут, то и радуются.
– И в кабак его тащат.
– Не без того… – кивнул Максим Максимович.
– Ладно-ладно тебе, заступничек…
Андрей Леонтьевич встал и выглянул в низкое оконце:
– Яков Ефимович сегодня уходит?
– Завтра. Вон обоз из Маковского пришёл. Завтра назад – с ним и пойдёт. Фирсова с собой берёт для охраны. Никак не расстанутся – давние приятели.
Подьячий сел за свой стол и вновь уткнулся в бумаги.
Максим Максимович Перминов, много лет назад с отрядом Петра Алексеева и его помощника Богдана Рунина, строил на Енисее ещё первый острог – тогда он назывался Тунгусский. Как поставили его подьячим в те времена, так и остался он на этом месте. Всё что в остроге было записано всё проходило через его ясные очи. Своё дело он знал отменно. Каждая, даже самая незначительная грамотка, вычитывалась им, затем аккуратно укладывалась в одну из кожаных сумок. Не часто встретишь в Сибири даже просто человека грамоте обученного, а уж способного к дотошной бумажной работе и подавно. Правда, внешне Максим Максимович не походил на обычного приказного волокушу. Высокий, богатырского склада, с резким взглядом чёрных глаз из-под густых бровей. Некрикливый, рассудительный. Широкая кисть руки на навершии клыча. Ему бы стоять на носу коча – несущегося в бескрайние дали – коча, свободной рукой указывая соратникам путь… да как-то не складывалось. Вместо этого Максим Максимович, легко сходясь с любым назначенным начальством, держал под своей рукой всю их деликатную деятельность. Кто, сколько, чего взял, куда направил – Максим Максимович всё знал и умел правильно записать, чтоб всё без изъяна считалось. Из острога выбирался не часто. Один раз в Тобольск большой ясак сопроводил, да ещё на Маковский острог и на Кетский иногда хаживал.
Когда в Алексеевский острог приехал Андрей Леонтьевич, многоопытный подьячий быстро сдружился и с ним: завели делишки совместно. Каждому нужен такой помощник, чтоб все тонкости знал, но не у каждого он есть. У Алексеевских воевод был Максим Максимович Перминов. Тем более, что подьячий не фарисействовал – ну, есть у начальства слабости, а кто ж безгрешен-то? Яков Хрипаков, к примеру, государевы деньги норовил как свои пользовать, а Максим Максимович так над бумагами старался, что и следа не найти, хоть в «друзьях» у Якова Ефимовича и не значился. Правой рукой у Хрипакова был стрелецкий сотник Поздей Петрович Фирсов, человек суровый и отчаянный – Якову Ефимовичу под стать. Оба они любили решить дело хорошей дракой. Если недоимка или ещё что: недолго раздумывая, собирался отряд и силой добивался своего. Подьячий же не просто не мешал Хрипакову «воеводствовать», но и по мере способности тихо его прикрывал.
Андрей Леонтьевич был не таков – в потасовку не лез, стремился договорами дела решать. Да и прямо руку в казну не запускал, но до самой казны деньга могла и не дойти. А Перминов, знавший в остроге все «ходы-выходы» – ему в помощь. Шубин видел его за это, своим главным подручным. Кем считал Перминов нового воеводу?.. Не больше чем очередным начальством… может потому оно сменялось, а Максим Максимович оставался на своём месте.
Андрей Леонтьевич вновь сел на лавку под иконы:
– Яков Ефимович уж задержался в остроге. Если б не этот слух о серебре, то и не спровадили бы его. Носится по округе как чумной, а люди ему не верят. Не идут за ним. Неужто он думает, что в Москве ему отряд дадут? – воевода покачал головой, рассматривая свои холёные пальцы рук. Андрей Леонтьевич, не в пример сибирскому люду, был гладкий, белотельный, чем очень гордился, считая, что именно так должен выглядеть потомок древнего венецианского рода, коим он, несомненно, и был.
Максим Максимович не отрывался от своих бумаг:
– Отряд ему непременно дадут. Серебро в России добывать – дорогого стоит. Он им передаст все, что от Солина услышал – те и возрадуются. И вернётся Яков Ефимович к нам с большой силой! И людей с собой приведёт. Это теперь не идут за ним, потому что он не воевода и припасы своими силами надобно собирать, а когда придёт с обозом, с оружием, запасом, да со стрельцами – вот тогда людишки и спохватятся. Перво-наперво торговые засуетятся. А сейчас что? Сейчас промысел закончится, они все в тайгу рванут – рухлядь скупать подешевле. Им пока никакого резона с Яковом Ефимовичем идти, когда есть пожива вернее.
Максим Максимович имел манеру говорить, не глядя на собеседника. У него как будто всегда был для этого повод – то сапоги свои разглядывает, то словно вокруг ищет чего, то вдаль задумчиво глядит, а чаще свои бумаги перебирает. Прямо он смотрел редко.
– Твоя правда. Пойду я, Максим Максимович, – воевода встал и направился к двери. – Зайду к отцу Ионе. Мы то с тобой всё о делах, а о горнем, когда думать?
– Отец Иона опять жаловаться будет: живёшь ты не праведно, добро зря стяжаешь, не пригодится тебе оно и всё такое…
Андрей Леонтьевич засмеялся:
– И в чём он не прав? Всё по слабости своей, по слабости, но с храмом надо помочь. Это мы теперь в остроге сильные – с нас и спрос. Челобитную о пополнении церковной утвари мы с тобой отправили? Отправили! Вечером ещё одну напишем: теперь уж и от острожного люда. Отправим с Яковом Ефимовичем. Колоколенку думаю поставить рядом с храмом. Тем от грехов и прикроемся – Господь же всех любит? Всех! А праведную жизнь оставим монахам. Пойду уж… – перекрестился и вышел.
Острожный храм был закончен ещё в прошлом году и освящён, в честь Введения Пресвятой Богородицы. В нём уже служил, присланный из Тобольска, чёрный поп Иона, но ни книг, ни икон, ни, тем более, хотя бы одного колокольца, в нём всё ещё не было (звонница есть, а колокола нет). Андрей Леонтьевич, человек в меру своего времени, набожный, увидел в этом храме толику любимой Москвы, и, по мере скромных воеводских сил, принялся трудиться над его устроением.
3
Пришедшие с обозом из Маковского острога стрельцы расположились под стеной у самих ворот. Спокойно, не торопясь, они привычно облокотили на стену пищали, а сами, усталые, расселись каждый у своего оружия прямо на снег. Приведший стрельцов десятник Фомка Федулов, оставив своё оружие под присмотр одного из своих подначальных, высокого седобородого мужика, рванул искать воеводский двор, чтоб доложиться о приходе подмоги. Воеводы считали нужным почаще отписывать в Тобольск о недостатке людей. И по мере возможности приходило пополнение. Все дороги сюда шли через Маковский острог, построенный в землях остяцкого князца Намака. Когда-то именно Маковский острог был главным в этих местах, но с постройкой Алексеевского, он стал помаленьку загибаться. Алексеевские воеводы были немного «позубастее» что-ли?.. Маковский держался только за счёт того, что рядом с ним лежал волок – место, где большие сибирские лодки, кочи да струги, перетаскивали с реки Кеть на реку Кемь. Для этого в удобном месте держали запас обструганных брёвен, верёвок и другого завода, где-то подкапывали, где-то подсыпали. И поставили острог, чтоб за волоком следить и оборонять его.
Острожные жители понемногу подтягивались поглазеть на вновь прибывших, разжиться какими-то новостями. Пришедшие с обозом сани торговых людей уже отправились на гостиный двор.
Зима в этот год уж совсем тёплая. Яркое солнце, отражаясь от снега, слепило собравшихся у ворот людей, которые осматривали новых стрельцов, знакомились с ними, судачили. Послали в кабак за сугревом. Вскоре появилось пара кубышек – стало веселее!
Служивые были в основном свои – сибирские. Кто раньше в Верхотурье годовальничал, кто в Мангазее. Затем всех собрали в Тобольске и уж после пригнали сюда. Один только стрелец, лет тридцати, коренастый, какой-то весь нескладный – кривоногий, немного косолапый, что ли – так он пришёл из самой Москвы.
– А ну-ка подтягивайся к нам, – трепали его подошедшие крестьяне, – угостись-ка нашенской… – и подавали ему украдкой из-за пазухи, видимо, какую-то особенную наливку.
Пили, морщились, смеялись.
Мимо них, в ворота, тащил свою волокушу сгорбленный иночек:
– Все живые-здоровые добрались? Ну и, слава Богу, – улыбнулся он новым острожанам и, не останавливаясь, протащился дальше.
– Отец Иона, – кивнули в сторону уходящего батюшки мужики.
Стрельцы освоились, разговорились.
– Гляди, замо́к какой нарочитый, – кивал подошедшему из слободы кузнецу седобородый стрелец на отдельно стоящую у стены пищаль. – Ты чай такой и не видывал? Да не хватай ты руками – так смотри.
– Да, что я, замков не видывал? – обижался кузнец. – У нас-от такие стреляла хаживают, почище ваших будут.
– Тоды глянь, вон у Елески на пищальке винт совсем стёрся. Сообразишь поправить? Елеска! – крикнул седобородый тому стрельцу, из Москвы, – А ну, покажь, что за беда у тебя.
Тот подхватил за ствол своё оружие и подал его кузнецу прикладом вперёд. Кузнец осмотрел замок:
– На курке что ль винт стёрся? А как-от ты фитиль зажимаешь?
– Та, вдвое сворачиваю… Иногда и втрое…
– Сделаю! – уверил мастер, – заходи-от ко мне на кузню, поправлю… Ничего!
Так за разговорами и не заметили приближающиеся из глубины острога звуки погони. Какой-то человечишка отчаянно метался между заборами, стараясь, то ли запутать преследовавших его стрельцов, то ли найти выход. Сперва он бежал в сторону церкви, чья маковка возвышалась над всеми строениями острога. Затем, видно поняв, что та находится в углу и ворот рядом с ней не предвидится, рванул вдоль длинной острожной стены к встроенной в неё башне, справедливо полагая, что выход там, но навстречу ему уже, сломя голову, неслись озлобленные люди. Тогда человечишка повернул во дворы. Устремившись напрямик, он забежал в какие-то ворота – оказалось, это стрелецкая изба. Пришлось, не останавливаясь, бежать через двор и перелазить забор уже с другой стороны. Догоняющих становилось больше, а крики преследователей явственнее. Но за последней постройкой виднелась ещё одна башня – ворота там – спасенье близко! Беглец буквально перепрыгнул через очередной забор (в этот раз – забор съезжей избы), помчавшись вперёд, плечом вывалил доски другого и кубарем выкатился на площадку перед воротами острога.
Именно в это момент кузнец Осип Варламов возвращал осмотренную пищаль хозяину. Крики: «…убёг…, держи!». Бегущие с разных сторон люди! Топот караула, сбегающего с башни по деревянной лестнице! Человечишка вскочил. Кинулся к открытым воротам – осталось совсем немного…
Стрелец двумя руками взял поданную пищаль за ствол, сделал шаг назад и, развернувшись, наотмашь, саданул беглеца прикладом точно чуть ниже шеи. «Ы-ых!» – вырвалось у того из груди, и он грузно свалился на спину. На него тут же навалились подоспевшие преследователи, заломили за спину локти и давай их вязать! После попинали немного – может, для порядка, а может, от обиды, что бегать заставил.
Теперь можно и рассмотреть беглеца: черноволосый, безбородое лицо, обычные для местных раскосые глаза и высокие скулы. Нараспашку надетый тулуп из хорошо выделанной светлой шкуры украшали нашитые по бортам раскрашенные деревянные бусы. Под тулупом виднелся странный передник. Не по-остяцки одетый человечишка.
– Это Ялым, – сказал подошедший огромный мужик с перекошенным синим шрамом щекой (на месте шрама борода не росла, оттого здоровяк выглядел ещё уродливее). – Из тунгусов он, в аманатах у нас. Знатный побегушник! За ним присмотр особенный нужен. Глядите, что он с вашим десятником сделал.
Рядом с мужиком стоял Фомка с запрокинутой головой и держался за свой нос.
– Я его просто сразу не заприметил… он из-за угла выскочил и треснулся об меня… если бы я его увидел, вот тогда уж … – гундел Фомка, в своё оправдание.
– Да будет тебе жалобиться, – посмеивался здоровяк, – Ялым сегодня не одного тебя приложил. Васька Сумароков, что ему харчеваться принёс, тоже с таким носом теперь красоваться будет. Вы же стрельцы-молодцы умишком своим кумекайте: аманаты – это тоже ваша забота. Им бежать всегда есть куда.
Пашенные мужики при появлении этого здоровяка тихо-тихо отошли от собравшейся толпы и скрылись за острожными воротами.
– Я здешний сотник. Зовите меня Поздей Петрович, – здоровяк повернулся к стрельцу и, видимо, желая проявить своё расположение, хлопнул его по спине, да так что тот аж зубами клацнул.
– Ты что ль к нам из Москвы пришёл? Я сам оттуда. В стрелецкой слободе жил, что за рекой. Видел я, как ты его прикладом приголубил. Хвалю! Быстро сообразил! Сибирь соображалки требует. Будешь так дальше служить, может и выйдет из тебя что.
Затем повернулся к десятнику:
– Людей собирай да к Стрелецкой избе веди – там расположитесь. Полусотник придёт, Фёдоров Васька, разверстает вас по службе – кому караул какой, кому ещё куда. Ты, Фомка, Солина Терентия найди. У него десяток без десятника мается, к нему во вторую полусотню и запишешься. Ну, бывайте… – и прямо через пролом в заборе направился в съезжую избу, на крыльце которой Максим Максимович, привлечённый криками, наблюдал за нежданным представлением.
Фомка, одной рукой продолжая держаться за нос, взял в другую руку ту самую пищаль с нарочитым замком и кивнул стрельцам:
– Подхватывайте вещички и айда за мной, – после усмехнулся Елисею. – Видишь, как бывает: в Тобольск тебя в кандалах привели, а теперь вон – сотник хвалит.
– Да ну тебя… – отмахнулся Елисей, навешивая за спину котомку, накидывая пищаль на плечо. Свободной рукой подхватил единственный на весь отряд бердыш (зачем они тащат этот большой, не очень удобный топор с самого Тобольска было не понятно, но Фомка настаивал, что бердыш им необходим жизненно).
Стрельцы разобрали оружие, подняли торбы и зашагали по утоптанному снегу за своим десятником. Осип кузнец проводил их взглядом, вздохнул и пошёл через ворота в посад, где много лет назад он поставил свой двор и кузню в нём. Караульные вернулись на стену, и острог снова зажил своей жизнью.
Сурова и часто неприглядна эта острожная жизнь. Аманаты – случай не особенный. Коль не желали местные ясак по-доброму платить, брали из семей родовой старши́ны людей в тали или иначе в аманаты – заложники. Кого силой в поло́н забирали – детей или братьев иногда и жён, до времени пока князцы на сговор пойдут, а кого те по согласию отдавали. Могли о перемене условиться – в этот год одни в остроге поживут, в другой год новых аманатов подвозите.
«…аманатов… в остроге велети кормити государевыми запасы и беречи накрепко, посадя их на особом дворе, где пригоже за сторожи, чтоб они из ocтрогу никуды не ушли…». Жили такие пленники в каждом месте по-разному. Где – на правах почётного гостя: с достойной стражей, со свободным выходом-входом, и харчем с воеводского стола, а где как шпынь ненадобный – под замком, а то и в кандалах… и прокорм тем, что добрые люди подадут. «Переимали нас, сирот твоих, в аманаты, в твоей государеве избе… и морят нас голодною смертию безвинно…». Здесь уж от воеводской воли и возможностей острога много зависело, да и родне надлежало сговорчивей быть – не подбивать людей на бунт, не стеснять в движении торговые караваны и ясак, чем договорено, давать… Резко? Строго? Не без того, но так и жили – ни себя, ни чужих не жалели. Не для праздности в такой дали крепость возводили – для большого Государева дела!
Поздей Петрович, поднялся по ступенькам к подьячему, остановился рядом и опёрся локтями на ограду крыльца:
– Видал? Ялым уж который раз бежит. На цепь сажать его надобно – почто сняли?
Сотник помолчал, будто ждал чего-то. Затем кивнул в сторону, где в другом углу острога за остальными постройками стоял большой воеводский двор:
– Этот тюфяк думает с его братцем полюбовно столковаться? Что молчишь, Максим? Задумали что? Уж мне бы поведали – не последний же человек.
– Есть мыслишка.
– Сейчас в посад схожу, у Осипа щипцы возьму. Погорячее возьму и стану, этими самыми щипцами, из тебя ответы тянуть. Долго тянуть – вот, сколько ты мне теперь отвечаешь, столько и я буду тебя тиранить!
– Ты ж поутру уходишь? – подьячий, будто не заметил колкости. – Вернёшься, и всё тебе откроем, а пока не готово ещё. Не о чём поведать.
– Вот не знал бы тебя… решил бы, что дурак ты набитый, а так… Верю – и вправду задумали что-то. Я провожу Якова Ефимовича аккурат до Оби и стрелой назад. В две-три недели обернусь – вот тогда всё узнаю. Без меня в остроге неча дела заводить. И ещё вот… Ты уж жди меня – будет к тебе разговор большой… – несмотря на Перминова, сотник положил ему на плечо руку и, спустившись по скрипучим ступеням, прошёл прочь со двора. Мимо него, путаясь в длинных тулупах и ругаясь меж собой, спешили в Съезжую избу острожные купцы.
4
Отец Иона сидел на краю лавки у стола на снятом и подложенном под седалище, потрёпанном, тулупе и медленно попивал предложенный хозяйкой горячий узвар из собранных осенью и высушенных, душистых груш. Стараясь не проронить даже каплю, он осторожно черпал деревянной кружкой из, стоящего на столе и обёрнутого чистой тряпицей, котелка парующий напиток и так же бережно переливал его в маленькую и красивую глиняную тарелочку. Затем, держась за эту тарелочку обеими ладонями и едва приподняв её над столом, робенько сёрбал вкуснейший нектар и, закрывая, после каждого глотка, глаза, наслаждался витающим ароматом.
В доме было уютно и благостно. Где-то в сенях слышны хлопоты, а в натопленной горнице, где блаженствовал этот худенький монашек, было тихо, лишь потрескивали дровишки в печи и иногда слышно, как вздыхал во сне свернувшийся у него на коленях котик. Маленькая, коряво писаная иконка Богородицы в красном углу убрана расшитым цветами и птицами рушником; горела под иконкой лампадка. На каждом окне занавески, на лавках вдоль стены мягкие подушечки. Светлый и тёплый дом. В нём видны радения хозяйки, её забота о чистоте, удобстве и сохранении покоя.
В соседней комнате захныкал малыш, и монашек испуганно поднял голову. Распахнулась в светлице дверь и заботливая мать, бросив дело, спешила утешать своего малютку. Тот быстро затих, и она, пройдя назад в сени, будто извиняясь, улыбнулась по пути отцу Ионе и вернулась к своему занятию.
Дом большой – немало комнат, светлица, горница, подклеть. Это был дом Алексеевского стрелецкого сотника. Стараниями его молодой жены Ольги Андреевны ничто не указывало на то, что именно здесь обитал этот огромный, изуродованный шрамом буян и выпивоха. Всегда сытно, чистенько, в холод – натоплено, в жару – проветрено. Хозяйка весь день старается, работники не балуют – каждый при деле. Хозяин, коль приходит и занимает своей огромностью весь дом, сам бочком-бочком, чтоб полы не пачкать и уют не нарушить, присядет на лавку и ждёт, когда жена выпорхнет и накормит. Ну, уж во хмелю если… а то и с весёлыми товарищами, то всё им будет подано, а опосля за ними убрано. Муж на лавку уложен, тулупом овчинным укрыт, корыто под лавкой на случай какой неприятный… Не узнать Поздея Петровича, при жене!
Сейчас хозяин делами занят, дома к вечеру появится, а хозяйка острожного священника в гости позвала. Муки для просфорок ему собрала, узваром угощает. Дверь в сени снова открылась, и Ольга Андреевна тихо вошла в светлицу. Сперва, заглянула в комнату, где спал её сын, затем вернулась к столу и села напротив отца Ионы, прилежно сложив руки на столе:
– Напрасно вы, батюшка, обедать отговариваетесь. Я уж приготовила – не побрезгуйте, – улыбнулась.
– Нет-нет. Идти надо. Мучицу, что ты сложила, надо к матушке Агриппине занести – ждёт уж.
– Как Ангел ваш?
– Слава Богу! Вы оба у меня в ангелах значитесь!
Улыбнулась сотница, улыбнулся ей отец Иона, встал, снял цепляющегося когтями за поношенную рясу котика, засуетился, собираясь, когда послышался настойчивый стук с улицы в двери, и тонкий женский голос надрывался:
– Ольга Андреевна, впусти меня,… он опять начинает…
Ольга Андреевна спешно вышла в сени, плотно закрыв за собой дверь, и впустила гостью. Отец Иона слышал их тревожное перешёптывание, слышал чьё-то всхлипывание. Он не решался выйти, сел растерянный на лавку и, подложив под себя руки, закачался вперёд-назад, стараясь не прислушиваться к происходящему. Так и сидел, качаясь, когда Ольга Андреевна вошла и, немного помявшись, обратилась к нему:
– Батюшка, простите меня! Давайте вы позже зайдёте, а я к тому времени и вам припасов соберу.
– Да я и вправду засиделся – ждёт же… – отец Иона поспешно встал, вышел из-за стола, быстро втиснулся в свой тулупчик и, накидывая на плечо котомку с собранной хозяйкой мучицей, пошёл к выходу.
Проходя через сени, он встретил Дуню, дочку осевших при остроге промысловиков Чуркиных. Поднялась её семья на соболе: поначалу сами ловушки-кулемники ставили, а теперь уж и доставку ясака с нескольких родов на откуп получили. Глава семейства, Пётр Игнатьевич, набрал-прикормил отрядец из лихих людей – проворачивал с ними свои делишки; жена, Феодосия Досифеевна, большая во всех смыслах баба, не чаяла души в сыночке Фёдоре, диковатом и нелюдимом детине; и младшая дочь Евдокия – Дуня. Она-то и стояла теперь в сенях у Фирсовых, отвернувшись от отца Ионы к стене и опустив голову, тихо всхлипывала. Батюшка, было, остановился, привычно желая утешить страждущего, но под руку его подхватила хозяйка, настойчиво выводя священника из дома и далее за ворота.
– Батюшка, – умоляющим взглядом смотрела на отца Иону Ольга Андреевна и совала ему в руки его же волокушу – позже приходите, я Макара пришлю… – и побежала в дом.
Отец Иона переложил котомку с мукой на волокушу, подхватил их под руки и направился по узким посадским улочкам к речке Мельничной, где матушкой Агриппиной, несколько лет назад, был заложен женский монастырь.
Матушка Агриппина была уже старая, ходила с трудом, но в меру оставшихся сил ещё лепила для церкви просфорки. Безнадёжным делом стала её попытка создать в этих глухих местах женскую обитель – где баб то взять? Те, что были при ней сперва, две убогие вдовицы, быстренько померли, и осталась матушка одна.
А в начале – сколько суеты навела старая игуменья в остроге! Словно ворона, в своей чёрной рясе и таком же клобуке, летала она по окрестным дворишкам да зимовкам, впечатляя рассказами о великих знамениях и грядущих последних временах, ве́домых ей от многих и многих, чтимых за свои духовные подвиги, старцев; о живущем среди людей антихристе, который уж готов явиться в царском обличии и славе неземной и соблазнять ко греху маловерных; об ужасных страданиях телесных и мучениях духовных, что следуют за нечестивцами, отступившими от Слова Божьего; о геенне огненной, где «плач и скрежет зубовный». И пугала немногочисленных Алексеевских бабёнок, что только «отречась от соблазнов мирского жительства и отринув всю телесную суть и скудные мужнины радости» можно спасти свою бессмертную душу, «непрестанной молитвой и трудами иноческими, уязвляя плоть во все дни…».
Бабёнки пугались, набожно крестились, жались друг к дружке, внимая апокалиптическим речам матушки Агриппины, но не спешили попадать в раскинутые ей сети: «Когда он придёт ещё этот конец света? Жди его. У нас и сейчас дел невпроворот. После отмолимся – успеется». Так ни одна девица, ни одна вдовица, не пошли в обитель матушки, громко названную ей «Христорождественской». Порыскав по округе и не найдя отклика на свои устремления, старушка сосредоточилась на собственном духовном подвиге, как и проповедовала: «… молитва и труды иноческие…». Обжила брошенный кем-то дворишко. Поправила ограду-плетень, починила, как смогла, печку. Добрые люди не оставили матушку – подкидывали и пропитание, и дровишки подвозили, а она им от себя вспоможение: помоли́ться за кого или за больным приглядеть… ну, или ещё что. А как храм в остроге вырос, и отец Иона к службе приставлен был, так воспарила духом матушка Агриппина, посвятила себя ещё и прихра́мовым трудам. Только вот старость о себе напоминала всё чаще, ноги подводить стали – находилась матушка по холодной сибирской земле, настоялась на ней коленями. Вот и просфорки уже не при храме лепит, а у себя в обители, потому и спешит к ней отец Иона – мучицу от Оленьки Фирсовой тащит.
Солнце перевалило далеко за полдень – воздух уже слегка подхватывал морозец, а отец Иона, погруженный в свои беспокойные думы, семенил по сияющему серебряным бисером снегу, царапая его своими волокушами. За посадом, на отдалённом пригорочке, показался дворик матушки Агриппины: три укрытых снегом и потому похожих на пряники, домика. К нему уже протоптанные кем-то следы… Отец Иона заторопился, предчувствуя встречу.
Ворота у обители были… такие, как и весь забор, сплетённые из тонких веток. Неудобные – как ограда ещё, куда ни шло, а как ворота… потому когда-то распахнутые, видимо покидавшими двор прежними хозяевами, они так и остались навсегда открытыми, изогнутыми – придавленные временем… а зимой ещё и снегом. Его-то и откидывал высокий тощий мужик в распашном подшитым облезшим мехом (по виду сразу и не понять – то ли волк, то ли собака) кафтане с короткими, но широкими рукавами. Цвет кафтана не разглядеть теперь – что-то тёмное (возможно оттенок бордового или фиолетового), он, по-видимому, и перелицовывался не раз. Под верхним кафтаном другой кафтанчик – не по-русски куцый, тесный, затянутый на многие пуговицы, тоже цветом не пойми что; широкие серые штаны по колено, крупно связанные чулки-ноговицы и нелепые ко всему этому наряду, но обычные для здешнего уклада унты. Мужик, улыбаясь и источая пар, лихо размахивал деревянной лопатой, откидывая от ворот наметённые сугробы. Такой же вязки, как и чулки, серый шарф, намотанный на шею, разболтался и длинными концами путался в руках, мешая работать. Шапка сбилась на затылок, освободив длинные соломенного цвета, намокшие от пота, волосы. А мужик всё грёб – грёб и улыбался!
Из двери пряничного домика, единственного над дымником которого сочился жиденький дымок, то и дело выглядывала матушка Агриппина и причитала:
– Ванька, брось! Умаялся уже! Брось, окаянный! В трапезную иди – остынь! Ванька! – затем снова скрывалась за дверью.
Ванька – Юхан Якобсон Кнорринг, немец из шведских пленников – был непутёвым потомком той линии рода Кноррингов, некогда владевших богатыми поместьями в Курляндии, которая осела в Швеции и получила там баронский титул. Так случилось, что не увлекали его ни военная, ни дипломатическая служба, да и поместьями семейными заниматься молодой Юхан не желал – помноженное на юношеский максимализм желание облегчать страдания людей привело его в Хельмштедтский университет Стокгольма, где он начал изучать медицину. Папаша разгневался, проклял сына, призвав на его голову всевозможные кары, но нежная сердцем мамаша не оставляла его и подкидывала серебряных марок и далеров на оплату профессоров; а он, гордый, брал их с лицом отстранённым, будто и без этих «подачек» обойтись способен. Кроме медицины увлёкся теологией и под влиянием профессора Георга Кликста пускался в пространные рассуждения о бытие человеческом и Божьем. Но бурная студенческая жизнь (та самая – с хмельным разгулом и шпагами) всё же привела его на встречу с рекрутёром славного короля Швеции и Великого князя Финляндии Густава Адольфа. Рекрутёр, видимо впечатлённый тем, что перед ним стоял, покачиваясь, настоящий лекарь, да ещё и потомок известного рода, так расписал ему прелести службы в отряде наёмников, и их нужду в собственном врачевателе, что Юхан сразу согласился на все предлагаемые приключения. Покорение дикого и необузданного народа, проживающего на несправедливо большой территории на востоке, показалось Юхану достойной задачей, а приобщение суровых варваров к цивилизации, делом достаточно благородным и к тому же гуманным. Вот ведь отец гордиться будет, а нежная сердцем мамаша смахнёт платком слезинку, встречая вернувшегося домой прославившегося на чужбине сына!
В июле 1614 года, лекарь-недоучка в войске коменданта Кексгольма Ханса Мунка, отправился из Куркиёки к озеру Пюхяярви, но по пути, в битве при деревеньке Ристилахти, был захвачен и увезён в неволю, по зеркалу Онежского озера, в одной из русских лодий. Затем пешком до крепости Олонец, оттуда в разорённый два года назад ляхами Белозерск… Вологда, Ярославль, Нижний Новгород. И так всё дальше и дальше в самую глубь, теперь уже пугающей своими размерами, России.
Пока его, пленного, таскали по городам и городкам, Юхан Якобсон (или по-русски Иван Яковлевич, но чаще – Ивашка-немчин) по мере полученных за те несколько лет учёбы в университете, медицинских знаний и, поддавшись на данное природой желание помогать ближнему, когда-никогда подлечивал осмелившихся довериться «проклятому вражине» да к тому же «люторцу». Особенно хорошо ему давалось отнятие поражённых конечностей: аккуратно распиливал он кости, заворачивал плоть и сшивал искусным швом – как учили. Аптеки, разумеется, никакой у него не было – собирал травки, варил мази, выпаривал разную плесень, колдовал над настойками. «Так он ещё и колдун!» – пугая его, говорили вокруг. Так и сделался Иван Яковлевич настоящим лекарем – хоть и не так он себе эту работу представлял.
За девять лет переходов по Русской земле, когда он уже потерял представление о своём географическом положении, судьба привела его в Астрахань, а оттуда в обозе нового воеводы Якова Хрипакова он и пришёл в Алексеевский острог.
Стоит добавить, что в этой безумной стране бородатых варваров в теологические споры с ним никто не пускался, а сразу били: «Что этот немчура в Древнем Православии понимать может!», но в Алексеевском остроге Иван Яковлевич, неожиданно для себя, всё же встретил собеседника, да не абы какого, а самого пастора упрямых схизматиков!
– Бог в помощь! – отец Иона осторожно остановился за спиной ретиво размахивающего лопатой лекаря.
Иван Яковлевич дёрнулся от неожиданности, обернулся и, увидев отца Иону, улыбнулся:
– Тратвуй, fader! Што пришёл? – поставил на снег лопату и оперся на неё.
– К матушке заглянул, а тут ты. Как со здоровьем-то? Отчего в храме тебя невидно? – подначивал лютеранина отец Иона.
Тот с удовольствием принял предложенную игру:
– Иконы ваш церков – суть идолы.
– Так откуда у нас иконы-то? Где взять? Нет ничего. Так что, если только иконы тебя пугают, можешь приходить. К тому же, каиновый сын, Лютер иконы не запрещал! Приходи – а?! Хоть на настоящей службе побываешь!
Засмеялись. Немчура положил руку схизматику на плечо, на своё закинул лопату, и по-хозяйски повёл батюшку к дому. На пороге он обернулся, и удовлетворённо вздохнув, осмотрел двор:
– Сё сделал!
Работа проделана знатная – снег долго не чистили, потому его было так много, что откинутый в сторону он закрывал плетень и не видно теперь ограды вовсе.
– Ещё будет, – подмигнул немец отцу Ионе. – Иди дом. Mor Агриппина просит тепер.
Эту, самую маленькую, избушку матушка Агриппина определила под трапезную ещё тогда, когда теплилась надежда на создание полноценной обители. Но когда игуменья осталась одна, пришлось ей сюда переселиться: много ли старухе надо? И вот уже трапезная – это и молельная, и погреб, и сарай… и келья тоже. А когда ноги отказывать стали – стала избушка и просвирней. Правда изнутри она больше походила на дом какой-нибудь лесной ведьмы. Темно – два малюсеньких окошка, под самым потолком, не давали света. Обычные же окна были наглухо заколочены ставнями. Только маленькая, с полукруглым верхом, открытая печка своим огнём освещала один из углов. Вязанки различных сушений: грибы да ягоды, пахучие травы, что насобирала матушка, пока были силы, свисая с потолка, отбрасывали многочисленные тени. Какие-то горшочки, кувшины, ступы и ступки, туески и коробы, заполняли навешанные на стены полки. Можно подумать, что матушка забарахлилась и осудить её, грешным делом, за неопрятность, но вся беда в ногах – ходить было нелегко, вот и стащила старушка всё имущество обители поближе к себе, вот и заполнила им всё пространство своего жилья. Зато большой стол, на котором матушка лепила просфорки, всегда содержался в чистоте. Когда-то он стоял в центре, а теперь, сдвинутый в угол, был единственным не заставленным ничем местом.
Когда лекарь и священник вошли, матушка сидела на низкой и длинной лавке возле печки, помешивала варево из различных круп в котелке. Дым уходил в дымовое оконце – хорошо сложена печка, в правильном месте сложена.
– Отец Иона, ты снова не задержишься? Всё дела?
– Задержусь, матушка. Как стемнеет – пойду.
Матушка улыбалась – не часто к ней люди заходят.
Иван Яковлевич помог занести котомку с мукой в дом, отец Иона, оставив волокушу снаружи, последовал за ним. Внутри Иван Яковлевич домовито суетился: нашёл миски, деревянные ложки. Попробовав на вкус кашу – ту, что матушка помешивала в котелке над огнём, подсолил её, достав из кармана соль, бережно завёрнутую в тряпицу; после чего снял котелок с подвесного крюка и принялся раскладывать содержимое на три миски. Увидев это, матушка схватила поставленную к ней миску и, перевернув её вверх дном, накрыла рукой:
– Ты что ж это, Ванька, делаешь? От Бога меня отвратить хочешь? Ты крупу принёс – тебе и есть. Отца Иону вон, потчуй, а у меня нет на то благословения!
Иван Яковлевич и отец Иона удивлённо переглянулись – они давно уж знали причуды игуменьи, большой подвижницы, но всякий раз согласиться с её пониманием праведной жизни было не просто:
– Матушка, вот зачем себя так истязать? Поберегла бы силы. Я тебя на такую аскезу не благословляю, – сокрушался отец Иона.
– Мне, батюшка, твоё благословение и не надо – меня в Вологде преподобный Иосиф на этот путь наставил, вот по нему я и ковыляю, – отвечала ему матушка Агриппина.
– А што, твой Gud желат твой смерт из голод? – удивлялся Иван Яковлевич.
– Тебе, Ванька, далеко до нашей христианской веры, – отмахивалась матушка, – я вон, сосновой коры перетру, мучицы добавлю, Исусову молитву сотворю – тем и сыта буду.
– Што я знат? – вздыхает. – Я… я жи люторес.
С усмешкой Иван Яковлевич вытер опустошённый котелок и, наполнив его водой, повесил над огнём:
– Я клюков принёс – кинул три больших жмени ягод в котёл, – осень сушит. Клюков пить будешь? Gudпростить?
– Пить буду, – посмеивается матушка.
– Ну и, Слава Богу – качает головой отец Иона, и они рассаживаются на длинной лавке возле печки, той самой, которая у матушки ещё и постель.
Тихая беседа: о Божьем промысле и о воеводской корысти, о великих праведниках и о стоптанных задниках, о падении нравов и о полезных травах…
За окном уже темно – недолог зимний день. Пора… пора и расходиться.
Мерцающие звёзды на чёрном безмолвном небе да низко висящий хрупкий серп луны освещали обратную дорогу. Впереди отец Иона снова волокушами скребёт снег, ему в след осторожно ступает длинный лекарь-немец – из шведов. Темнеют острожные стены, только на раскатах башен горит огонь в железных чанах. Ворота заперты на ночь.
В посаде им навстречу вывалился из кабака Васька Сумароков. Покачиваясь, прохрипел отцу Ионе: «С немчурой знаешься отче? »… – и повалился рожей в снег. Лютеранин и схизматик посмотрели друг на друга, затем, вздохнув, подняли под руки тяжеленое захмелевшее тело и поволокли его назад в кабак – чтоб не замёрз зимней сибирской ночью. После чего распрощались: Иван Яковлевич, остался коротать времечко за тёплым русским пивом, а отец Иона, постояв немного, вышел наружу и направился к себе в зимовье – ему далеко ещё идти.
5
– Так, Максим Максимович, доставай бумагу. Мы сейчас с тобой одну челобитную государю отпишем, ту, о какой я тебе с утра говорил, а Яков Ефимович её и отвезёт. Отвезёшь, Яков Ефимович?
– Отвезти-то отвезу, только не с этим я к тебе зашёл.
– Оно и понятно – ты этому острогу уж два годка отдал… расставаться тяжко.
Подьячий уже выложил на стол из сумки пачку бумаги, поставил и раскрыл бронзовую, похожую на маленький штоф, чернильницу, украшенную литым всадником с горном. Теперь проверял и оправлял ножичком гусиное перо и привычно делал вид, что никакие разговоры его не интересуют. Горящие лучины, зажатые в расставленные по всем углам светцы – кованные, затейливо изогнутые подставки – не давали достаточного, по мнению Андрея Леонтьевича, света, потому он торжественно поставил на стол ещё и деревянный подсвечник в три толстенных свечи. Расточительство!
Покряхтев и побарабанив пальцами по краю стола, он кивнул подьячему:
– Пиши: Государь! Я… мол, воевода… тебе пишу. От себя, Максим, тоже напиши…
Максим Максимович удобно устроился, макнул перо в чернила и старательно вывел: «Царю Государю и Великому князю Михаилу Фёдоровичу Всея Руси Самодержцу бьют челом холопи твои воеводишка Андрюшка Шубин, подьячий Максимка Перминов…»
– И Поздея впиши…
«… сотничишка Поздейко Фирсов и во всех Алексеевских служилых людишек и пашенных людишек, и торговых людишек тож…»
– Воевода, ты от разговора не уходи!
Яков Ефимович не желал терять время и ждать, пока воевода с подьячим закончат свои дела:
– Я же тебе совет хочу дать – уж не побрезгуй! Человек ты важный – шапку не на пустое место надеваешь, только дело моё не одного тебя касается…
– Ты о чём? Острог держим в строгости. Порядок, царскими указами определённый, соблюдаем. Что тревожишься? – теперь уже к подьячему, – Максим Максимович, напиши, что жизнь у нас тяжёлая…
«Мы, холопи твои, в Алексеевском остроге, всякие твои Государевы службы зимою в нартах, на лыжах, а в лете ходим на шесте и на весле и на стругах и на кочах безпрестани… А такова Великий Государь места нужна и бедна, что Алексеевский острог, служеб таких нужных и жестоких во всей государевой вотчнине нет».
Яков Ефимович терял терпение:
– Воевода, ты бросай увиливать, я же дело сказать хочу…
– Так я же слушаю… – воевода, словно нехотя, повернулся в сторону и, медленно набрав воздуха, выкрикнул, – Катерина!
Из-за двери соседней комнаты выглянула молодая рослая бабёнка и игривыми глазами оглядела мужчин. Поговаривали, что сманил её воевода с собой, когда перебирался из Тюмени в Алексеевский острог; что бросила она ради него и мужа и остальную семью; а ещё говорили, что свёкр сам её продал Андрею Леонтьевичу.
– Катерина, принеси нам что ль, согреться. И яблочек мочёных принеси… а ты, – воевода повернулся к Перминову, – впиши, что польза от нас большая!
Подьячий понимающе кивнул, макнул перо и склонился над бумагой:
«И те, Государь, жестокие и нужные службы служим безпрестани, и в новые землицы по твой государев ясак ходим, и про новые землицы проведываем, и под твою Государеву Высокую руку приводим, и всякие твои государевы изделья делаем: острог дочиниваем, чтоб от тунгуса и других людей береженье держать, чтоб пришед безвестно, дурна ни которого не учинили. Кочи и струги, для твоей государевы службы делаем, и всякие государевы изделья делаем безпрестани…».
Андрей Леонтьевич неспешно размотал длинный кушак и облегчённо выдохнул:
– Ну, давай, Яков Ефимович, о чём тревожишься напоследок? Сказывай – не томи.
– Дело моё не одного тебя касается. Много трудов было положено, чтоб острог в такой вид пришёл, в котором ты его от меня принял. И дела, которые мы тут с тунгусами делали, не последнюю важность имеют. Знаешь, как этот острог в начале звался? «Тунгусский». Потому что против тунгуса его и закладывали. И тунгусские ясачные волости теперь первое дело…
– Ты о Ялыме? – перебил Хрипакова воевода.
– О нём. Ведь с каким трудом его изловили. – Яков Ефимович выразительно, желая добавить веса своим словам, покачал головой. – Теперь хоть есть надежда, что братец его Тасей, бунт свой и дела воровские прекратит. Под Государеву руку вернётся и…
Воевода поморщился – уж слишком велеречиво начал Яков Ефимович:
– Полно тебе, Яков Ефимович, слова как по писаному выкладывать – не в боярской думе сидим. Ты вот о чём подумай: Ялым у тебя в аманатах уж, какой месяц сидит? С осени ещё, а тунгусы только знают, что безобразничать. Тасей на мировую идти не хочет никак. Сколько отправляли к нему: лаской просили, отряды посылали… вон, братишку на цепь посадили, а развязки невидно. Нет уж, Яков Ефимович – тунгусы теперь моя забота!
В комнату, высоко подняв голову, вплыла разодетая Катерина. На блёдую (бледно-жёлтую) рубаху с длинными, собранными в богатые складки рукавами, поддержанными на кистях бронзовыми чеканными браслетами, надета распашная, до полу замкнутая на стеклянные пуговицы, ярко-красная однорядка. Поставила на стол штоф, оловянные рюмки гостям и серебряную воеводе; глиняную черепушку (миску) с запрошенными воеводой мочёными яблоками поместила также перед ним; развернулась, взмахнув рукавами однорядки, и так же, с поднятой головой, скрылась в другой комнате.
– Вот гусыня… – ощерил зубы довольный её выходом воевода, – С боем мне досталась. Теперь вишь какая – важная!
Налил себе, Якову Ефимовичу. Подьячий отказался, накрыв свою рюмку ладонью, в которой держал перо – работая, винишком не баловался. Выпили. Выдохнули. Потянулись пальцами за яблоками.
– Ты, воевода, зря горячишься. Когда Ялым сбежит – а он сбежит, коль на цепи сидеть не будет – с тунгусами станет трудно договориться.
Воевода встал. Подошёл к подьячему и заглянул в его бумагу:
– Толково пишешь – со вкусом!
Затем вернулся и сел на прежнее место:
– Вот люди сказывают, что Ялым у острога несколько лет околачивался; что и соболя с промысла приносил – не только, что по ясаку положено, но и сверх того на торг давал; что по-нашему говорить наловчился; и живёт он с нами не как тунгус – а совсем как свой; и взять его не великая победа была – сказывают, что возле Чуркиных он крутился, а ты его обманом и сграбастал. Разве больших трудов это стоило? Недоросль за девкой бегал, а ты его с целым отрядом взял. И на цепь!
– Тунгусу верить нельзя! – рявкнул Яков Ефимович.
– А ты и не верь. Только толку с Ялыма как с аманата сейчас уж никакого. Может Тасей и не дорожит им совсем? Может для него он чужой, раз с нами якшается? А ты его на цепь…
– Так ты его отпустить, что ль решил?
– Ну, отпустить тоже теперь не совсем верно. Теперь он для нас скорее враг… твоими, между прочим, стараниями. На цепи держал? Держал. Голодом морил? Морил! Говорят… говорят, что и посох на нём сломал…
Воевода выбрал самое маленькое яблочко, взял его аккуратно тремя пальцами и положил целиком в рот. Закрыв глаза, медленно прожевал. Икнул и повернулся к Перминову:
– Теперь пиши, что церковь есть, а утвари в ней нет – в других церквях есть, а в нашей – нет. Вот так и пиши. И про крещёных остяков обязательно укажи!
Максим Максимович снова макнул перо в чернила: «И поставили в остроге церковку Введения Богородицы, ради твоего Государева моления. И молимся в ней о твоём здравии ежечасно, все убогие рабишки твои и служилые людишки и пашенные, молимся в ней беспрестанно. И новкрещённые вагуличи и татаровя и остяки кто в этих здешних местах обретаются молятся о твоём Великий Государь здравии… Алексеевский острог место украйное, дале того места во всей Сибири нет, да мы холопи твои пред иными сибирскими городами предосужены. Нет при нашей церкви ни книг богослужебных ни святых икон. Не на чем службу служить ради твого Государь имени. Молим тебя Великий Государь Михайло Фёдорович, пожалуй нас убогих рабишек твоих и вели прислать что для церковного моления надобно. Пожалуй Государь за наше службишко и за кровь и за работу, чтоб холопем твоим будучи в Алексеевском остроге твоей государевой службы не отбыть. Царь-Государь смилуйся пожалуй. Писано24-го дня генваря месяца 134 года».
– А ну-ка бумагу передай… и перо тоже.
Воевода потянулся через стол и принял от подьячего принадлежности для письма. Пробежав взглядом по выведенным строчкам, в самом низу челобитной он сделал приписку: «Воевода Андрюшка Шубин руку приложил».
Передал бумагу назад подьячему:
– Сам подпиши… и от остальных тоже черкани. Только, чтоб несильно похоже было.
Вздохнул:
– Ты, Яков Ефимович, много для этого места сделал – не поспоришь. И ясак собирал, и острог переделывал. Вот округу держал жесточью, а по государеву указу следует делать это лаской. Потому ты с Ялымом и попался – теперь мне об этом думать.
– Лаской говоришь? – Хрипаков зыркнул на воеводу исподлобья. – Ты думаешь, я по злобе свирепствую? С подлыми людишками иначе нельзя – каждый тебя сожрать может. Чуть слабинку видят, тут же нож под ребро! Пашенные всё норовят на неурожай списать, торговые на плохую торговлю, служилый народец ленится, а тунгусы… Тунгусы народ боевитый их только силой обламывать следует. Сколько родов я под государеву руку привёл? Сколько путей новых разведал – это ты знаешь? И в Братской, и в Тюлькиной, и в Тубинской землице! Лаской думаешь?
Яков Ефимович вскочил, грохнув обоими кулачищами в стол:
– Да что бы я там без сабель да пищалей сделал?!!
Воевода вздрогнул, а Перминов, аккуратно закрыв чернильницу и как обычно, не поднимая глаза, тихо заметил:
– Зачем шумишь, Яков Ефимович? Тебе-то что теперь? Теперь с нового воеводы спрос будет, и за тунгусов, и за новые земли.
Яков Ефимович свысока гневно посмотрел на дерзкого подьячего, но тот знал, в чём его сила.
– Ежели ты за недоимки переживаешь, – не глядя на Хрипакова, рассуждал подьячий, – что на тебе по учётным книгам насчитаны, то это дело не большое – я всё сделаю. Поезжай с Богом!
Хрипаков, раздувая ноздри, ещё какое-то время смотрел на подьячего, затем, видно совладав с охватившим его раздражением, сел на лавку.
Максим Максимович, дописав челобитную, свернул её, вложив в футляр из толстой кожи, передал Хрипакову. Тот задумчиво принял её, покрутил в руке и еле слышно буркнул:
– Значит, не договорились. Ничего – Фирсов за вами присмотрит пока я возвернусь.
С этим он встал и, не прощаясь, вышел, хлопнув за собой низкой, но тяжёлой дверью.
– Катерина! – Крикнул воевода. – Накрывай уж!
Перминов уже уложил свою сумку, немного помялся:
– Андрей Леонтьевич, может, по весне дашь мне людей да пойду я в тунгусы или даже в Братскую землю? Да всё одно куда идти! Тошно мне что-то в остроге сидеть. Надоело! Яков Ефимович упрямился – так может, ты отпустишь? Устал я от этих бумаг, чернил, перьев! – Он положил ладонь на закрытую сумку. – Воли хочу! В тайгу хочу!
Воевода пристально смотрел на внезапно взбунтовавшегося подьячего. Молчал.
– Пойду я, Андрей Леонтьевич, – не дождавшись ответа, Перминов встал и закинул ненавистную сумку на плечо, – мне ещё избу закрывать.
С тем и распрощались.
Максим Максимович сперва направился в съезжую избу – там согнал с лавки, заснувшего было, старого писаря, при деятельном Перминове превратившегося в служку-истопника; закрыл на огромный замок дверь – ключ себе за кушак; зашагал широким шагом мимо сонного стрельца, открывшего ему маленькую калитку в воротах, мимо тёмных спящих дворов с иногда мелькавшими в, затянутых бычьим пузырём, оконцах отблесками лучинок, прямиком на гудящий кабацкий двор.
6
В России между государством и разномастными винокурными заводами да «кружечными дворами» всегда были непростые отношения. Беспокоило, знаете ли, человеколюбивую царскую власть общее падение нравов, которое, безусловно, связывалось с этими берлогами различного порока. Тут тебе и карты – сатанинское служение (нет, чтоб в храм сходить и моли́товку за царское здоровье сотворить), и мордобой с поножовщиной (разве не на государевой службе или пашне следует силушку показывать?), и «блядни», конечно (куда ж без них) – Прекратить! Немедленно прекратить!
Вместе с тем выделка различных вин или, как говорилось – «винокурение», было предметом немалого дохода. Корчмари богатели на людском грехопадении и потому вызывали стойкое желание этот процесс контролировать. А что поделаешь?! Пусть лучше эти несчастные «питу́хи» свою копеечку на государево дело принесут, а не зазря «продуванят». Уж если пьянство не побороть, может и не стоит гнушаться выгод от него.
То запрещали великие князья да цари частные корчмы и винокурни, то разрешали, разными способами стараясь получить с этого побольше выгод в казну. Чего только не придумывала власть, чтоб не упустить такое выгодное предприятие: бывало, даже вне корчмы вообще пить запрещают, а вино варить уж только под государевым присмотром. Только люди всё одно уловки находят, чтоб ни один грошик казне не достался.
И так вертятся государевы люди и этак… Очередной раз, не сумев решить, как следует поступить лучше, завели кабаки царские – те тоже были не одинаковые. Одни заводили «на вере» – позволяя местным выбрать промеж себя человека подостойней и принуждая его давать особую клятву (вести дело честно, боясь гнева Господнего и Царского) при этом целуя крест, отчего и получал такой человек прозвище «целовальник»; другие же попросту давали «на откуп» – позволяли в принадлежащем Государю кабаке вести дела лицу частному, выплачивая в казну немалые, но строго указанные суммы. И конечно из недоверия, над всем этим ставили ещё и Кабацкого голову. Тот проверял специальные «кабацкие книги», следил, чтоб мужички вино по домам не варили и вне означенных мест не распивали, при этом денежку с зерни, карт да девок тихо делили с целовальниками да кабатчиками, считая это своим маленьким кормлением.
В Алексеевском остроге государев кабацкий двор был доверен целовальнику Филимону Михайлову – человеку в комплекции тучному, в словах льстивому, в суждениях грубому. Целовальником он был записан давно – ещё до Якова Ефимовича. Никто не избирал его, конечно, просто так сложилось, что в острожном кабаке хозяйничает именно Филимон… или в глаза – Филька.
Как и происходило обыкновенно – здесь собирался разный люд. За самым шумным столом гуляли необременённые службой казачки – проматывали остатки добычи с прошлых походов, надеясь на новые. Галдели, перекрикивали друг друга, иногда пели – в общем, вели себя прилично. Если дать волю кулакам хотелось, вываливались толпой наружу – таков порядок, нечего остальному народу мешать. Служилые да торговые людишки места меж собой не делили, только если кто поважнее пришёл, тому Филька и угол посвободнее найдёт и протрёт стол перед ним засаленной тряпкой. Пашенные да остяки с вогулами жались поближе к выходу, чтоб не донимать своим видом людей более достойных. Впрочем, особых различий тоже не делалось – такова обыденность сибирской жизни – все здесь под одним Богом ходим!
Воеводы в кабак обычно не заглядывали, если что надо, то всегда человека пришлют – было им, где от трудов праведных отдохнуть. Большие люди всегда и везде живут по своему усмотрению. Вино в Алексеевском остроге разрешено было варить только Филимону. Пить – где душе угодно, но покупать… покупать только в кабаке.
Сам же кабак становился к каждому вечеру главным местом общения острожан, отдыха, обсуждения новостей. Кто-то пил, кто-то играл, кто-то спорил, кто-то спал, уткнувшись носом в шапку на столе.
Ивашка-немчин сидел за столом с двумя торговыми и слушал в очередной раз байку про Лама-озеро:
– Вот ты думаешь, Ермак в Сибирь с Кучумом воевать пришёл? Вот уж фигу тебе, – разорялся седой купчина, привстав из-за стола и сунув лекарю свёрнутые в дулю пальцы прямо в нос. – Знал он, знал атаман, что за Уральским камнем есть это Лама-озеро. Его и искало казачье войско. А побратима его, Ваньку Кольцо за то и убили, что про то место он проведал!
Иван Яковлевич, разумеется, и не спрашивал у купчины ничего, но тому было неважно кому выкрикивать овладевшие его хмельной головой мысли. Купчина легко переходил с одного застольника на другого. Вот уже он кричит в лицо подсевшему к интересному разговору Петру Чуркину:
– Что ты мне скажешь? Что нет никакого Лама-озера? А откуда тогда Строгановы богатства свои завели? На соли только? Ермак им всё натащил! И государю Ивану Васильевичу богатствами поклонился, тем и прощение за свои прошлые делишки и выпросил.
Щуплый Пётр Игнатьевич возмутился:
– Да что ты в рыло мне кричишь? Про Лама-озеро все знают, только где оно? Это ты знаешь?
Купчина замолк и сел, качая пьяной головой, уткнулся взглядом в стол – он не знал… Никто не знал.
Лама-озеро место легендарное, в том смысле, что и о месте его нахождения и о том богатстве, которое лежит вокруг него, ходили легенды. Одни утверждали, что слышали о нём от своих отцов, другие – от великих праведников-пустынников, кои за своё духовное подвижничество узнали о нём от самих ангелов, третьи доказывали, будто бывали там сами. Лама-озеро было чем-то вроде библейской «земли обетованной» – туда стремились попасть и ждали от этого неземного счастья. Никто не знал где это, но каждый был уверен, что там горы, переполненные серебряными и даже золотыми жилами, а разного пушного зверя там столько, сколько до сих пор со всей Сибири не было собрано. От рассказчика к рассказчику сведения, конечно же, разнились: то золото не в жилах, а в самородках, то пушной зверь не весь в его округе живёт – только соболь с горностаем. Земля же – сплошь леса и равнины, никаких гор. Хочешь – хлеб засевай, хочешь – охоться. В самом же озере рыба – сплошной омуль.
– На восток идти надо, – очнулся купчина, – точно говорю. По Подкаменной Тунгуске на восток.
– Врёшь ты всё, – не верил ему Пётр Иванович. – На прошлую зиму ходил туда промысловый отряд. С питскими тунгусами жили – нет там ничего.
– Так они от устья на сто вёрст лишь отошли, – подключился второй торговый, Афанасий Казанцев, – дальше… дальше идти следовало.
– А другие говорят, что Лама-озеро стоит искать в верховьях Верхней Тунгуски, но там «брацкие люди» кочуют, не пройти там, – подключился к разговору Максим Максимович.
Афанасий не соглашался:
– Там есть ещё одна река большая, побольше даже Енисея. Тунгусы её Елюэнэ называют. Только волока на неё никакого нет. Если туда идти волок надо искать. И не бывал там из русских никто. Вот если по той реке вниз до устья пойти, то аккурат в Лама-озеро и попадёшь. Можно ещё по Подкаменной Тунгуске идти, только дальше надо – в самые верховья.
За соседним столом несколько стрельцов обговаривали завтрашние дела. Им предстояло отправиться вместе со своим сотником и Яковом Ефимовичем в Тобольск. Дорога была не простая: сначала к Маковскому острогу. Затем по занесённому снегом волоку перейти на реку Кеть. Затем мимо Кетского острога на Обь до Сургутского острога и уже оттуда по льду Иртыша в Тобольск. Предстояло нелёгкое дело. Нелёгкое и опасное. Десятник Фёдор Торопчанин, матёрый сибиряк наставлял своих подопечных:
– От устья Кети основной отряд дальше пойдёт, а Поздей Петрович назад вернуться хочет. Я с ним буду. Назад вдвоём идти будем налегке, чтоб быстрее было. А вам уж Якова Ефимовича провожать дальше придётся, может и до самой Москвы. Так что сейчас не пить вам здесь надобно, а идти бы и припасы, да всё остальное проверить.
Максим Максимович стоял рядом, от спора не отвлекался и язвил Афанасию:
– Елюэнэ твоя уже давно всем известна и называют её Лена. Ещё мезенские люди её нашли, а несколько лет назад и Пянда там был. Волока туда нет и вправду, но это дело наживное. Только и озеро какое-то огромное там тоже есть – Илья Тоболец да Ивашка Петлин рассказывали, что слыхали про озеро, когда к Алтын-хану послами ходили. Может это и есть Лама-озеро!
Услышав подьячего, десятник тоже вмешался:
– Не знаете вы, где искать… не знаете. Лама-озеро ещё дальше, за Леной. Огромное – что твоё море! Всё там есть… и золото, и другие руды полезные, а в самом озере выдра живёт, не чета нашей выдре – мех много гуще. И выдры той – не перемерено! А вокруг такие леса, где лоза по соснам вьётся! Вот так-то.
Взвыли какую-то заунывную песню перепившиеся казачки. Пели, обнявшись, о горькой казачьей долюшке, об острой сабле, да о молодой казачке. Что-то там было ещё о подлом атамане, но слова разобрать становилось трудно – будто некоторые казаки запели совсем другую песню.
Немец-лекарь, Иван Яковлевич, сидел за столом тихо, пил пиво (ему не нравилось русское пиво, но то, что здесь называли вином, нравилось ещё меньше); слушал эту кабацкую болтовню и думал о том, как в его родной Швеции считают, будто бы русским есть дело до разных Европ… будто с завистью глядят они на запад из своих берлог, но у тех русских, которых он знал – столько занятий, что большинство в другую сторону даже не смотрит – на востоке неизвестная земля, какие-то Алтын-ханы, Лама-озёра, реки… Реки вообще приводили шведа в замешательство. Нет, реки конечно в Швеции есть, такие же большие как Москва-река, но потом его повезли в Астрахань… по Волге! Иван Яковлевич, справился с полученным впечатлением от этой силищи. В конце концов, как человек образованный он смог объяснить себе, что в такой стране, какой по слухам, была Россия, может найтись и такая большая река как Волга. Почему бы и нет?!
Направляясь в Алексеевский острог из Астрахани, он видел много более мелких рек. Разумеется, река Тобол (говорили, что она в длину аж полторы тысячи вёрст, может и выдумывали, но шли по ней довольно долго), больше чем любая река в Швеции, но это всё же не Волга – второй такой быть не может, уж в одной стране точно! Затем Иртыш – то есть Волга не единственная большая река в России? Получается, что их две?! После этого они свернули на Обь! Потом была Кеть (снова полторы тысячи вёрст – всего-то). Теперь вот Енисей (его размерам лекарь уже не удивлялся), а сейчас они рассказывают, мол, где-то дальше есть какая-то Лена?.. Его больше не впечатляли размеры отдельных рек – швед поражался размерам всей России! Что за расстояния?!.. Безбрежная земля, она подобна кладовой или даже… сокровищнице, куда тянет всякого пройдоху и ловкача. Они приходят сюда и пропадают все – до единого. Бесконечные неизмеримые места. Вотчина варварских царей!.. Нашёлся бы ещё этим землям настоящий – по-европейски бережливый хозяин…
Усмехнулся своим мыслям лекарь: теперь ему вспомнилось, как ещё студентом он читал записки одного посла о своём путешествии в Московию и, как напугал тогда описанный случай с отмёрзшей, словно отрезанной, конской мошонкой. С ужасом думал он о судьбе и своей мошонки, когда пленённого его волокли за собой бородачи в тяжёлых меховых шапках.
Иван Яковлевич продолжал, морщась, пить своё невкусное пиво.
Крестьяне, закидывались горелым винцом, жаловались друг дружке на всяческое воеводское притеснение:
– Вот так и живём, – плакался один и них, – со всех сторон притесняемы. Филька вино варит и сбывает у себя втридорога. А воеводы только подсобляют. Вон Шубин – чёрт окаянный, велит, чтоб по подворьям медов и вин не ставили. А ежели случится к свадьбе или именинам, или даже к поминкам, на то челобитную подьячему нести да ждать – сколько того вина да на сколько дней выдаст.
Второй поддакивал:
– Да, ещё на государя с того вина берут: с четверти пива – по четыре деньги, а с пуда мёда – по три алтына. Ежели сам начнёшь вино варить, и тебя на этом словят, то два рубля да четыре алтына, да ещё и две деньги с тебя возьмут.
Третий плакал:
– Меня в прошлый год воевода словил, за то, что я такое вино у Прокофия купил и пил. Так с меня за то питие полуполтину взял. И грозил ещё кнутом выдрать. Так-то… нет защиты простому человеку.
К ним подсел старик Макар – работник Фирсовых. Принёс большую глиняную кружку с пивом. Изрядными глотками, отпив из кружки половину, со стуком поставил её на стол и, вытирая усы, с хитрым прищуром оглядел крестьян.
– Вот скажи Макар, – обратился к нему полушёпотом крестьянин, – думаешь, Филька из своего зерна вино варит, али воевода ему острожное подкидывает? Я вот что себе надумал: воевода с подьячим в доле – зерно на вино пускают, а барыши делят. Подьячий в бумагах так записывает, чтоб всё скрытно было! Как думаешь, Макар?
Старый Макар тяжело вздохнул, в один приём допил своё пиво:
– Я потому до своих годов дожил, – с расстановкой произнёс он, глядя сквозь свой прищур прямо в лицо крестьянину, – что в чужую мошну не заглядывал! И вы бы туточки не болтали.
Вылез из-за стола и, тяжело переваливаясь, вышел из кабака на морозный двор. Крестьяне проводили его недобрыми взглядами:
– Ой, не наш Макар, не наш… Никогда холоп заодно с пахарем не будет…
– И то, правда…
Казачки всё тянули свою унылую песню…
Оттолкнув Макара, в кабак завалились сменившиеся с караула стрельцы. Их заметил десятник:
– Братцы, здесь рассаживайтесь, мы уж уходить надумали. Филька! Неси быстрее – люди с мороза! Стрельцы, смеясь и шумно толкаясь, поменялись местами: одни отправились проверить вещички перед дальней дорожкой, другие заняли их место за столом.
Кабак гудел: пили, пели и плакали, смеялись, судачили и спорили.
Максим Максимович вышел на двор из душного помещения и захлопнул за собой дверь.
Как тихо! Он видел звёзды, хрустальной россыпью, раскинувшиеся по чёрному бархатному небу… стоял, подняв голову, и смотрел на эту безбрежную непроглядную пустоту. За спиной, остался кабацкий шум, изба, переполненная давящим тяжёлым воздухом, а здесь воздух свежий и чистый. Хорошо! Легко дышится! Максим Максимович протянул к звёздам руки, словно старался взять одну из них в ладони. В ответ, будто приветствуя, посыпался мелкий снег. Максим Максимович закрыл глаза. Снег падал на тёплое его лицо и таял.
Хлопнула дверь и из кабака вышел Елисей. Спустившись по ступеням низенького крыльца, он наклонился, загрёб ладонями снег и растёр им лицо и шею.
– Духота какая! – выдохнул стрелец, посмотрел на одиноко стоящего с поднятой головой подьячего, затем на небо и снова на подьячего, после, усмехнувшись, заковылял на кривых ногах к острожным воротам.
Максим Максимович опустил голову, посмотрел стрельцу в спину и, натянув на голову шапку, тоже пошёл к своему двору.
Обычный для Алексеевского острога день.
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
Стоя на раскате угловой башни, воевода, сквозь предрассветную мглу, разглядывал суету у ворот. В свете множества мелькающих факелов, большой обоз собирался отбыть из Алексеевского острога. Почти всё готово: лошади запряжены, мешки да короба уложены. Возницы на своих облучках, подняв огромные воротники тулупов, сидят, ссутулившись и скорее всего дремлют; кто-то уже уселся в свои сани, кто-то бежит, растерянный, спохватившись по-видимому о чём-то важном; Хрипаков и Фирсов у ворот покрикивают на нерасторопных людишек – торопятся.
Яков Ефимович, привычно и не стесняя себя, раздавал кому ни попадя, тычки да пинки, считая всех безнадёжными болванами – внешне всё как обычно. Но порой замахиваясь плетью на очередного замешкавшегося бедолагу, он замечал, что какое-то необычное, неуловимое смятение витало в воздухе и проникало в его душу. Предстоящая дорога не сулила лёгкой прогулки, но, будучи привычной, не беспокоила так, как оставляемый им в этот раз острог. Казалось: не сейчас, не время, стоит подождать, не спешить, любым способом не покидать крепость. Но…
До Маковского можно дойти с теми людьми, что прибыли оттуда вчера: привезли огневое зелье, свинец, привели пополнение. Теперь возвращаются назад, хоть часть пути пройти с ними, – какая-никакая охрана. Не с пустыми руками на Москву отправлялся Яков Ефимович – вёз ясак за последний год. Важное дело он затеял, потому хотел всё сам привезти, – глядите какая польза от меня! Коль ещё немного подсобите, то и того более добуду. Потому и вёз он всё, что с местных да тунгусских родов собрали. Да ещё от себя поминки к царскому двору и дьякам с подьячими: восемь сороков соболей да двадцать три бобра. Да ещё две дюжины необычайно чёрных соболей с пупками и хвостами, особливо для нужного человека; да на раздачу по мелочи четыре мешка недособолишек, да столько же соболей с хвостами, но без пупков.
Маковцы ждать не станут пока у кого-то сомненья пройдут, а бродить без защиты по Сибири чревато потерей не только добра, но живота своего. Потому хочешь-не хочешь, а идти надо.
Шубин не был заметен в утреннем сумраке, но и Хрипаков и Фирсов точно знали – он там и сейчас внимательно наблюдает за их отъездом.
Яков Ефимович за время своего предводительства в остроге, немало позаботился об этой простой и угрюмой крепости. «Сколько сил положил я в своё время на перестройку этих стен?! – думал бывший воевода. – Чего стоила мне забота об устройстве острога?! Кому бы понять?.. Да, иногда я был суров. Порой – жесток, но места такие – непростые места. Зато держал я всех здесь в узде! Пикнуть у меня боялись! Вот вернусь из Москвы, что здесь будет? Устоит ли острог или спалят его тунгусы? Куда я приду? Не на пустое ли место? Э-эх! Такое дело не успел. Мне б ещё годишку времени и прижал бы я Тасея к ногтю. А потом и к брацским людям идти можно. Не испортил бы всё этот олух!».
Яков Ефимович, задумавшись, поднял голову и посмотрел в темноту в сторону той самой угловой башни. Он не мог видеть Шубина, но Шубин-то как раз внимательно разглядывал всех, кто суетился сейчас перед раскрытыми настежь воротами, и смотрящего сейчас на него Хрипакова он хорошо видел. Видел, как тот смотрел в его сторону, как перекрестившись и завернув ноги в полы шубы, неуклюже поместил себя в сани.
Фирсов же, непривыкший долго думать, скрывал свою тревогу за суетой. Он бы остался, да служба тянет вон. Гнал от себя неясные мысли. Да и в чём беда ещё? Вернётся же скоро – только до Оби и назад. Потому следует, не мешкая выступать, только ездовые что-то не торопятся. Спят что ли дурни? Уложено же всё!
– Ну, что застрял? – рявкнул Фирсов головному вознице и пронзительно свистнул. – Трогай, давай! Не застаивай!
После чего окликнул своего десятника:
– Федька, сбегай-ка да лусни его по хребтине, чтоб не спал. Весь обоз задерживает.
– Сделаем, – послушно кивнул Фёдор и рванул к загородившим выезд из острога саням.
Кони захрипели под свист кнутов, напряглись, сдёргивая с места примёрзшие полозья. Выстроенные в ряд, сани медленно пришли в движение, потащились через ворота, вывозя людей и грузы на дорогу, в сторону Маковского острога.
Дождавшись, когда весь обоз пройдёт под угловатым сводом острожных ворот, Поздей Петрович перекрестился, прошептал: «С Богом!», – и ловко впрыгнул в, проходящие последними, сани.
Вот уже и нежные солнечные лучи затеплились над тёмным колючим горизонтом. Закричали, опомнившись, сонные петухи.
Шубин внимательно провожал обоз взглядом, дожидаясь пока последние сани скроются за посадскими избами.
– Ушли?
Воевода вздрогнул. Неслышно поднявшийся на башню Перминов, немало напугал его.
– Вот, что за причуды у тебя? – Андрей Леонтьевич совладал с нахлынувшим раздражением. – Подкрался как зверь таёжный. Ну-ка покажи, что ты там, на ногах, носишь?
Шубин опустил глаза силясь разглядеть под длинными полами Перминовского, подбитого мехом, кафтана его обувь. Разглядев воскликнул:
– Ну, понятно! Унты! Нет, чтоб сапоги носить. Да чтоб каблучок повыше, – засмеялся и направился к лестнице спускаться с башни, – так ты как не русский совсем, в унты нарядился, вот я тебя и не услышал.
– Брось, Андрей Леонтьевич, здесь многие так носят. Ходить-то немало приходится – в сапогах ноги убиваются. А унты помягче… да и потеплее.
– А ты, прям, много ходишь? Сидишь себе да бумаги царапаешь.
– Ну, бывает и хожу, – Перминов смотрел себе под ноги, – то гостиный двор, то пушной амбар, то хлебный, да и мало ли ещё куда. Двор мой тоже, к примеру, не под самым острогом стоит… пока дотопаешь!
– Да ладно. Не обижайся. Это я не со зла.
На лестнице, обхватив пищаль, стрелец-караульный, тот самый которого по обыкновению Шубин отсылал с башни, мирно посапывал в обе ноздри.
– Спишь, чёрт! – пнул его воевода, проходя мимо. – А кабы вражина какой подкрался? Всё? Прощай острог? Закоченеть не боишься?
Караульный, плохо соображая спросонок, вскочил, испугано моргая, и подвернувшись на скользкой ступеньке, метнулся мимо Шубина и Перминова на башню, занимая положенное своё место.
– Вот гляди, – воевода указал подьячему на унты, в которые также был обут караульный, – а был бы в сапогах, да чтоб каблук с подковкой, да подошва гвоздиками подбита… – поднял палец вверх. – Вот! Не поскользнулся бы! Ладно!
Оба медленно спускались по лестнице.
– Так, холодно же ночью, – не унимался Максим Максимович, – Да и не напасёшься сапог. А унты или ичиги, или даже чирки какие-нибудь в каждой избе тебе сошьют – не хитрое дело. Да, всё же унты удобнее.
Но всё равно, шагая по обледеневшей лестнице, он благоразумно держался за ограждение.
Остановились у подножья башни. Шубин повернулся к Перминову:
– К тебе сейчас не пойду, дела другие есть. Те письма, что вчера из Маковского пришли, после покажешь. Что у нас с Ялымом?
– Жду новостей. Сегодня-завтра будут.
– Замысел твой хоть и тонкий, но возможный. Если, ещё и Божья воля будет за нас – всё получится. Без этого мы Тасея долго по тайге гонять будем. Я в какой-то мере доверился тебе, не обо всём расспрашиваю, потому что знаю – в таких делах надо быть гибким: коль не так – значит этак. Но в любом случае я из тебя всё вытяну.
Воевода улыбнулся и, смотря Перминову в глаза, добавил:
– Ты много скрываешь от меня, да я не оскорбляюсь этим. Но дождёмся новостей, и ты на все мои вопросы ответишь. Всё. Ступай к себе, – он кивнул на столпившихся людей возле съезжей избы, – вон, людишек сколько собралось и все по твою душу. После увидимся.
Воевода развернулся, подобрав полы шубы, сделал несколько шагов по снегу, затем остановился, повернулся и окликнул подьячего:
– Максим! – тот остановился. – Я вот что думаю: если с этим делом у нас сладится, то отправлю я тебя в Брацкую землю. Понял меня?
Задержавшийся на мгновение Перминов, не поворачиваясь, молча продолжил идти в свою сторону.
– Ну, вот и ладненько! – кивнул воевода и направился к себе в большую, поставленную в два этажа с подклетью, воеводскую избу.
Совсем расцвело. Выглянувшее из утренней дымки, солнце принялось прогревать, схватившийся коркой за ночь, снег – а под коркой, растаявший, он будет липнуть и к полозьям, и к лыжам, и к подошвам. И снова мокнуть станут ноги, а ноги в холод беречь первое дело.
Странная в этот год зима.
2
Если выйти из острожных ворот и повернуть вправо, а затем пройти версты две через лесок, и ещё с версту вдоль оврага, то на открывшейся между деревьями поляне можно увидеть старую зимовку. Она стоит здесь с тех времён, когда на Енисей ещё изредка приходили промышленные люди. Маленький домишко и два сарая служили обиталищем для разных охотников да сборщиков ясака. Но построили острог, и зимовку занял поп, присланный из Тобольска служить в острожной церквушке. Теперь здесь жил сам отец Иона и один-два калеки, которым обыкновенно давал приют сердобольный священник.
Отец Иона не жил уединённой жизнью. Ежедневно посещая острог ради исполнения обязательных служб, он обходил и многих знакомых. Здоровался в лавке, заглядывал к кабатчику, засиживался у кузнецов. Он знался со старым писарем и с сосланным немцем-лекарем. Был своим у стрельцов и у казаков. Ради исполнения треб он часто был в посаде и посещал дальние зимовки.
Этот обаятельный батюшка был уважаем за внимательность и с тем ненавязчивость, за редкое в этих местах добродушие и за твёрдость в вопросах веры. Его знали все. Не все любили, вряд ли выделяли, и как только отец Иона уходил, про него обычно забывали.
По утрам, батюшка обыкновенно чистил свой двор от снега. Упёршись в широкую деревянную лопату, он лихо гонял по двору, проделывая дорожки в нападавшем за ночь снегу: от ворот к избе, от избы к сараям и нужнику, затем в обратную сторону, расширяя и расширяя эти дорожки. И так пока весь снег не уляжется в сугробы вдоль ограды. Большой хмурый пёс, словно щенок неразумный, скакал вокруг священника, запрыгивал в сугробы и пастью ловил подбрасываемый лопатой снег. Вот он остановился, замер и грозно гавкнул в сторону ворот.
– Отец Иона! – В воротах стоял старик Макар, – Бог в помощь! Ты с утра уж при делах?
Отец Иона остановился:
– Ты за мной Макарушка? Оленька Андреевна зовёт, поди?
– Зовёт. Наказала к ней иттить и волокушу с собой прихватить. Собрала там тебе чего-то.
– А я уж и закончил, – батюшка вытер, вязаной рукавицей вспотевшее от работы лицо. – Идём уж…
За ночь снег засыпал все следы людей и саней, все протоптанные тропинки и дорожки, потому пришлось встать на лыжи. К острогу шли под горку, Макар забрал, преодолев немалое сопротивление батюшки, волокушу, тащил их сам – уважал Макар отца Иону.
И снова, так же, как и вчера, батюшка сидит в натопленной горнице у Фирсовых. Сидит на той же лавке, за тем же столом. Хозяйка, как и вчера, угощает его грушевым узваром. Только мнётся отчего-то, места себе не находит.
– Беда, отец Иона…
Ольга Андреевна то садилась рядом с ним, то вставала и подходила к сидящей в дальнем углу на лавке, поджавшей ноги и уткнувшейся в колени лицом, Дуне, гладила её по голове и снова возвращалась к отцу Ионе.
– Давно следовало вам рассказать, но всё не решались. А тут уж совсем поджимает. Надо Дуню устроить. Нельзя ей домой возвращаться. Спрятать бы совсем её. От матери, от брата…
Батюшка пожал плечами:
– Где ж ты её насовсем спрячешь? Все друг дружку знают, все на виду. Рано или поздно – разыщут. Только в чём беда? О чём же ты меня просишь? Дочь от родителей прятать – нехорошее дело. Здесь важная причина требуется. Что приключилось?
Фирсова, тяжело вздыхая, ходила по светлице, иногда останавливаясь, крестилась на лик Богородицы, а иногда, молящими глазами, смотрела на священника, видимо отваживаясь на тяжёлый рассказ. Затем села… и, выдохнув, решилась:
– Давно это творится… уж не знаю точно сколько. Не говорит она. Да только теперь вообще спасу нет. Теперь, как этот тунгус появился, совсем плохо стало…
Фирсова вскочила, подбежала к Дуне, рванула у той рубаху за воротник и, открыв плечо, указала на большое синюшное пятно:
– Видишь?! И на ногах… да и вообще… теперь ещё и бить стал.
Ольга Андреевна посмотрела на Дуню, и отец Иона заметил, как та глазами умоляла её.
Фирсова вздохнула и снова к священнику:
– Вы поймите, никто же за неё не заступится! Никто не пожалеет… Как бы горя какого не приключилось. Как бы не было на нас вины, что не помогли, не уберегли… Как бы не прогневался на нас Господь! Она ж ещё дитя совсем, а опереться не на кого, если даже отец с матерью…
– Так! – решительно хлопнув ладонью по столу, прервал её отец Иона. – Угомонись, Ольга! Прекращай причитать!
Затем дождался, когда ошеломлённая такой неожиданной строгостью Фирсова, села рядом с Дуней в угол на лавку и смиренно сложила руки на коленях, снова обычным своим тихим и мягким голосом сказал:
– Теперь давай… сказывай всё по порядку. Что у вас приключилось и в чём моя помощь требуется?
Ольга снова посмотрела на Дуню, и та снова молящим взглядом посмотрела на Фирсову.
– Братец её… Федька… Обижает… Житья не даёт совсем. Из дома одну не выпускает – или силой держит или хвостом за ней ходит. Никуда чтоб сама не ходила. – Фирсова мялась. – Мать её, Феодосия Досифеевна, Дуню даже слушать не хочет, говорит, чтоб брата слушалась… мол, брат только хорошего желает…
Посмотрела на Дуню, та всё так же, сидела на лавке, поджав колени и уткнувшись в них лицом.
– Говорит, что нечего ей по улицам расхаживать… обзывает… кричит, что она с улицы в подоле принесёт… потому лучше, чтоб дома сидела, а Федька пусть присматривает. А он… а он… – Ольга кинулась к Дуне и обхватила её руками.
Ревели. Отец Иона сидел молча и не мешал. Успокоившись, Ольга продолжила рассказывать:
– К ней же и свататься разные мужики приходили, так матушка всех разогнала – мол, не ровня. Чуркины-де знатные промысловики и в купцы выбьются скоро – нечего грязному мужичью возле их порога околачиваться. А Федька вообще однажды за сватами с оглоблей погнался – еле успокоили.
Дуня, не поднимая головы выдавила:
– Да, я бы за любого теперь пошла…
Ольга продолжала рассказывать:
– Потом тунгус этот появился. Он сначала круги вокруг Дуни накручивал. То на гостином дворе рядом окажется, то возле храма торчит… и всё в глаза старается смотреть. Федька все видит – злится. На Дуню кричит… Потом тунгус стал на ограде сидеть. Прознал, где живёт и караулит всякий день. Федька за ним гоняться пытался, но как ты его изловишь? Он же тунгус – спрыгнул с ограды и всё – исчез… Вот тогда Федька Дуню ещё и колотить стал. А тунгус дождётся, когда Дуня из избы во двор выйдет, ну мало ли зачем, и то клюквы полный туесок под ноги кинет, то связку рыбин. Один раз пару соболей подбросил. Её тогда Федька сильно побил. И когда того тунгуса воевода ловил, то Федька больше всех старался. Бегал как ошалелый.
Она замолчала и просто смотрела в пол.
Отец Иона понимающе закивал:
– Теперь понятно, зачем он ко мне приходил…
– Он к вам приходил? – удивилась Ольга.
– Да. Давай, говорит, шаман, крещай меня. Пролубь, говорит, сажай и крест давай. Креститься хотел, значит. Видать, не просто за Дуней бегал! Может и серьёзное что задумал.
Дуня испуганно подняла голову и посмотрела на Фирсову:
– Я за тунгуса не пойду.
– Ты же вот только-только за любого согласна была идти… – прищурился отец Иона.
– Да какой тунгус, – отмахнулась Ольга. – Твоя матушка и за своего тебя не отдаёт. А тут – тунгус какой-то. Ни дворишка, ни избушки даже самой маленькой!
Отец Иона внимательно их слушал, стараясь полностью прояснить для себя происходящее.
– Ну, а Пётр Игнатьевич что? – спросил он у Фирсовой.
– А он не вмешивается. Говорит, чтоб мать слушала – некогда ему. Да что уж тут говорить? У них только сына и любят. Отец думает, что подрастёт и в делах помощник будет. А куда ещё подрастать? Уж двадцать-то годков! А мать говорит, что мал – пусть дома сидит. А когда Дуня жалуется, то говорят, что она подло врёт. Мол, с бабской злобы на брата клевещет.
Дуня тихо всхлипывала:
– Почему мне она не верит? Я ведь правду говорю. Будто не нужна я никому вовсе. Хоть топись.
– Ну, ты это брось, – забеспокоилась Ольга, затем повернулась к отцу Ионе. – Вы помните стрельца Савку Денисова?
Батюшка кивнул…
– Служилый человек, изба своя. Пахоты у него: десять четей ржи и ещё овса десять четей. Две лошади. Всё как надо. Я к нему с Макаром отправилась: «Жениться хочешь? – говорю. – Ну-ка засылай сватов к Дуне Чуркиной!». Он: «Так мать её всех гоняет». А я ему: «А если сотник за тебя говорить будет, пойдёшь к Дуне свататься?». Он и согласился. Я мужа упросила – он Савку, вестимо, знает. Сказал, что тот хороший служака и мужик добрый. Обещал помочь.
Фирсова вздохнула, дрожащими руками разгладила ферязь на коленях:
– Уж Поздею Петровичу Феодосия Досифеевна отказать не посмела. А дальше сами знаете, что приключилось.
Отец Иона знал эту историю. Савку Денисова нашли недалеко от острога. Звери ему голову и руки с ногами отъели… Не понятно было кто его и как… Если шатун какой, то тулуп не изорван. Может рысь запрыгнула сзади на шею и перекусила – так его на поляне нашли, а рысь, известно, с дерева нападает.
– Я уж, грешным делом, – Фирсова перешла на шёпот, – думаю, не Федька ли его? А? Подошёл к нему и по голове-то и стукнул. А звери уж дальше…
Дуня, не выдержав вскочила и выбежала из комнаты в сени. Фирсова за ней: «Замёрзнешь, глупая!». Завела её назад, усадила на лавку, села рядом, обняла, гладила по растрёпанным косам:
– Федька вчера сюда приходил. Под вечер уже. Вы как раз от меня ушли. Знал же, что Дуня как вырывается, ко мне прибегает. Я с Макаром вышла – Макар ещё ухват прихватил. Но я его не боюсь. Меня тронуть у него духу не хватит. Говорил, чтоб Дуню с ним домой отпустила… Мочи уже никакой нет – прогнала его… А дальше-то что? Батюшка поможешь?
Отец Иона молчал. Думал. Утешения здесь мало. Нужна действительная помощь. Не приставишь же к ней охрану – где такую взять? Но и оставить всё так – тоже нельзя.
– Я с Феодосией Досифеевной могу поговорить, – начал отец Иона, – и с Фёдором тоже. Пристыжу… только – не признаются ведь они.
Батюшка наклонился вперёд и тихо позвал:
– Евдокия… Дуня…
Та подняла голову.
– Исповедаться не хочешь?
Дуня испуганно завертела головой. Батюшка развёл руками:
– Что ж, неволить не буду.
– С рассветом Поздей Петрович в Тобольск отбыл, – Ольга Андреевна держала Дуню за руку, – я вот о чём тебя прошу, батюшка: укрой её где-то, хоть на день-другой. Я с надёжным человеком говорила, он обещал приставить к ней кого на время. Только здесь нельзя – ведь Поздея Петровича-то нет, потому негоже чужому мужику под домом околачиваться. Ну, как Федька снова заявится? Помоги, батюшка!
Отец Иона вздохнул. Встал. Подошёл к Дуне, сел перед ней на корточки и, силясь заглянуть ей в глаза сказал:
– Я могу тебя к матушке Агриппине подселить. Она от помощи не откажется – старая уже. Да и веселее ей будет, – улыбнулся, – станет тебя своими историями стращать. Она много историй знает. Разных историй. Но ты её не бойся – матушка добрая. Ну, попоститься придётся. А как же? И молиться почаще – монастырь всё-таки.
Священник встал, поразмял затёкшие ноги, теперь уже обратился к Фирсовой:
– Зато стыда в том никакого не будет, что девка при монастыре подвизается. Игуменье помощь давно требуется – те же просфорки на весь острог лепить, – задумался. – Так и я смогу, если что заступиться, мол, не трогайте её, может она путь свой ко Господу ищет. Только ежели братец там объявится и силой её увести захочет, то матушка его не удержит. Тут уж на тебя Ольга Андреевна, надежда.
Фирсова облегчённо вскочила и засуетилась по дому, собирая какие-то узелки и засовывая их Дуне в руки:
– Вот и Слава Богу! Пока там поживёшь. Место хорошее. Меня как в острог привезли так я там жила. До самой свадьбы.
Остановилась и, опустив глаза, тихо сказала отцу Ионе:
– Только ты не рассказывай о том матушке.
– О чём не рассказывать? О том, что братец к ней руку прикладывает, а отец с матерью не вступаются? Или вы мне ещё о чём-то не договариваете? – отец Иона внимательно смотрел то на сильно смутившуюся Ольгу, то на испуганную Дуню.
Фирсова быстро сладила с собой и снова засуетилась по дому:
– Всё, батюшка, нечего больше рассказывать.
– Ну, как знаете, – пожал плечами отец Иона.
Ольга Андреевна выглянула в сени и крикнула:
– Макар! Собирай котомки, что я батюшке отложила… Да сани запрягай – отвезёшь их до монастыря к матушке Агриппине.
После чего повернулась к Дуне:
– Ты как в сани залезешь, так тулупом сразу накройся. Мало ли что – меньше тебя видно будет.
Раз решено всё, то и нечего рассиживаться. Вышли из дома и погрузились в сани. Старик Макар щёлкнул кнутом… и вот уже подгоняемая им лошадь, опустив голову, упорно тащит своё бремя.
Медленно проплывали по сторонам посадские ограды, кивала гривой упитанная лошадка, отец Иона сидел подле, накрывшейся с головой тулупом, зарывшейся в котомки и узелки, Дуни, и отрешённо смотрел вдаль. «Яже содеях во все дни живота моего…», – крутилось у него в голове,– «… и на всякий час, и в настоящее время, и в прошедшия дни и нощи, делом, словом, помышлением…». Сколько раз он слышал эти слова от пришедших к нему на исповедь! «…Делом, словом, помышлением…». Нет бы, собраться с духом и покаяться по-настоящему. Перебрать всё грехом содеянное – отречься от него. Так для этого мужество иметь полагается! А так: «…делом, словом, помышлением…». И всё – батюшка, допускай меня к причастию, чтоб люди не сказали, будто не бываю я на исповеди. Чтоб приличия соблюсти. «…Прости ми, и разреши от всех сих, яже изглаголах перед тобою…», а что ты там «изглаголах»? Разве – своё, обычное: «…делом, словом, помышлением?».
Вот и Феодосия Досифеевна такова: и в храм как на праздник ходит – разряженная; и молитвословчик свой в красивой, бисером вышитой, сумочке носит; и закладочек в нём заложено – видимо-невидимо. Уж как в церкви себя вести – так всем расскажет и, даже если не просишь, всё одно подойдёт и заставит себя слушать: и перекрестился ты не теми пальцами, да и не столько раз сколь надо, и поклоны не в пол, а в пояс кладёшь. И что, в какой день есть, чтоб пост не нарушать – всё будет говорить, всё она знает, и ответы на все вопросы веры ей ведомы. Но как епитрахилью накроешь, так: «…делом, словом, помышлением…» и нет у человека грехов, только эти пресловутые слова. Но ведь грех – это хворь и если не расскажешь ты священнику, чем душа твоя поражена, как поможет он тебе? Чем полечит? Что подскажет?.. «… Делом, словом, помышлением…». Да, что мамаша, когда сама Дуня… тоже. Её спрашиваешь: «Исповедаться хочешь?» – отнекивается. А когда всей семьёй перед обедней приходят, так всей семьёй и: «… делом, словом, помышлением…». У самих же в доме вон, что творится! Да, и разве одни они такие?!
«Помилуй мя грешного!» – испугавшись своим мыслям, трижды перекрестился отец Иона.
Дуня зашевелилась под тулупом, высунула нос подышать морозным воздухом. «Дитя совсем», – улыбнулся батюшка и поправил упавший узелок, чтоб не мешал ей.
Странная вся эта история – глядишь, и втянут его в какую-то беду. И у Фирсовой вдруг «надёжный человек» появился, которого она, видимо, утаивает, не называя прямо о ком речь. И Дуня, хоть и явно в беде, но не обо всём рассказывает. Но Бог им судья… и ему тоже! А значит негоже страждущему в помощи отказывать. Наверняка это сам Господь его, священника, испытывает!
3
Дед Никита Нифонтов, когда-то хозяин большого подворья и отец трёх сыновей, своими руками умел делать всё, что могло пригодиться в крестьянском быту. Живой был, кряжистый мужик. Всю жизнь во крестьянах. Всю жизнь на земле.
Пахал недалеко от Тобольска, сеял всё что положено: рожь, ячмень, овёс. А когда сыновья отправились на Енисей новые места обживать, упросил воеводу с ними ехать. Всё чин по чину, бумаги написали, землю, избу, тягло другому мужику передали. Само же семейство Нифонтовых, погрузив на подводы первейший для новой жизни заводик, отправилось на восток. Старший сын с женой, два других – бобылями, и глава семейства – Никита Нифонтов.
На новом месте не заладилось. Земля досталась у края леса, и чтоб расшириться пришлось валить высокие и крепкие сосны, корчевать пни. Эта тяжёлая работа забрала среднего сына: придавило его толстенным стволом, поболел недельку, да и помер – бывает! Тут у отца руки стали трястись.
По весне засеяли, по осени собрали. Весной снова засеяли… а как ледоход начался так с ним, и младшенький сынок пропал. Как лёд затрещал – он рванул сеть забирать (хорошая была сеть, большим трудом досталась), что по недосмотру оставили, но между глыбами провалился… так его теми глыбами и раздавило. Согнуло Никиту Нифонтова. Враз сдал – стариком стал. Почернел как-то, сгорбился.
Осенью урожай собрали. Внук родился. Никиткой окрестили – как деда. Правда невестка горемычная при родах померла, но и так часто случается. Поплакали над ней – жить продолжили. Дед Никита при внуке остался, а сын, оставшийся, всё хозяйство на себя взял.
Перед Масленой неделей и он ушёл… в тайгу, кулемники проверять. Там и остался. Может зверь?! В общем, не вернулся из лесу папка Никитки маленького. Остались теперь вдвоём – дед да внук. Землю с двором пришлось снова другому мужику передать, чтоб от тягла отвязаться. Поселились в посаде. В маленькой избёнке. Дед разную обувку шил: унты, чирки. Валенки валял – хорошие получались валенки, плотные. Тайга помогала – грибы да ягоды собирали. Иногда зверушка разная в силки попадалась. Енисей рыбу подкидывал. Жили-поживали. Никитка подрастал, озорной ухватистый парнишка – деду посильная помощь.
Как-то к ним немчура попросился на постой, лекарем назвался – пустили. Хороший оказался мужик – тихий: коль пьяный – не бузил! Никитку сладостями баловал. Что своим ремеслом наживал, завсегда делился – с Никиткой маленьким и дедом Никитой.
Зимой, пока Енисей во льду, кормились рыбой. Впрочем, её добывали всегда, но зимой она всё же чаще шла на пропитание, за неимением особого выбора. К тому же зимой её сподручней было заготавливать да сохранять!
Как только лёд стал, вышли дед с внуком на реку и пробили две лунки. Из одной в другую, сперва пропустили верёвку, затем с её помощью затянули ещё одну, с привязанными к ней крюками. Никитка-маленький во всём помогал деду. В одну лунку, что пошире, дед стравливал верёвку с крючьями и нанизанной на них мелкой рыбёшкой, а Никитка вытягивал её через лунку, что ниже по течению. Травить, понятно, ему было не просто, тут и сноровка, и сила нужна. Тащить же верёвку было как раз по силам. Надрывался, поскальзывался, но упорно тянул. Когда же дед сеть выбирал, чтоб попавшуюся рыбу забрать, заботой Никитки было её с крюка быстрее сорвать. Никитке маленькому уже шесть полных годков. Мужик всамделишный, такой всё сумеет. Он и старался, знает же, что дед его старенький. Кто поможет если не Никитка?
Солнце обыкновенно слепило из-за противоположного берега, когда дед Никита тащил по льду маленькие нарты в сторону своих лунок. Сзади в них, как молодой, барашек упёрся Никитка. Пыхтел, старался, толкал нарты – помогал деду. Дед иногда поддёрнет чуть быстрей – Никитка не удержится и падает. Смеётся Никитка и дед смеётся!
Остановились возле лунок, огляделись. Пока они одни выбирать пришли, но может, кто и подтянется ещё – утро только. Сели в нарты отдышаться. Хорошо! Тепло! Далековато дед Никита в этот год лунки пробил да свои крючья протянул. Да! Дальше всех! Зато никто животку не покрадёт. Животкой называли мелкую рыбку, что наловили осенью. Её хранили в деревянном ковчежце в одной из лунок и употребляли как наживку.
Дед Никита поднял сколоченную из досок крышку, закрывавшую лунку, чтоб не промерзала, и заглянул в неё:
– Вроде не трогали животку-то. Слышь, Никитка? Метки мои на месте значит – целёхонька животка. Как в тот раз оставили, так и лежит!
Никитка деловито разгружал нарты. Доставал пешню – разбивать примёрзший лёд; плетёный деревянный черпак, чтоб этот лёд из лунки отбрасывать; и, конечно, специально приспособленную палку-дубинку, чтоб бить вытащенную на лёд рыбину по башке. Никиткина гордость – он подобрал её весной, обстрогал, обрезал маленьким ножичком сучки́. Где держать рукой, обмотал кусочками, взятой у деда кожи.
– Всё деда, – Никитка поправил на вспотевшей голове шапку, – я на ту лунку пойду – гляну, а ты тутачки пока расколачивай.
«Шустрый» – улыбался внуку дед Никита Нифонтов.
Не хотелось Никитке маленькому просто смотреть, чтоб верёвка не ушла. Скучно! Вбил в лёд колышек, привязал к ней конец верёвки и айда деду помогать. Дед налима на лёд вытягивает, Никитка рыбину своей дубинкой по башке бьёт, чтоб пасть открыла и тогда удобней крючок изо рта рвать. После чего в сторону эту рыбину отталкивает, где она корчится всё медленнее – замерзает, а дед осторожно выбирает нового налима из лунки.
Спорится работа у рыбаков, полные нарты сегодня нагрузят – внушительный запас.
На раскате надвратной башни, что выходит на Енисей, сошлись караульные стрельцы. Поставили прикладами на пол свои пищали – опёрлись на них. Достали флягу с вином и оглядываясь, не смотрит ли кто из старши́ны, подлечивались после вчерашнего захода в кабак. Лбы трещали, души мутило. Стрельцы ойкали, хватаясь за голову, посмеивались над вчерашней своей неосторожностью и обещали друг дружке больше никогда… никогда не позволять себе излишеств. Васька Сумароков даже с треском в непослушной башке не уставал сочинять небылицы:
– Я вчера как с кабака-то выполз так за угол на карачках и пополз, а там псина Филькина вертится. Ну, вы знаете одноухий этот, с бородой ещё. Так я ему из штофа взялся в пасть подливать, а он, видишь, пьёт. Зверь, а винище хлещет – будь здоров. Потом сел возле меня и ну песни орать. Сперва не разборчиво так у-у да у-у, а потом распелся видать и совсем по-человечьи завыл. У казаков видать подслушал, красивая песня – про бабу какую-то. А потом мне лапу на плечо положил и задумчиво так, с оттяжкой говорит: «Эх, брат Васька…»
Стрельцы пробовали посмеяться «Вот ведь придумал!», но боялись трясти свои тяжёлые головы, оттого лишь морщились на его байку.
Елисею было проще, он вчера был благоразумен – пиво с винишком не смешивал, потому его не заботило содержимое фляги. Стоял себе в сторонке, новый Алексеевский стрелец Елисей Юрьев, облокотившись на высокое ограждение башни – «забороло», и любовался ровным, белым полем льда.
Енисей спит, укрывшись закоченелой шубой, срослись его берега. Хоть и режет глаза поднимавшееся с востока солнце, но оторваться от такого незыблемо-величественного вида стрелец не мог. Нечеловеческий простор!
Там, вдалеке, почти у середины реки копошились два рыбака, один покрупнее, другой помельче – с башни больше и не разглядишь. Темнеют возле них нарты. Елисей, прикрывшись от солнца ладонью, увлечённо наблюдал за ними:
– Не далековато они свои крючья поставили? – не оборачиваясь, проговорил он.
Васька Сумароков, пряча под тулуп опустевшую фляжку, подошёл к Елисею. Кивнул в сторону рыбаков:
– Дед Никита с внуком. У них в прошлую зиму наживку таскали. Не так чтоб всю умыкнули, а вместо своей из их ящика помалу тырили. Досадно же – вот на эту зиму они свои лунки подальше от всех и продолбили.
– Далековато!
Елисей силился разглядеть, что происходило на льду. Его беспокоило стремительно приближавшееся с противоположного берега, мутное пятно. Против солнца смотреть тяжело, но пятно упорно двигалось к острогу. Нет! Это не просто пятно! Это явно, одинокие нарты, запряжённые оленями.
– Васька, глянь, – Елисей указал Сумарокову на нарты, – тунгусы ли?
Тот тоже поднял ладонь, защищая глаза от слепящего света:
– Тунгусы. Что им в остроге надо? Летят черти…
На башне забеспокоились. Внимательно вглядывались… и всё поняли:
– Тунгусы! – Заорал в острог Сумароков.
Стрельцы похватали свои пищали – прикладами на пол. Из натруски порох в ствол. Снова грохнули прикладами в пол, чтоб утрамбовать зелье. Стиснули зубы, не давая волнению сбить чёткие, отработанные движения. Натруску назад на пояс. Войлочный пыж из сумки в ствол – достать шомпол, в два удара забить им пыж плотнее. Пулю в ствол. Снова пыж шомполом. Подняли пищали, прицелились. Эх! Далеко!
– Дед! Беги! – Елисей истошно кричал в сторону рыбаков.
Не дожидаясь, когда дед с внуком заметят опасность, он мигом сбежал по лестнице с башни и ломанулся через ворота к реке.
Дед Никита и Никитка-маленький увлеклись рыбалкой и не замечали угрозы. Откуда-то издалека доносились беспокойные крики. Дед Никита с трудом разогнул, по-стариковски закостенелую, спину и посмотрел на острог.
Васька Сумароков направил пищаль в сторону солнца, чтоб не зацепить, кого, ненароком и выстрелил, подавая сигнал.
Дед Никита увидел взлетевший со стены дым. Никитка у его ног, упав на колени и засунув руку налиму в пасть, борется с рыбой, силясь достать крючок. Через мгновение долетел звук выстрела. Никитка поднял голову, посмотрел на деда. Дед оглянулся и увидел несущихся на него оленей. Крикнув: «Беги!», – старик схватил пешню и направил её в сторону врага. Никитка оторопел – не сдвинутся с места! Деду помочь! На несущихся в сторону рыбаков нартах, озверело, заулюлюкали два тунгуса.
– Никитка! Беги же! – отчаянно закричал дед и кинулся к тунгусам.
– А-а-а-а! – истошно завопил мальчишка и бросился к спасительному острогу. Оттуда на помощь бежали люди.
Тунгусы уже рядом. Один из них спрыгнул с несущихся нарт прямо на деда, с чудовищной силой воткнув ему в грудь железное лезвие пальмы. Дед повалился навзничь – на нём убийца – хищно смотрел на убегающего Никитку. Нарты, описывая полукруг, отрезали путь мальчишки к спасению. Покончив с, вставшим на защиту внука дедом, тунгус выдернул из его груди оружие и устремился в погоню. Задыхаясь, Никитка бежал в сторону острога. Пронзительно кричал от страха. Поскальзывался, падал, вставал, не замечая боли от ушибов и снова бежал, но его всё равно настигли. Догнав, тунгус с размаха лупанул Никитку рукоятью пальмы по затылку, тот пролетел вперёд, рухнул, уткнувшись носом в лёд. Пока олени, разворачивались, тунгус схватил Никитку за ногу, поволок его, оставляя на льду яркую кровавую полосу и, закинул в подоспевшие нарты. Подстёгнутые олени рванули в сторону дальнего, ощетинившегося лесом, берега. Не догнать!
Бегущий впереди остальных, спешащих на помощь, людей, Елеска Юрьев, не отрывая взгляд от увозящих Никитку тунгусов, перешёл на шаг. Остановился – пищаль к ноге. Сдерживая дыхание, опустился на колено, сел на пятку. Дыхание ровное… Выпрямился. Поднял пищаль, выбирая цель, открыл полку. Прицелился, нажал на спуск. Фитиль упал на полку, зажигая порох, вспышка ослепила и обожгла лицо – выстрел! Один из оленей рухнул головой вниз, под другого, ломая ему ноги. На оленей налетели нарты, вываливая седоков. Тунгусы, проворно оправившись, выхватили из разломанных нарт лыжи и став на них, спешно, продолжили бегство. Чтоб удрать, добычу им пришлось оставить.
Елисей бросился к нартам, откинул их, откинул шкуры, нашёл Никитку лежащего в нелепой позе. Он был жив и закатив глаза, тихо стонал. Стрелец закинул пищаль за спину, подхватил на руки Никитку и, переступив через бившегося в кровавых судорогах оленя, быстрым шагом понёс мальчика в сторону подбегавших людей. Те уже освободили для него нарты… те самые, которые приволокли сюда утром дед Никита и Никитка-маленький.
На берегу столпились взволнованные острожане. Слух о нападении тунгусов быстро пронёсся по округе. Не часто они осмеливались на такую дерзость, хоть случаи бывали всякие.
– Поджидали! Как пить дать, поджидали, когда они одни на лёд выйдут.
– Точно! Приметили, что их лунки дальше всех пробиты!
– И чтоб солнце с той стороны прямо в глаза било…
– А что, живой хоть кто?
– Кого-то вон, в нартах волокут.
Когда нарты подтащили к берегу, вокруг них собралась толпа. Каждый старался рассмотреть маленького страдальца. Нифонтовых все знали. Судьба их и до того была не завидна, а теперь – вот как сложилось! Что теперь будет с Никиткой маленьким? Да и выживет ли вообще?
Раскидывая людей, при этом немало удивляя их своей силой, лекарь Иван Яковлевич упорно пробивался через это сборище. Добравшись, он упал на колени перед нартами. Никитка лежал на спине хрипло дышал ртом – нос был сломан и сильно перекошен. Лицо залито замёрзшей и местами потрескавшейся кровью. Кровь темнела и на подложенной под голову свёрнутой рогоже. Иван Яковлевич поднял руками Никиткину голову, осмотрел затылок. Вынул из, принесённой и брошенной рядом на снег, сумки чистую тряпицу, плотно обмотал ей голову мальчика. Затем поднялся, строго указал:
– Везти за мной! Быстро!
И направился, своим широким шагом, в острожные ворота.
Вышедший на выстрел воевода, наблюдал за всем со стены. Он видел, как немчура велел везти за ним полуживого мальчика; как следом проволокли на шкуре окровавленного деда; как дорезали оленей и растащили мясо; как сбежавшиеся люди, хвалили стрельца за удачный выстрел; как тот, нехотя, кивал на дружеские похлопывания и растерянно крутил головой – будто кого-то искал.
4
В воеводской избе Шубин и Перминов, сидя за большим столом, разбирали пришедшие вчера с обозом бумаги. Обычно Андрей Леонтьевич с делами не затягивал, но вчера отъезд Хрипакова занял весь день. Только в пушном амбаре проспорили с обеда дотемна. Яков Ефимович всё норовил побольше пушнины с собой забрать, но Андрей Леонтьевич, вооружённый приходными книгами, доказывал, что не так уж и много всего собрано за прошлый год.
– Вот гляди сюда, – совал он прямо в недовольное лицо Хрипакова очередные бумаги, – написано же: «декабря в тридцатый день с князька Окдона Кымзина с ясашными людьми с пяти человек государевых поминков пять соболей. Да ясачных тридцать пять соболей взято». Ты смотри, смотри сюда: «…а донять с князька Окдона с ясачными людьми двадцать соболей ясачных». И вот ещё, тем же днём: «… а донять на князьке Албапете с ясашными людьми государевых поминков семь соболей», да вот главное: «…да ясачных два сорока девять соболей». А ты их донял? А считаешь, будто они уже в амбаре лежат!
Яков Ефимович отбивался:
– Так ты сам с них возьмёшь. И больше возьмёшь. Скажешь, к примеру, что раз задержали, так с лишком пусть дают. Я не раз так делал. А мне на Москве сейчас соболь позарез нужен.
– Вот потому у тебя тунгус и бунтует…
Потом долго ещё ссорились, ругались. Хрипаков всё за саблю хватался. И снова спорили, листая книги со списками мягкой рухляди. В общем, вчерашний день все силы вымотал.
Теперь вот и писем время пришло. Перминов доставал поочерёдно из сумки футляры с документами, разворачивал и зачитывал воеводе – тот сидел, облокотившись на стену и закрыв глаза, слушал:
– «Указ о жаловании Сибирскому, Алексеевского острогу сотнику Поздею Фирсову».
Перминов пробежал глазами по тексту:
– Жалует ему Государь аж четыре рубля!
– И за что жалует?
– «…что он в прошлом 133 году, привёл под Государеву Царскую высокую руку Кипанской волости князка Ильтика, да Пумпокольской волости князьков Урунака да Баитерека.», – зачитал подъячий, – ну и за службу и всё такое…
– А он только ушёл. Не свезло ему. Что ж вернётся так и разберёмся. Раз сам Государь жалует – надо дать. Дальше что?
Подьячий развернул очередную бумагу:
– Из Мангазеи письмо.
– Что пишут?
Максим Максимович внимательно прочитал и положил письмо на стол перед воеводой:
– Жалуются: торговля-де падает, людишки разбегаются. Припасов просят: зелья огневого, хлеба тоже… Пишут, что после того как по государеву указу разрешено стало торговым и промышленным людям ездить кому как выгодно, в Мангазею стали меньше ездить. Просят направлять людей к ним и у себя не задерживать.
– Так кого мы задерживаем-то? Если купчине никакой прибыли в такую даль идти, то он и не идёт. Разве мы заставить его должны.
– Мангазея всегда жила тем, что разным немцам удобно было туда с моря идти. К морю ближе понимаешь? – Максим Максимович, объясняя, чертил руками на столе воображаемую карту, – вот тогда и была выгода мягкую рухлядь к ним свозить. И с Архангельска, и с Пустоозера, и с других мест. Через Камень переваливают, минуя Тобольск. В казну меньше прибыли стало попадать. Вот от Государя и пришла грамота – уже два года как пришла – чтоб запретить торговым и промышленным людям в Мангазею ездить. И чтоб немецким людям тоже там не появляться, и дорогу им до Мангазеи не показывать. А купцы пусть ездят куда хотят, но не в Мангазею. Вот там теперь и воют потому, как никакого резона у торгового человека в такую даль тащиться.
– И что думаешь?
– Когда Алексеевский острог ставили, то Мангазея была в самом сахаре. Мы им тоже писали. И хлеб просили… они не отозвались… – Перминов задумался. – Да, и чем ты им поможешь? Зелье и свинец сами просим. Хлеб… у нас тоже не в избытке.
– Вот так им и отпиши. Мол, сами побираемся и дать ничего не можем. Хотим-де, но… нет ничего.
Максим Максимович понимающе кивнул, вынул следующую бумагу. Развернув, прочитал. Затем раскрытую положил её перед собой, придавив бронзовой чернильницей-каламарём с одного угла и пустой кружкой с другого. После чего, сложив на столе руки и наклонившись вперёд, поднял глаза на воеводу.
– Новости пришли: девку Чуркину поселили на подворье у игуменьи Агриппины.
Андрей Леонтьевич открыл глаза и, посмотрев на Перминова, кивнул на бумагу:
– Это ты из письма узнал?
– Нет, не из письма, но и оно к нашему делу приложится. Теперь можно отправлять туда Катерину с припасами – пусть, всё что требуется, растолкует. Только надо, чтоб блаженный братец её не помешал. Он же, как прознает, где сестрица, так прибежит и домой её потянет, а нам надо, чтоб она под присмотром была!
Воевода поставил локти на стол, опустил голову и, положив её на руки, задумался. Сидел какое-то время молча, запустив пальцы себе в волосы. Молчал и Перминов. Ждал.
– Катерина уже всё знает. Баба сообразительная. Меня другое беспокоит – что там за брат такой? – Андрей Леонтьевич поднял глаза и посмотрел на подьячего, – Может его, вместо Ялыма, на цепь посадим? Неужто управы на него нет? Давай я укажу стрельцам, чтоб прижали его где-то в перелеске.
– Если ты его живота лишать не думаешь, то всё остальное напрасно будет. Отойдёт и снова под ногами крутиться будет. К тому же мать его не меньше блаженная, чем сынок – такой крик поднимет – тошно всем станет. А нам шум в остроге не нужен совсем. И уж подавно, чтоб воевода или ещё кто из больших людей в этом замечен был. Аманатов кормить – твоя прямая забота, не упрекнёшь! В остальном же, пусть всё идёт будто, само собой. Есть на них управа, только не время ещё. Теперь иначе поступить следует.
Воевода откинулся на стену за спиной:
– Предлагаешь особого человека за ними приставить? Надо чтоб смышлёный был, толковый.
Максим Максимович отодвинулся от стола и убрал руки, открывая то самое письмо:
– И, похоже, что человек такой теперь у нас есть. Вот, смотри, – взяв письмо, Перминов протянул его Андрею Леонтьевичу, – что Годунов о нём пишет.
– О ком это?
– О стрельце новом. О том самом, кто вчера Ялыма остановил и том, кто сегодня Никитку-маленького от тунгусов отбил.
Шубин, потянувшись, взял в руку поданный свиток, пробежал взглядом по написанному, отыскивая нужные строки.
– Да. Пишет, мол, просил о нём сам князь Черкасский. Представляет его как человека надёжного. Хм… если подумать, то для князя он может и был надёжный… – Андрей Леонтьевич снова откинулся назад и повернулся к Перминову, – разве такие бывают? Каждый себе на уме, каждый лучше знает, что должен и кому должен.
Воевода бросил на стол письмо, встал с лавки, вышел в соседнюю комнату:
– Катерина! – слышно было, как он сердито закричал. – Где ты там шастаешь? Жрать уже неси!
Вернулся. Подходя к столу, он долго разматывал кушак, освобождая место для будущей трапезы.
– Убирай бумаги. Перекусим маленько.
Сел на лавку, продолжая прерванную мысль:
– Надёжный,… Вот, к примеру, Петька Парабелец. Помнишь? Надёжный человек!
Петька Парабелец был служилым пришедшим из Тюмени с Шубиным – отправлен в Томск с письмом от воеводы. А обратно вместо него было получено, от томских воевод, другое письмо, в котором говорилось, что по пути Петька набрёл на ясачного остяка Таганашку и силой взял у того: «котлишко и соболишка и лыжишка». За это Петьку в Томске били батогами и, когда он от тех батогов окрепнет, его отправят назад в Алексеевский острог.
– Ты понял? Лыжи взял! Ну, не балбес? Ведь надёжный мужик… был, – Андрей Леонтьевич ткнул пальцем в письмо, – вот и князь о стрельце пишет: «надёжный!».
Воевода, набрав в грудь воздух, крикнул:
– Катька, стерва! Ну-ка неси уже – сдохну скоро!
Из соседней комнаты проворно выбежала Катерина, неся огромный, даже при её росте, кувшин, и поставила его перед воеводой. Метнулась обратно и вышла, неся теперь чугун со щами. Грохнула и его на стол. Снова вышла. Теперь уже, сильно отклоняясь назад, притащила большое блюдо с хлебом и мисками, наполненными разной снедью: огурцы мочёные, сало крупно нарезанное, утка, печёная разорванная кусками, всё накрытое белым рушником. Еле донесла. Кое-как на стол поставила, опустила затёкшие руки – отдышаться бы!
– Ну, плошки неси и ложки скорей! – донимал её Андрей Леонтьевич.
– Жди, изверг! – бросила Катерина ему в лицо и нарочно медленно вышла из комнаты.
Воевода оскалился и сквозь зубы:
– Стерва она и есть стерва. Держать её вот здесь надо, – он крепко сжал кулак и показал его Перминову. – Я уж знаю, как с такими быть!
Шубин затрясся всем телом от смеха.
– И рюмки не забудь ещё, – крикнул он сквозь этот смех с хрипотцой и, вытирая слезящиеся глаза, повернулся к подьячему, – пить-то из чего будем?
Катерина всё принесла. Разлила по тарелкам горячих щец: воеводе и гостю. Андрей Леонтьевич, встал, налил полную рюмку, крепкого вина, что Филька курил специально для него, не морщась, выпил и принялся за свою трапезу.
Подьячий ел нехотя – думал о чём-то. Воевода заметил это:
– Слушай, Максим Максимович, раз всё одно сидишь в тарелке ковыряешь, сходи-ка лучше да позови того стрельца. Глянем хоть, что за птица.
Перминов вышел. Через время вернулся и снова занял своё место у воеводского стола. Ещё через время дверь без стука открылась, и в комнату вошёл человек, в расстёгнутом тулупе поверх стрелецкого кафтана из серого некрашеного сукна. Шапка в одной руке, другая – неловко цепляется за болтающуюся на боку шпагу. Андрей Леонтьевич усмехнулся: ещё десяток годов и эти шпаги возами будут закупаться за границей, для вооружения стрельцов, просто потому, что дешевле. Видимо валялась эта диковинка в закромах стрелецкого приказа без дела, вот и всучили её новику, просто «чтоб было»!
Стрелец перекрестился на образ и поклонился:
– Звали? – его низкий голос был противоположностью среднему росту и совсем небогатырскому сложению.
– Если ты Елисей Юрьев, то звали. – Шубин оторвался от еды и исподлобья взглянул на стрельца. – Знаешь кто я?
– Воевода здешний.
– Знай, что не с каждым новым служилым я говорю, но о тебе писал сам князь Черкасский, начальник всего Сибирского приказа. Откуда он знает тебя?
– С Москвы ещё. Что пишет хоть?
– Ишь, ты! – удивился дерзости воевода, – Что мне писано – мне и читать. Ты вот что скажи: с какого ляда ты в Сибирь пришёл? Сибирь-то, она сахаром не усыпана.
– Я же теперь стрелец. Моё дело – служба. Послали – пришёл. Выбор у меня небольшой.
– Ладно-ладно. Ты, стрелец, запомни: мы с тобой не в бирюльки играть сюда посланы – дело Государево делать. И потому будет у меня к тебе работа. Ты только в остроге появился, а уже отметиться успел, вот потому мы с Максимом Максимовичем одно дело и решили тебе поручить. Заметь – именно тебе! Справишься – будет от меня похвала и особое к тебе расположение.
Воевода вернулся к еде:
– Максим Максимович, объясни ему.
Встав из-за стола, Перминов легко, из огромного кувшина, налил полную свою рюмку и поднёс её, неловко переминающемуся с ноги на ногу, Елисею. Тот, поднял локоть, принял рюмку. Выдохнув в сторону, разом выпил Филькино вино. Глаза заслезились, дыхание спёрло, «крепка зараза!», но виду не подал. «Молодец!» – подумал подьячий, принимая назад рюмку, а вслух сказал:
– Садись. Слушай, – вернулся и сел на своё место. – Дело тонкое. Говорить о нём не следует никому. Сотника сейчас нет, потому воевода тебя у полусотника твоего, у Васьки Фёдорова, к себе заберёт. Мол, ему служилый человек для поручений разных позарез нужен и всё такое. Васька с воеводой спорить не станет, сам понимаешь.
Стрелец, продолжая стоять, кивнул. Перминов разъяснял с расстановкой:
– С самого рассвета будешь возле подворья матушки Агриппины. Старуха одна, здесь женскую обитель пытается построить. Пока, правда, плохо получается – двое их всего: сама игуменья и девка у неё на послушании. Вот, возле её подворья есть ещё один дворишко – воевода тебе этот дворишко жалует за то, что проявил ты себя дважды. Спустишься сейчас в подклеть, разыщешь Кондрата. Возьми у него инструмент, какой на первое время, потому как на том дворе с избой повозиться придётся. Будешь присматривать за игуменьей и той девкой. К ним ещё воевода Катерину приставил.
Воевода оторвался от трапезы, вытер лежавшим на блюде рушником рот:
– Катерина, – ему как будто доставляло радость звать её истошным криком.
Катерина выглянула из-за закрывавшей дверной проём занавески.
– Вот она, – подьячий указал на высунувшееся её нарумяненное лицо, – будет туда припасы разные возить – воевода у нас человек жизни праведной, потому и монастырю от щедрот своих вспоможение выделяет!
Катерина исчезла за дверью, а воевода привычно поднял вверх палец:
– Господь всех нас по делам судить будет, ибо благ и человеколюбец! Плесни-ка мне, Максим Максимович.
Перминов, наливая воеводе в рюмку, продолжал:
– Тебе надо стараться всё больше поодаль держаться. Если куда Катерина с послушницей из обители направятся, то следовать за ними хвостом, но не шибко рядом. Места у нас не простые. Мало ли кто докучать станет. Тунгусы, опять же, лютуют. Понятно тебе? Да и что стоишь истуканом – сказал же, садись!
Стрелец послушно сел на дальний край длинной лавки.
– Иногда послушница одна будет ходить…
Воевода добавил:
– В аманатскую избу к примеру…
– Ну да, – подьячий подошёл и сел на лавку с Елисеем рядом, – в аманатскую избу. Воевода разным убогим покровительствует и потому даже аманатов подкармливает. Правда сидит там только один Ялым. Ялыма ты уже знаешь! Вот Андрей Леонтьевич его пропитание и поручил обители, – повернулся к Шубину. – Как там она её назвала?
– Христорождественская! – подсказал тот.
– Вот! Христорождественская обитель получается. И уж тем больше надзор требуется, если послушница, величают её Евдокия, одна ходить будет. Ну как, лиходей… ты же шпажицей ему пригрозишь, аль из пищали в небо стрельнёшь – он и одумается.
– Только смотри, чтоб не до смерти, – хохотнул воевода, – чтоб все живы были. И без того в остроге людей мало.
Перминов добавил:
– Это если не тунгус… а коль тунгус, то можешь и наповал разить. Ну, вроде бы всё.
– Ступай, коли всё понятно, – кивнул на дверь воевода, – тебе же всё понятно?
Елисей встал, помял в руках шапку:
– Повсюду следовать за бабами, но держаться поодаль. Коль подсобить чем или заступиться – исполнить. Дело нехитрое… в чём тонкость-то?
– Тонкость в том, – упёрся взглядом в стрельца воевода, – что ни я, ни Максим Максимович, ни о чём тебя не просили! Сам ты, своим разумением и по своим потребностям, то дело делаешь. Ясна тебе тонкость? Справишься?
– Сделаем.
– Вот и ладно. Ступай.
Стрелец поклонился и вышел. Андрей Леонтьевич повернулся к Перминову.
– Что думаешь?
– Думаю, справится – задача для него и вправду не хитрая. Ещё думаю, что Сибирь не большая награда за надёжную службу, – усмехнулся Перминов. – Бежит он от чего-то. Его десятник сказывает, что в Тобольск его, вообще, в кандалах привели, только там и сняли.
– Если б бежал, то бежал бы в казаки, а он видишь – стрелец. Не соглядатая ли нам с тобой прислали? Расспросить бы следовало.
Андрей Леонтьевич с опаской покосился на дверь.
– Да, что расспрашивать? Соврёт же!
– Это верно… ты, Максим Максимович, посмотрел бы за ним.
Воевода окончил свой обед, обтёрся рушником и кивнул Перминову на кувшин, мол, налей. Сам неожиданно тихо сказал, повернувшись в сторону соседней комнаты:
– Катерина, не стой там – покажись.
Та видно скрывалась сразу за дверью, потому что появилась, буквально, через мгновение после слов Андрея Леонтьевича. Не спуская глаз с Перминова, подошла к воеводе вплотную. Тот ухватил её и усадил себе на колени:
– Всё слышала?
– Да, уж слышала.
– Завтра возьмёшь сани – тебе запрягут – нагрузишь, что я тебе указал, и к старухе отправишься, – Шубин взял Катерину пальцами за подбородок и повернул её лицо к себе. – В мои глаза смотри! Найдёшь этого стрельца…
– Елисея?
– Его…
– Имя-то какое – Елисей! – прошептала Катерина на ухо Шубину.
– Слушай внимательно, – воевода больно ущипнул её за бок. Катерина вскрикнула и вскочила, – если он сегодня сам не найдёт, то покажешь ему зимовку, ту гнилую, что рядом с подворьем стоит. Пущай он её поправит, залатает… ну, сделает, что надо и поселится там. Для того чтоб был подле вас неотступно. Всё поняла?
– Да, уж поняла.
И, показав воеводе язык, выскочила вон. Андрей Леонтьевич крикнул ей в след:
– Шубу мою принеси, и шапку! Я по острогу пойду.
Повернулся к Перминову и подмигнул:
– Забирай девку. Пятьдесят рублей всего.
– Не продашь ты её в остроге за такие деньжищи. Рублей десять… может чуть больше – красная цена. А мне самому она не к сердцу.
Воевода расхохотался:
– Да разве ж я её тебе для сердца предлагаю? Она на другое нужна! Что же о деньгах… – прищурился. – И за пятьдесят рублей продам! Увидишь!
Хоть и хотелось Андрею Леонтьевичу, после сытной трапезы часок-другой вздремнуть, но знал, что сердце тревожное не даст ему покоя. Потому и не пытался он прилечь, но надев одёжу свою, не по-местному богатую, шёл он обычно по острогу да посаду слоняться, чтоб за людишками, Государем ему доверенными, приглядывать.
5
Утро игуменьи Алексеевского Христорождественского монастыря подчинялось строгому распорядку. Вставала рано, ещё до рассвета. Молитвенное правило начинала с «Благословен Бог наш…», затем обыкновенно: «Царю небесный…», «Пресвятая троица…» и «Отче наш…». После чего разумеется: «Встав ото сна…».
Далее шли разные псалмы и тропари, разбавленные бесчисленными поклонами. Коленопреклонённая матушка, широко крестясь, всё громче читала свои утренние молитвы, в то время как Дуня притихла на своей лавке, повернувшись к стене, делала вид, что спала – не хотелось присоединяться к молитве.
Только расцвело, как в наглухо запертую избу стали доноситься звуки ударов топором. Возможно, где-то в посаде они были бы и не так слышны, даже спозаранку, но обитель находилась с другой стороны от острога, стояла в одиночестве, только рядом был заброшенный дворишко – кривая изба с дырявой крышей, да остатки ограды, потому, обычно, ничто не нарушало тишины в округе. Но в это утро некто совсем рядом настойчиво подрубал какую-то доску, это заставило матушку прервать свою молитву.
Дуня, воспользовалась тем, что бубнёж прекратился, вскочила и, накинув на плечи тулуп, пулей вылетела во двор. Пробыла там недолго, теперь уже не спеша, вернулась и, бросив на тулуп на лавку, виновато посмотрела на всё ещё стоящую на коленях игуменью.
– Что там? – спросила матушка, с трудом поднимаясь с колен.
– Я не смотрела. С топором кто-то… у соседей.
– Да, нету у нас никаких соседей!
– Может теперь поселился кто?
– Может и поселился…
Матушка подошла к печке, где уже давно прогорели дрова и, задумчиво поворошив кочергой остывшие угли, заметила:
– Нехорошо, милая, без молитвы день начинать – не по-христиански. Раз уж мы с тобой в монастыре обретаемся, то и устав соблюдать должны. Сегодня уж ладно, а завтра я тебя с собой подниму.
Дуня кивнула, затем вскочила, десятикратно перекрестилась на ту стену, куда молилась матушка (Икон в обители не было, потому молитву совершала игуменья просто на восток, благо, что восток был аккурат напротив входной двери!), вбила в пол столько же поклонов и посмотрела на матушку. Та засмеялась:
– Ладно тебе, егоза! Давай, что ли, печь топить.
Дуня залезла на лавку, повытаскивала рогожу, которой на ночь затыкались узкие окна; затем нанесла со двора дров, воды из колодца. Матушка разожгла огонь в печи и повесила над ним котелок – воду кипятить. Дуня схватилась за метлу, начала мести с дальнего угла…
Послышалось покрикивание возницы – на двор заезжали чьи-то сани.
– Пойди, глянь, – указала матушка.
Оказалось, приехала Фирсова. Как всегда, со стариком Макаром. Подбежала под благословение к игуменье – расцеловались. Расспросила о здоровье, послушала жалобы; посетовала, что дела не позволяли заглянуть раньше; поделилась новостями. Заклинала помилосердствовать и позаботиться о Дуне.
Матушка Агриппина, довольная вниманием сотницы, которую считала своей воспитанницей, пообещала во всём помочь. Смиренно приняла от Фирсовой подношение: сушёные фрукты, лепестки цветов для заварки, рукавицы заячьи, и стельки тоже заячьего меха.
Ольга Андреевна долго не задержалась, пообещала ещё заглянуть и, попрощавшись с Дуней, упорхнула.
После Фирсовой, едва не попав под её сани, к матушке забежал Иван Яковлевич. Что-то сбивчиво лопотал на ломаном русском, про маленького Никитку (матушка уже знала о случившемся от Фирсовой), торопливо собрал какие-то мази в склянках, которые обычно хранил здесь, под присмотром игуменьи и, пообещав позже рассказать подробности, выскочил вон из избы.
Матушка и Дуня молча переглянулись и залились смехом – немчин в своей суете Дуню не заметил, хотя один раз даже поднял крышку сундука, на котором та испуганно притаилась… но скоро замолчали, устыдившись своего смеха – Никитку жалко!
– Господи помилуй, – спешно перекрестилась Дуня.
– Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешную! – встав, осенила себя крёстным знамением матушка Агриппина.
Дуня вновь схватилась за метлу и продолжила старательно подметать большую комнату. Матушка развернула один из подаренных Фирсовой узелков и, взяв оттуда горсть лепестков, кинула их в котелок, в уже давно закипевшую воду.
– С утра хорошо не утробу свою набивать, но, помолясь, горячего пития принять с благодарностью ко Господу, – поучительно бормотала игуменья.
Дуня не была избалована едой… да и вообще её ничем не баловали, хоть и жили Чуркины в достатке – в семье держали в строгости. Дня не проходило, чтоб не слышала она в свою сторону крика или упрёка. Потому монотонные поучения доброй матушки Агриппины, замешанные на напускной суровости, нисколько не пугали Дуню.
– Какую работу делать умеешь, а? – спросила игуменья.
Дуне не переставала подметать, иногда сдвигая мешающую лавку или тяжёлый сундук.
– Разную, матушка.
– Ну, какую – разную? Рубаху сошьёшь?
– Сошью, матушка.
– А вышить, так чтоб с птицами и зверьми разными, сможешь?
– Смогу, матушка.
– А тесто замесить и хлеб слепить или просфору?
– Слеплю, матушка.
Содержательный разговор прервал скрип, резко открывшейся двери, донёсшийся из сеней и озорной женский смех:
– Ирод ты, а не служилый человек! Мог бы, и помочь из саней выбраться. Стоял там, в стороне столбом.
Затем стук каблучков об пол – хозяйка озорного смеха сбивала налипший на обувку снег.
Матушка всполошилась:
– Господи помилуй! Да что ж это твориться – то неделями никого, а здесь гость за гостем!
Дверь из сеней распахнулась и в полумраке матушкиной избушки объявилась Катерина, наряженная в ферязь на лисьем меху, с такими длинными рукавами, что даже завязанные по обыкновению сзади, они всё одно волочились по полу. На голову платок бархатный намотан, из-под которого выбился шаловливый локон, в руке муфта бобрового меха. Зайдя в дом, она всё ещё топала, сбивая снег с сапожек.
– Что вы здесь в темноте такой, как в гробу? На дворе солнце – аж глаза дерёт, а вы в этой норе.
Катерина вертела головой, силясь со света разглядеть хоть что-то:
– Дуня здесь? Ду-уня!
– Тебе чего надо? – Матушке сразу не понравилась эта разодетая хамоватая бабёнка. – Вошла, не крестясь! Ни тебе здравствия, ни «благослови матушка». Ножищами топ-топ! Кто? Где? Ты сама-то, кто такая будешь?
– Я – Катерина! Меня воевода прислал с припасами для аманатов. Ну, и вообще поспрашивать, в чём у обители нужда. Может, какая помощь пригодится.
Матушка, кряхтя и охая, поднялась со своей лавки, медленно подошла к Катерине вплотную.
– Это ты-то помощница, что ль? Нам бы воды принести, дров набрать, чугунки помыть. Мы тут с Дуней ещё для батюшки новую епитрахиль вышивать задумали, так надо ещё полотно выткать. За что возьмёшься, помощница? И дверь закрой – тепло выходит!
В углу за дверью кто-то хихикнул. Катерина, заглянув туда увидела, девчушку, вцепившуюся в метлу.
– Так ты вот где, – с интересом посмотрела на Дуню посланница, – я тебя едва не придавила.
Матушка одёрнула гостью за длинный рукав:
– Ты погоди с Дуней-то! Что там за припасы? Для каких ещё аманатов?
Пугала старую игуменью, так неожиданно свалившаяся на её голову, новая жизнь. Вроде и искала она важности для своей обители, но уж давно, как перестала о таком помышлять. Привыкла матушка из избы своей только к нужным делам выходить. И заботиться привыкла только о своём житье-бытье. Ну, насельницу-то она ещё как-то потерпит, но нагрянувшие с утра гости ввели старуху в замешательство. Аманаты ещё какие-то…
– Как там тебя? Катерина? Сказывай, о каких ещё аманатах я не знаю?
Катерина вошла вглубь комнаты, нашла лавку, брезгливо провела по ней кончиком пальца, но сесть не решилась, только повернулась лицом к матушке:
– Воевода кормёжку аманатов на обитель возлагает. Харч разный он присылать будет и, если помощь надобна, просит, чтоб обо всём ему сказывали. Меня же особливо просил за Дуней приглядеть. Чтоб первое время сама по округе не шастала.
Матушка направилась на свою лавку и шла при этом так неумолимо, что попавшаяся ей на пути, важно стоящая Катерина, вынуждена была отскочить в сторону – игуменья не преминула бы её оттолкнуть, появись удобный случай.
Сама же Катерина, отскочив, кивком головы позвала Дуню на выход.
– А этот, который с утра за забором топором стучит – не воеводский ли человек? – спросила игуменья, бухаясь на своё место у печки.
– Который? – задержалась гостья у двери.
– Будет тебе из старухи дуру делать! С которым ты вот только пересмеивалась!
– Мужик какой-то. Сосед вроде ваш. Если вы его не знаете, то чёрт его тогда знает.
Матушка схватила стоящую рядом миску и швырнула её в богохульницу:
– Не чертыхайся мне тут! – крикнула успевшей, с визгом, выскочить в сени Катерине.
Миска, упав, разлетелась на несколько черепков. Катерина, вернулась и заговорщицки протянула:
– Ду-уня! Идём помо-ожешь!
Дуня взглядом попросила у матушки разрешения.
– Иди уже – простонала матушка, – будто всё здесь без меня теперь решается.
Помогать не пришлось – воеводский холоп Кондрат, который довёз сюда Катерину, уже снёс все узелки да туески в сени и, забравшись на облучок, нетерпеливо ёрзал, оглядывался на дверь в надежде поскорей вернуться назад. Припрятанная утром, стянутая с воеводского стола солонинка, не давала ему покоя. Как бы не нашёл Терёшка конюх, в чью унту он и сунул наспех ту добычу. Терёшка спьяну не проснётся до полудня (если воеводе лошадь не понадобиться и не разбудит он конюха пинками). Но баба воеводская всё не торопится, а значит – драгоценная солонинка под угрозой!
Катерина вышла на крыльцо, дождалась Дуню, и они вместе направились к саням.
– Ну, как тебе здесь живётся?
Дуня пожала плечами. Она не была знакома с этой высокой прелестницей и немало её смущалась. Так же, как и матушку, её беспокоили неожиданные перемены в жизни. Всегда она знала, что одинока, беззащитна, а сейчас… сколько людей за последние два дня принимают в её судьбе участие! Как это случилось?
– Чего молчишь? Я же к тебе в подруги набиваюсь, а ты меня сторонишься! Боишься меня?
– Боюсь…
– Ну, это глупости! Уж я-то тебя не обижу. Завтра здесь буду с утра. Там в воеводской избе тунгус сидит. Ялымом зовут. Знаешь?
– Знаю, – опустила глаза Дуня.
– Андрей Леонтьевич желает, чтоб впредь аманатов с обители кормили, а матушка, понятно, в такую даль ходить не осилит – не с её ногами. Вот потому эта забота на тебя и ляжет.
– Мне нельзя отсюда выходить – меня назад уведут. Оленька Андреевна обещала, что здесь за мной присмотрят.
Дуня непонимающе смотрела на Катерину. Та, в свою очередь, не сводила глаз с мужика, который подставив лестницу, забирался на крышу слегка покосившейся соседской избы. С того самого, что с утра беспокоил насельниц монастыря своим стуком.
– Оленька Андреевна – это Фирсова? Сотница? – спросила Катерина. – Так она не обманула. Вон твой присмотр!
Рукой в муфте она указала на соседского мужика и крикнула:
– Елисей! А, Елисей! Поднести котомки не захотел, так может, в сани подсадишь?
Елисей, только переставил ногу с лестницы на крышу, задержавшись, посмотрел на зовущую его бойкую бабёнку, затем, опустив глаза, покачал головой и продолжил свою работу. Ему ещё предстояло починить прохудившуюся крышу, а с гвоздями была беда (нашёл в избе с десяток – на две доски) – тоже забота, а тут эта…
Катерина повернулась к озадаченной Дуне:
– Вот, он за тобой и присмотрит. Считай, что Ольга Андреевна, твоя, с ним и сговорилась. Его не бойся – будет рядом топтаться, да по сторонам поглядывать.
Пока Катерина устраивалась в санях, из трапезной вышла матушка.
– Слышь, нарядная! – окликнула она Катерину. – Видала, какая у нас темень-то? Скажи воеводе, что надо бы окна пузырём затянуть что ли. Не то в другой раз к нам заглянешь и ноги переломаешь.
– Скажу уж, – крикнула ей в ответ Катерина и аккуратно, носком сапожка, толкнула в спину Кондрата. – Поехали уже, а то вижу, неймётся тебе!
Кондрат с облегчением выдохнул, дёрнул вожжами и лошадь, тряхнув гривой, стала выворачивать сани вон со двора.
6
Елисей не стал откладывать на потом порученную ему работу. Сперва поспрашивал у людей, разыскал и монастырь, и по соседству с ним жалованный дворишко. Это и вправду скорее была обычная здесь оставленная зимовка – слегка покосившийся небольшой домик, без сеней. Такие во множестве, заброшенные, гниют по округе. Крыша, скорее всего, в дырах – под накрывшим её снегом не ясно. Два окошка заколочены, дверь, сброшенная с петель, прислонена к стене рядом. Зайдя внутрь, он обнаружил сложенную печку – уже хорошо! Изба построена с чердаком – тоже удача – даже если крыша сильно прохудилась её можно залатать, но без чердака сохранить здесь тепло было бы не просто. «Если задержусь здесь – сени пристрою!», – решил Елисей и направился в острог, за инструментом.
С утра, как только посветлело, он принялся за работу. Внутри домика стояла какая-никакая утварь: широкий стол, несколько лавок. Длинная полка, одним краем прибитая к стене, другим краем лежала на полу. Оставив себе одну лавку, всё остальное Елисей разобрал на доски – под крышей они неплохо сохранились – можно использовать их для ремонта. Повынимал из досок гвозди и собрал простенькую лестницу – надо же как-то забраться на крышу и отчистить её от снега.
Суетясь вокруг своего, так нежданно доставшегося, жилища, Елисей не забывал поглядывать на монастырские домики, притаившиеся невдалеке за оградой. Там тишина – ни звука, ни света. Только один раз, когда только начал он разбивать топором лавки на доски, показалось, будто хлопнула дверь, а после ещё раз,… Вот уже и дымок из дымника потянулся.
Обитель оказалась не такой заброшенной, как подумал Елисей сначала. То одни сани подъехали с утра, привезли шуструю бабёнку, то на других пожаловала Катерина – ох, и охальная баба, как её воевода терпит? Живёт монастырь.
Елисей, откинув сгнившую на крыше доску в сторону, закрыл получившуюся прореху, втащенной по лестнице новой доской, прижимая её к крыше грудью, прибил теми гвоздями, что вытащил из лавок. Надёжно не получилось – коротковаты гвозди.
– Не выходит? А, Елеска? – услышал Елисей чей-то голос.
Он завертелся, силясь понять, кто его зовёт, собранная наспех лестница поехала в сторону, и стрелец рухнул вместе с ней прямо в сугроб под стеной.
– Да что ж ты! – воскликнул голос и кто-то, подбежав, принялся вытягивать его из снега.
Елисей выбрался, стёр с лица снег и увидел перед собой Осипа Варламова, кузнеца, что пищаль отладить предлагал. Тот отряхивал с себя снег, притопывая ногами, похлопывая рукавицами и посмеивался:
– Точно в сугроб-от саданул. Ничего. Цел хоть?
– Да, цел. Лестница не ахти как собрана, вот и не устояла!
Стрелец отряхивал свой серый кафтан, чтоб не успел промокнуть. Верхний кафтан, на овчине, он загодя снял – без него работать сподручней.
– Ты вчера по острогу про эту-от зимовку выспрашивал. Так я-от сразу понял, что тебе помощь моя не помешает. Принёс тебе гвоздей хороших, топор-от принёс – знатный топор. Так, по мелочи, всякое ненужное-от в кузне собрал, – он пнул лежавший на снегу тяжёлый мешок, из которого опасно торчали в стороны какие-то железки, – посмотришь потом.
Осип уверенно направился в избу:
– Погляжу, как ты тут устраиваешься.
Зашёл внутрь осмотрел убранство:
– Ну, ничего. Крыша-от есть, печь есть. Ничего!
После вышел, обошёл избу кругом, похлопывал рукой по бревенчатым стенам, приговаривая: «Ничего!». Вернулся к Елисею, стал рядом с ним, по-хозяйски упёр в бока руки и оглядел стрелецкий дворишко: изба чутка, перекошена, крыша дырявая, окон – считай и нет, огорожа – кое-где сохранилась, нужная яма где – непонятно, а может и нет её совсем?
– А что, жить можно – сносный дворишко! Ничего!
Кузнец повернулся к Елисею, сняв рукавицы, почесал себе шею, где-то под густой бородой с проседью:
– Я к тебе, на пиво пока не напрашиваюсь – ты ещё долго-от обживаться будешь. После полудня могу подручного своего прислать. Подсобит, если что. Чего умолк? Оторопел?
– Оторопел понятно. Как-то привык всё сам. Спаси тебя Бог за подмогу и подарки! – Елисей поклонился, сняв шапку, и коснулся ей заснеженной земли. – А подручного не стоит утруждать – справлюсь.
– Будет тебе поклоны-то бить! Я не поп, а мы-от не в храме. Ты вчера хорошее дело сделал. За то тебе-от от меня и похвала,… да и не только от меня, – Осип огляделся ещё раз, осматривая двор. – Идти мне надо… но ты-от заглядывай. Понял? Заглядывай ко мне-от – пищаль твою всё ж поправить надо.
Кузнец, надевая рукавицы, направился прочь с Елескиного двора, осторожно ступая в протоптанные в снегу следы. Возле места, где возможно когда-то стояли ворота, а теперь, так же возможно, появятся новые, он остановился и, повернувшись к, до сих пор стоявшему на месте, стрельцу, громко сказал, погрозив пальцем:
– А ты-от бедовый парень, Елеска Юрьев! Что-то часто во всякую-от бузу суёшься! – так же посмеиваясь себе в бороду, повернулся и сделав с пято́к шагов, скрылся за наваленным на плетень сугробом.
Елисей смотрел ему в спину, затем поднял принесённый Осипом, мотанный-перемотанный разными тряпками, мешок с перевязью и понёс его в дом. Там развязав все узлы, он нашёл в мешке несколько ржавых ножей, топор, наконечники для пешни и багра, пару шильцев и крючков для кожи, отдельно завёрнутые большие гвозди, оковку для лопаты, оловянную миску и маленький котлишко – нежданное богатство.
Что ж: изба есть, утварь есть, а главное – люди тоже есть… Прав кузнец – жить можно!
Елисей вышел наружу и, теперь уже другим взглядом, оглядел свой новый дом. Крышу он починит, и сени пристроит. Сарай поставит – как же в хозяйстве без сарая? И конюшню поставит обязательно! Вокруг всего ограду выправит – такую, чтоб понятно было – вот здесь двор служилого человека Елисея Юрьева. И ворота, но – добротные – из досок!
Потом и избу перестроит, только чтоб непременно с подклетью и широким крыльцом! Одному ему, конечно, незачем, но глядишь…
Хлопнула дверь в избе обители и шустрая девчушка в накинутом на плечи тулупе, выскочила во двор. Собрала в охапку наколотых поленьев и, возвращаясь, задержалась на крыльце – заметила соседа. Один короткий миг они смотрели друг на друга…
7
Первая аманатская изба Алексеевского острога, за недостатком места, была поставлена недалеко от ворот. Простой бревенчатый сруб без окон с двускатной крышей и земляным полом. Печь сложить, хоть какую-то, не потрудились, потому обледенелые стены не были редкостью.
Запертые в такое узилище, аманаты не оставляли попыток удрать. Основным к тому средством видели подкопы – караульные их постоянно выискивали и, обнаружив, зарывали, накидывая в яму острых камней. Но эта мера помогала мало, а близость ворот прельщала: аманаты, словно кроты – рыли и рыли. Вот тогда-то Яков Ефимович и придумал сажать их на цепь.
Когда пришло время перестраивать острог, Хрипаков решил перенести избу подальше от ворот, чтоб усложнить побег. Место нашли аккурат возле воеводского дома. А что? Пусть ещё и под его присмотром будут! Поглядывал Яков Ефимович с высокого резного крыльца, чтоб не спали караульные и сторожили заложников надёжно. Тех же, кто провинился – учил плетью и нередко собственноручно!
Воевода позаботился, чтоб в новой аманатской избе пол устроили из больших массивных валунов, закопав их в землю, чем и отрезали возможность рыть для побега ходы. Правда цепи никуда не исчезли и аманаты по-прежнему, были прикованы ими к стене.
Окна прорубили, печь устроили. Вроде и хорошее дело, но ставни на окнах держали закрытыми, а печь нетопленной. Случалось, узники помирали – караульные за недосмотр получали по сусалам, а воевода посылал собирать новых заложников.
Перед тем как оставить, подошедшую к концу, службу Яков Ефимович озаботился всех аманатов обменять на мягкую рухлядь, чтоб не оставлять их новому воеводе – пусть свою прибыль сам ищет. Оставался лишь один Ялым. К великой досаде было найдено, что никому он, вроде, и не нужен, а у воеводы имелись на Ялыма немалые чаяния – полагал Яков Ефимович, что бунташный братец Ялыма, Тасей, ради него, прекратит воровство по тайге устраивать, и даст шерть Государю: вовремя положенный ясак платить. Однако Тасей не проявлял к судьбе брата интереса, бунт не прекращал… и сбыть Ялыма, хоть и за малую цену – не удавалось.
Так и сидел бы горемычный невольник на цепи, если бы новый воевода не проявил христианское милосердие и не приказал цепь эту с тунгуса снять.
Разумеется, Ялым принялся сбегать. Первый раз его вытащили из дымника – посмеялись и заколотили дымник. Другой раз он каким-то чудом разобрал доску на ставне. Ставни вынули вовсе, (одну для вида оставили, но замок на неё исполинский навесили), а остальные оконные проёмы наглухо заколотили досками. В третий раз он разбил лицо, открывшему для кормёжки дверь, стрельцу – остановили аж у ворот.
Яков Ефимович, ругался и требовал Ялыма снова на цепь посадить, но новый воевода, Андрей Леонтьевич Шубин, на то никак не соглашался. Хрипаков в этом усматривал влияние Алексеевского подьячего – Максима Максимовича, который ещё при перестройке острога предлагал завести целое для аманатов подворье – с сараями, кухней и другими разными благами (даже печь настаивал топить – совсем полоумный!).
Андрей Леонтьевич, резонно решив, что снаряжать целый караул для одного человека будет лишним, наказал выделять на охрану Ялыма всего одного стрельца, чем окончательно раздосадовал Якова Ефимовича. В последний день перед отъездом он дал работу своему подручному, сотнику Поздею Фирсову, в оба глаза следить за новым воеводой, которого считал глупым и бесхребетным увальнем. Правда слежка откладывалась на пару недель, так как Фирсов отправился сопровождать обоз с Хрипаковым до Оби – однако, как вернётся, так сразу за присмотр и примется!
Пока же счастливчик Ялым пользовался милосердием нового воеводы и, пребывая в своём заточении, ждал удобного случая улизнуть. Да и что должно было его держать?
– Открой-ка!
Катерина подошла к скучавшему у дверей аманатской избы стрельцу.
– Открывай, скорее! – настаивала она. – Кормёжку аманату принесли, али хочешь, чтоб он у тебя с голоду издох?
Гришка Чистяков, прозванный за смешливый нрав «Друганка», совсем молодой служилый, сидел на, перевёрнутой вверх дном, плетёной корзине, молча смотрел то на Катерину, то на Дуню. С вечера десятник предупредил, что аманата должны с монастыря кормить. Посмеялись стрельцы, конечно – больная бабка, что ли жратву таскать будет? А тут вот – девицы объявились. Одна вообще, как на праздник вырядилась.
– Ты что ли принесла? Его же от стрелецкого котла держат. Вчера налима давали, – зевнул Гришка, – может пусть утра ждёт?
Возмущённая, Катерина повернулась к Дуне:
– Нет, ты слышала? – всплеснула руками. – Они его через день кормят! Ироды! Как он там держится? Давай глянем.
Она подошла к двери и открыла, проделанное в ней, смотровое оконце. Заглянула внутрь.
– Бе-едненький! Смотри – ему плохо там! – Катерина подтянула Дуню. – Смотри, смотри! Видишь?
Дуня, поднявшись на цыпочки, тоже заглянула внутрь. Окна в избе вовсе заколочены, внутри темень, и не рассмотреть толком ничего… только на печке в углу, что-то темнело – скрутившись в калач, на ней лежал тунгус.
– Он замёрз! – Дуня опустила глаза. – Живой ли?
Стрелец, нехотя слез с корзины, тоже заглянул внутрь и захлопнув оконце дверкой процедил:
– Да что с ним сделается? Он же, как собака – может яму в снегу вырыть и в ней спать. Живой он.
Катерина оттолкнула его, вновь открыла злополучное окошко и кивнула Дуне:
– Позови его!
Та удивилась:
– Я?
– Мне зачем? Тебе же его кормить.
Наблюдавший за происходящим стрелец не выдержал:
– Та давайте я ему харч занесу. Делов-то!
Катерина стукнула Гришку по, протянутой к туеску с едой, руке:
– Куда тянешься? Знаю я вас чертей! Всё сами пожрёте! Дуня будет приходить, и сама тунгусу харчи отдавать. И попробуйте только, что-то у неё отнять – враз воевода посохом по горбу накидает!
Гришка вспомнил, где он видел эту бабёнку – в санях с воеводой как-то к гостиному двору подъезжала…
Катерина подтолкнула Дуню к окошку:
– Давай. Зови его. Он по-нашему знает.
Дуня не совсем понимала, зачем это, но ничего же неприличного… Она снова поднялась на носочки и, заглянув в оконце, тоненько позвала:
– Ялым…
Тот не поворачивался, продолжал неподвижно лежать.
– Ялым! – повторила Дуня.
Гришка не удержался и долбанул несколько раз кованым каблуком в дверь. Дверь затряслась на петлях, загремела. Катерина, в ужасе, стукая в его спину кулачками, погнала стрельца прочь:
– Ты что же делаешь? Иди – вон, на свою корзину сядь и не мешай!
Гришка, не соображая, что происходит, что он сделал не так, отошёл подальше и от избы, и от этой бешеной бабы.
Дуня, с улыбкой посмотрев на озадаченно пятившегося Гришку, вновь повернулась к двери и испуганно отшатнулась – на неё, не отрываясь, смотрел Ялым. Она, было, сделала шаг назад, но наткнулась спиной на Катерину – даже наступила ей на сапожок! Та, твёрдо, подтолкнула Дуню к двери:
– Иди! Скажи ему…
– Что сказать?
– Что-что, – передразнивала Дуню Катерина. – Скажи, что… еду ему принесла. Что не понятного?
Дуня поспешно подняла туесок перед собой и ткнула им в окошко:
– Вот… еду принесла… тебе… будешь еду?..
До того, сдерживавшая себя Катерина, со смехом обхватила её за плечи. Дуня немало удивляла такую прожжённую деваху, какой сама Катерина всегда была. Уж для неё мужики не были сложностью – а эта, прям, остолбенела! Немного прослезившись от умиления, она забрала у Дуни туесок:
– Я с тебя не могу! Что ж ты ему прямо в рожу тычешь? – затем повернулась к стрельцу. – Чего расселся? Иди – открывай.
Гришка обиженно отвернулся и огрызнулся:
– Через окно передай. Буду я ещё подниматься!
– Тебя как величать? – подошла к нему Катерина и шаловливо улыбнулась.
– Григорий Чистяков я! Григорий Данилыч!
– Ишь, ты – Данилыч! Гришенька, открывай, родной. Дуня тунгусу харчи передаст и всё, – потянула его за руку с корзины к двери.
– Он сбежит, – нехотя сопротивлялся Гришка, – точно говорю – сбежит!
– Это я тебе точно говорю, – не сбежит! – подойдя, толкнула Дуню под локоть и кивнула ей на, глазеющего из окна, Ялыма. – Узнай – сбежит аль, нет?
Не дожидаясь, ответа Катерина, сама повернулась к тунгусу:
– Она теперь каждый день станет к тебе с едой ходить. Удирать будешь?
Ялым медленно покачал головой из стороны в сторону. Катерина уже подтащила Гришку к двери:
– Давай, Гришенька, отворяй скорее. Не сбежит, – посмотрела на Дуню, – нет ему больше резона уходить отсюда.
Гришка боялся – уж, коль рванёт тунгус, то не удержать уже, но от этой разряженной девицы так необыкновенно пахло, толи свежей сдобой с мёдом… может, ещё немного ладаном!.. Ох и влетит же! Зачарованный, он достал из ножен саблю, открыл замок и вынул его из проушин. Отскочив назад, выставил вперёд клинок, ожидая прорыва пленника, но дверь не распахнулась и только Катерина воскликнула:
– Да, что ж ты такой пустоголовый?! Не побежит он!
Сунула Дуне туесок обратно в руки и, открыв дверь, подтолкнула её вперёд:
– Иди – накорми его и обратно пора! А мы тут пока с Гришенькой поворкуем. Правда, Гришенька? Или всё же Григорий Данилыч? – кокетливо понизила голос Катерина.
Дуня, боязливо подошла к двери, не далеко от порога, которой… в просвете, скрестив ноги, сидел Ялым. Он решительно не думал бежать – болезненно бледный, худой с интересом наблюдал за нечаянной гостьей. Протянул руки за поданной корзиной, взяв, поставил её в сторону от себя и продолжал смотреть на, стыдливо прятавшую от него взгляд, Дуню. Та, смущённо, оглядывалась назад на щебечущую со стрельцом Катерину и всё ждала случая, скорее, управившись, избавиться от пристального взгляда Ялыма. Но Катерина, будто не замечала её терзаний, хотя на деле, прикрывшись Гришкой, внимательно следила за этой парочкой. Но, к её досаде ничего не происходило – Ялым неподвижно сидел на полу и прищуренными глазами следил за робеющей девицей.
Наконец, выглянув из-за стрелецкого плеча, Катерина, разочарованно, позвала Дуню:
– Пошли уже, заболтались вы там, смотрю!
В этот миг Ялым, вскочив, схватил в свои руки Дунину ладонь:
– Ещё придёшь? – он смотрел в её испуганные глаза.
– Завтра… завтра приду…
Дуня, затаив дыхание, медленно освободила свою руку. Так же медленно сделала шаг назад и, повернувшись, метнулась к Катерине, так стремительно аж поскользнулась, и, вскочив, спряталась за ней от взгляда Ялыма. Тот не спеша подошёл двери взял рукой за её край, захлопнул, находясь внутри своей темницы. Гришка рванул к двери и быстро накинул замок, с облегчением закрыв его на два оборота ключа. Ялым не спускал с Дуни взгляда, смотря на неё через открытое дверное оконце, пока Гришка, заметив это, не захлопнул и его.
Довольная Катерина, на радостях обняла подругу, затем отряхнула её колени от снега, подхватила под руку и потащила прочь от аманатской избы:
– Идём скорее – на гостиный двор заглянем. Я тебе такие румяна подарю, каких ты в жизни не видывала!
– Так я никаких не видывала…
– Тем более! Значит точно понравиться! Только ты старухе своей не показывай – заругает!
Прижавшись, друг к дружке и смеясь, шаркая меленькими шажками по скользкому от снега помосту, они заторопились на Алексеевское торжище, где Катерину ожидали, заказанные для неё Андреем Леонтьевичем, подарки.
За ними, неприметно, шёл Елисей, притворяясь, что на гостином дворе его ждут дела неотложные. По пути заглянул в стрелецкую избу – перекинулся парой слов с товарищами; отскочил от опрокинувшихся под ноги поленьев, что привезли мужики из лесу да небрежно перекладывали с саней на сани; подошёл под благословение к отцу Ионе; поклонился, важно ступавшему по государевым делам, воеводе.
8
У гостиного двора, на покрытых шкурой санях, сидел Никитка, с перемотанной, серым шерстяным шарфом крупной вязки, головой. Он прижимал к груди, руками в рукавичках, подаренные, сердобольными острожными жителями, леденцы, пряники, да левашники, начинённые разными ягодами. Только-только с Иваном Яковлевичем, они вернулись с погоста, где, в промёрзшую землю, зарыли Никиткиного деда – единственного для него родного человека.
Никитка насупился, сдвинув брови, всхлипывал через поломанный нос, будто не видел суетящихся вокруг него людей. Реветь он стыдился – ну, как скажут, что он не взрослый – но как же деда? Не увидеть больше его согнутую спину; не заснуть с ним у трескучей печки, не посидеть рядом на лавке, болтая ножками, когда тот точает кому-то унты из толстой шкуры и рассказывает Никитке сказки. Не привезти ему воды на санках из реки; не наносить по его указке дров; не сгонять, куда, по его поручению – ничем больше не поможет Никитка деду… Лежит он теперь на холме за острогом в ледяной яме, закиданный такими же ледяными кусками земли.
– Ты что ж, немчин треклятый, нос ему не поправил пока он в беспамятстве лежал? – возмущалась бабка Лукерьица, местная повитуха, заглядывая Никитке в лицо. – Можно же было сравнять!
Иван Яковлевич оправдывался, подбирая слова:
– Я хотет делат – он дышат из нос – я оставит!
Стрельцы, стоявшие рядом, подкидывали:
– Будет теперь, как Васька Сумароков ходить да людей пугать.
– Да от такого носа и шатун струхнёт!
– Я его в другой раз в поход на тунгуса возьму, он их всех всполошит!
– А что Никитка, ты теперь тот ещё уродец, такого увидишь – враз опешишь! Тебе в стрельцы идти надобно али в казаки. Ей-ей уродец!
Веселящийся служилый Петрушка Корова, окликнул высокого хмурого казака, что из-за пазухи кафтана доставал какие-то узелки и передавал их немцу:
– Эй, Марик, глянь-ка на это страшилище! Возьмёте к себе? Он если что впереди ватаги двигаться будет и любого поганца устрашит!
Никитка сполз животом с саней, бросив подаренные сладости, спешными шажками пошёл в сторону.
– Куда? – окликнул его лекарь.
– Оставь, дядь Иван. В нужник я. – всхлипнул мальчик и заторопился скрыться из виду за ближайшим углом забора.
Хмурый казак повернулся к Петрушке и со словами: «Думай… корова!», толкнул его широкой ладонью в лицо. Петрушка влетел в забор спиной и сполз по нему в снег. Стрельцы расхохотались над пришибленным товарищем. Расхохотался и Петрушка.
Никитка торопливо шаркал кожаными подошвами чи́рок по снегу, смутно различая дорогу – слёзы заливали ему глаза. Только б не увидели, только б не решили, что он не взрослый! Он силился скорее завернуть за угол ограды гостиного двора, но ноги подкашиваются и рвущийся изнутри, предательский плач перекашивает рот. Никитка ввалился за спасительный угол и заревел, уткнувшись в попавшиеся ему на пути чьи-то колени. Обхватив их ручонками и уже не сдерживаясь, Никитка выл, жалея себя, жалея деда. Он тоже хочет смеяться над своим вбитым внутрь, посиневшим кривым носом… но… потом?! Сейчас он не может не плакать, ведь деду пробили грудину острой железякой, а он, Никитка – внучок и опора – не помог… Шерстяной шарф сдвинулся и открыл обскубанный, голый затылок.
Ревел Никитка, а чьи-то ласковые руки гладили его голову и тонкий голос приговаривал: «Ну-ну, маленький, ну-ну…»
– Я не маленький! – отзывался Никитка и, снова уткнувшись в колени, бесшумно заходился в плаче.
– Ну-ну… скоро будешь большим…
Из-за угла спешно выскочил встревоженный Иван Яковлевич. Обнаружив, уткнувшегося в тулуп Дуни, Никитку, он опустился перед ними на колено и принялся бережно поправлять обрезок своего шарфа, которым с утра обмотал голову мальчика, чтоб повязка со шрама не слазила и, уши не мёрзли.
Катерина в нетерпении притоптывала, обутыми в багрянистые сапожки, ногами – вот ведь досада, ещё с Афонькой Казанцем – купчиной, повидаться хотелось, а здесь такое препятствие… Чего он ревёт?!
Дуня обнимала затихающего Никитку. Гладила его по голове и спине, успокаивая. Иван Яковлевич беспокоился рядом:
– Нелзя много плакат, – тихо говорил он Дуне, – голова силно болет. Нелзя ишо!
К ним вышел тот самый высокий хмурый казак Марк, со всеми Никиткиными сладостями, заткнутыми за широченный кушак.
– Я донесу, – буркнул он и, взяв в охапку затихшего Никитку, двинулся к воротам.
Иван Яковлевич задержался возле Дуни с Катериной и, пожав плечами, кивнул в сторону удаляющегося Марка с Никиткой в руках:
– Голова ишо долго болет!
Катерина подхватила под руку Дуню и потянула её, оглядывающуюся, на гостиный двор. Мимо сгрудившихся у саней стрельцов; мимо перетаскивающих тюки мужиков; мимо баб, надоедающих какому-то купцу, требующих немедля выдать всё, что из материи у того имеется.
– Замешкались мы с тобой! Афанасий Еремеич долго дожидаться не станет. Ещё искать его!
Дуня, поддавшись, едва поспевала за подругой, а Катерина что-то всё щебетала про обещанные румяна, смеялась, силясь отвлечь её от нечаянного случая.
Гостиный двор в Алексеевском остроге представлял собой огороженную дощатым забором избу с плоской односкатной крышей, и походил скорее на огромный хлев. Только внутри, в перегородках, вместо скота лавки, лавки, лавки.
Это было единственное во всей ближайшей округе то́ржище. Даже с Маковского острога сюда в означенные дни собирался народ за надобностью. Сюда свозили купцы товары и из Тобольска и Томска; прибывали диковинки из Мангазеи; торговали мягкой не ясачной рухлядью остяки и вогулы и даже тунгусы; в отдельных рядах торговалось оружие и всякое другое железо. От киргизов пригоняли лошадей, от ламутов привозили морскую рыбу. Ткани аглицкие, тонкие ханские и другой красный товар. Много чем можно было разжиться на Алексеевском гостином дворе.
Понятно, что самая бойкая торговля не могла идти во всякий день, но подгадывали к большим праздникам. Тогда Алексеевское то́ржище превращалось в подобие ярмарки, куда стремился попасть всякий люд: и торговый, и промышленный, и служилый, и пашенный, и ясачный тоже. Гостиный двор шумел, народу в острог набивалось тьма-тьмущая.
Частенько и ясырем не брезгали, но приличия соблюдали, таились с такими делами в дальних углах либо вообще за гостиным двором (у Фильки в кабаке, например), ибо Государь не велел промышлять людишками. Правда, всё от воевод зависело – Андрей Леонтьевич, к примеру, не любил замечать, что кто-то человека на другое меняет… но всё одно – меняли.
Афанасия Еремеевича, Катерина всё ж сыскала и, растолкав окруживших его баб, потребовала выдать ей привезённые для неё из Тобольска гишпанские белила (а может и врёт Афонька, что гишпанские), румяна да сурьму для бровей и ресниц.
Схватив вожделенный свёрток, она вновь потащила за собой послушную Дуню, теперь уже с гостиного двора обратно в обитель к матушке.
За воротами у саней развесёлые стрельцы со смехом, размахивая руками, рассказывали, опёршемуся на свои лыжи, Елисею как Марк Любовский (то ли из черкас, то ли из ляхов, кто их разберёт – тех, что после Смуты заблудились на русском просторе) с тычка Петьку Корову через сани перебросил. Смеялся и Петька.
– Марик Любовский – казак сурьёзный – вино никакое не жалует.
– Ага-ага! Днями с саблей да пальмой упражняется…
– Точно! Коли б зелье не в цене было, то и из пищали днями бы палил…
– Что ему Петька? В нём же мяса да костей сколь и в собаке!
И смеются стрельцы, и подначивают Петьку Корову.
9
Две шумные и развесёлые девахи, потешно хватаясь друг за дружку и смеясь, спускались по накатанному склону от острожной стены к речке Мельничная. На середине пути остановились, Катерина взяла Дуню за плечи и повернула лицом к себе.
– Давай я тебя научу по-женски на мужиков глядеть.
– Как это? Зачем ещё? – смеялась Дуня.
– Свой интерес показать, но чтоб без слов. Смотри на меня, – Катерина стёрла с лица улыбку и начала урок. – Коль в избе, то находишь глазами угол…
– Какой?
– Господи, да любой! Сперва глядишь в угол, затем на свой нос, а после – на него.
– На кого? – веселилась Дуня.
– Да на мужика! Смотри: в угол, на нос, на него. – Катерина, легко покачивая головой, показывала Дуне, как и куда смотреть. Только взамен «на него» игриво смотрела на подругу, чем немало её смущала. – И повторяешь: в угол, на нос, на него!
– А если не в избе?
– Тогда – на небо, на нос, на него. Повторяй.
Дуня свела глаза на кончике носа, да так сильно, что зрачки почти скрылись.
– Так? – спросила она, продолжая гримасничать.
– Вот дурында, – хохотала Катерина. – Ты так только распугать можешь! Ладно, пошли дальше – ещё научишься!
И снова держась дуг за дружку и смеясь, легонько зашаркали они вниз по скользкому склону.
Всё же, как не осторожничали они, как не семенили, но под конец пригорка шлёпнулись, да так изрядно, что забили себе нутро.
Лёжа на снегу, они тихо поскуливали, пялились на пышные облачка, парящие в ярко-голубом небе, пока одна из них просипела:
– Слышь, Дуня… я, по-моему, каблук выломала…
И покатились обе со смеху…
Дуня, охая, поднялась на ноги первая. Оглядевшись, нашла, куда из рук Катерины вылетел свёрток с подарками от воеводы, подняла его в то время, как Катерина уже сидела на снегу и рассматривала левый сапожок с печально висящим на обрывке кожи деревянном каблучке. Уж, какие сапожки были на Катерине: тёмно-багряные, кожа тонкой выделки; носочки острые, «загнутые – хоть яйцо обкати, каблучки высокие – воробей пролетит»! Вот один из этих каблучков и подвёл. Поджимала губки Катерина, вздыхала, сокрушалась о своих сапожках, но делать нечего – до монастырского подворья хочешь не хочешь, а ковылять придётся – там ворчун Кондрат с санями уж заждался.
От этого места дорога расходилась надвое: одна, что левее, шла к самой речке, где с основания острога стояла водяная мельница, а вторая, поворачивала вправо и, скрываясь за перелеском, поднималась на холмик, где при солнечном свете хорошо были видны три маленьких чёрных домика матушкиного двора.
Но до него ещё надо добраться…
– Может, ты здесь побудешь покуда? Посидишь… да хотя бы вот – на колоде! – Дуня смела руками снег со сваленного у дороги корявого ствола. – Я мигом за Кондратом сбе́гаю! Он тебя и подберёт. Что тебе с таким каблуком ноги ломать?
Сунула Дуня в руки Катерине свёрток, помогла подняться, дохромать к бревну, сесть и, оставив её дожидаться, поспешила, шустро перебирая валенками, в сторону обители.
Сидя на стылом бревне, разглядывала Катерина через прищуренные от солнца веки, удаляющуюся маленькую фигурку Дуни… Вот и скрылась она за перелеском, спешит, наверное, по продавленному полозьями саней снегу. Торопится помочь!
Забавная эта Дуня! Неказистая, простенькая, стыдливая… покорная. Может дурочка?
Может и сама Катерина прежде была такова… Хотя нет! Никогда такой она себя не знала! Смолоду видела она власть бабью над мужичьём бестолковым! Замечала взгляды их бесстыжие, понимала речи их заискивающие. Гнушалась она обычными делами девичьими, но всё больше воспалялась к мужичкам разным: своих, деревенских, не смущала (приличия, понятно, держаться следует, да и тятька всыплет…), но в Тюменские кабаки хаживала.… Поскольку росла она в семье крестьянской и к тому же совсем не зажиточной, то высматривала для себя кого посолидней. Только, что с кабацких пьянчуг подымешь? Домой одни ленты, бусы да медяки таскала и те – тятька отбирал да на розги, воспитания ради, менял – не помогало!
Присмотрела себе общинного старосту – мужика не молодого, но и землёй и достатком не обделённого. И что с того что в деды годится? Зато возок у него крытый имеется, не в пример крестьянским телегам. Дело пошло! Но только собралась припрятать Катерина в курятнике первую серебряную копейку, как тятька прознал – снова розгами полечил и копейку отнял.
Да что ж отцу делать-то? Девка бесстыжая, хвостом вертит – семью позорит! Изловчился он да в дальнюю деревню её замуж и отдал, а то уж слухи пошли.
Муж был человек молодой… пожалуй, из приятного – всё! Ростом ниже Катерины, на роже черти крупу толкли, пьянчужка горький, бездельник окаянный… и самое для Катерины печальное – бедный… в том смысле, что нищий… сирый да убогий! В общем – голь безнадёжная! Ещё и свёкор попался въедливый и не податливый.
И уж только собралась Катерина из новой семьи бежать, как муженёк, перепившись, помер… Свёкор же, нисколько невестку не жалея, отдал её, ради сыновьих недоимок, тюменскому воеводе в вечную кабалу, надеясь, что там она в портомоях и загнётся. Законов о запрещении переводить людей из крестьян в холопы было в то время достаточно, но то же «людей», а, как известно – «курица не птица – женщина не человек». К тому же в Сибири – кто в такой дали, кроме самого воеводы, за исполнением указов присматривает? То-то!
Ушлая Катерина, от таких перемен не смутилась. Прижилась, осмотрелась да вовремя из баньки голышом к речке и выскочила… в пору, когда воевода, верхом, мимо той речки прогуливался. Андрей Леонтьевич (а это был он) такую случайность приметил, и в скорости переселилась Катерина из подклети в самую светлицу.
Тут то и получила Катерина всё, чего так жаждала! Больше не бегает она в нижней рубахе без перемены да в верхней из такого колючего льна, что коль приходилась одну её натягивать – чесалась как блохастая псина. Выбросила и постолы паршивенькие, что до того таскала во всякую пору. Теперь на́шивает она только тонкой ткани рубахи, да чтоб рукава подлиннее… и однорядки да опашни поцветастей да понарядней. Отдельный ларец с волосниками, ки́ками да кокошниками завела. Колечки, браслеты, серьги тоже не переводятся… обувка – только с каблучком! И что с того, раз живёт как холопка? У самой девка имеется, да дворней, как барыня, помыкает!
Цена за всю такую радость по меркам Катерины не очень-то и высока. Андрей Леонтьевич виделся ей мужиком не слишком мудрёным. Кобель как кобель – любит бабой прихвастнуть, потому разряжает её как чучело на масленую неделю и выставляет напоказ; позволяет дружкам глазки строить, чтоб после остудить – мол, не вам таким сокровищем владети; приврать может – досталась мне большим трудом, зато теперь я её и в хвост, и в гриву… Власть любит показать – послушания требует, а что покрикивает да постукивает временами, так в том для Катерины невелико поругание – не такого навидалась!
Млела Катерина в опочивальне Андрея Леонтьевича, да горе приключилось – загнала служба любовничка на край земли – в Алексеевский острог. Катерину с собой поволок. Уж далеко так далеко! Девку, что прислуживала, пришлось в Тюменском остроге бросить… и вообще из дворни только Терентия да Кондрата взяли, что хоть и лентяи тупоголовые, зато преданы воеводе до могильной ямы. Правда, зазнобу воеводскую они не жаловали, но обижать её не пытались потому, как гнева Андрея Леонтьевича страшились.
Невзлюбила Катерина Алексеевский острог – ой, как невзлюбила! Думала, не придётся ей больше за работу браться, но пришлось-таки… и на кухне стоять и за столом прислуживать. Хорошо, хоть на реку, для постирушек, не погнал – местные бабы справляются. Зато обещал, родимый, коль служба в этой дыре отвратительной, пройдёт успешно, то поедут они в саму Москву, где двор у него стоит в Белом Городе! Что это за город такой Катерина не вникала, ей доставало самого упоительного слова – Москва! Только бы служба задалась!
Теперь вот, доверил ей воевода с этой Дуней возиться – говорит – для службы надобно. Требует, чтоб она одному тунгусу обещала замуж за него пойти. Только так обещала, чтоб поверил твёрдо. С самим тунгусом трудностей нет – он за этой пи́галицей давно бегает да слюни подбирает. Только сама Дуня уж слишком нерешительная что ли… опасливая. Простодушная скорее… В чём беда – пообещать? Катерина могла бы так пообещать… Можно ей прямо сказать, да глядишь струсит. Точно струсит!
Катерина поёжилась в меховой ферязи. Закоченели ножки – встала, помялась куценогая. Хорошо, что шапку поверх платка с утра натянула – сперва упрелась, а теперь – пришлось! Да что так долго то?
Показались из-за перелеска сани. Лошадь, кивая гривой, неспешно переставляет копыта. Дуня, стоит в санях за спиной Кондрата, указывает рукой на Катерину – торопит равнодушного возницу. Заметив, Катерина замахала им рукой – наконец-то!
– Ну, вот, – Дуня вылезла из высоких саней, подбежала к подруге помогать. – Мы уж торопились, уж так неслись, так неслись… Правда, Кондрат?
Повела под руку хромающую Катерину, а Кондрат, равнодушно и немного сонно, глазел на них – в этот раз он никуда не спешил!
– Что ж ты не осталась – идти теперь обратно придётся? – Катерина улеглась в санях, – или что? Не спешишь с матушкой о духовном болтать?
– Да, спит она… скучно одной, – Дуня опустила глаза.
– Тогда залазь ко мне, – подвинулась подруга. – Со мной скучно не будет! Зря мы вообще сюда пёрлись, каблук ещё сломала.
Повеселев, Дуня втиснулась в сани под бок Катерины, та привычно ткнула Кондрата сапожком в спину:
– Давай, вези нас в воеводский дом. Только веселей вези – продрогла, пока дождалась!
Сани тронулись и поползли под горку – Кондрат не спешил подгонять (тянется день и, слава Богу). Дуня испугалась:
– А можно? Там же воевода!
– Чего ж нельзя? Я тебя к себе проведу… через другое крыльцо. Да и нет ему до тебя дела!
В стороне, вздохнув и обречённо покачав головой, Елеска Юрьев в очередной раз разворачивал лыжи. Снова идти в обратку. Нечего делать – служба!
10
– Вот смотри, – Катерина заговорщицки подмигнула Дуне и достала из сундучка, завёрнутое в золотный аксамитовый отрез, небольшое плоское слюдяное зеркало в медной оправе и поставила его на стол, – Андрей Леонтьевич подарил!
Дуня, с опаской и затаённым любопытством, смотрела на зеркало. Как-то страшило её это сатанинское творение. Рама из переплетённых стеблей и цветов толстой меди, с маленьким, словно прозрачным, блюдцем в центре. Через такое зеркало можно и мёртвого воскресить!
В доме у Чуркиных хранилось одно зеркало, матушка, Феодосия Досифеевна, в глаза ругавшая баловство таким грехом, сама частенько его доставала и, распустив полные с проседью косы, ночами рассматривала своё отражение. Брат Федька однажды стащил его и принёс показать – выпуклое, оно так смешно искривляло лицо – не иначе сам дьявол направлял – таращили в него глаза, совали языки, делали разные рожи… весело было! А это, гляди ж, совсем плоское – дорогущее, пожалуй!
Одолевая робость, Дуня медленно заглянула в зеркало – незнакомое девичье лицо с интересом выглянуло на неё оттуда! Сперва отвернулась, подняла глаза на Катерину… снова посмотрела в зеркало Дуня – хорошенькое такое лицо! Весёлые веснушки рассыпались по щёкам, в остальном и особенного ничего, а всё одно – хорошенькая!
– На таком ещё гадать можно! – хвастала Катерина. – Андрей Леонтьевич его в смуту у ляхов отбил. Теперь вот – мне подарил!
Разложили на столе все подарки, что с гостиного двора принесли. Раскрыла Катерина ларцы с украшениями, выложила их перед Дуней.
– Сейчас мы тебя наряжать станем, – сказала.
Хотела Катерина летник подарить да не подобрали ни по ширине, ни по росту – мелковата Дуня. Принялись за ларцы с прикрасами. Серьги перемеряли все, браслеты разные тоже! Колечко медное маленькое Катерина, махнув рукой, подарила. Косы петлями, как немке, закрутила; белила в лицо дунула – чихали обе; тёрла киноварь в щёки, до такой уж красноты тёрла, что не ясно было, отчего те щёки теперь горят; ресницы сурьмой навела – длиннющими оказались ресницы! Из зеркального блюдца теперь на Дуню глядел скоморох – покатились со смеха девки! Давай смывать, что получится! С белилами справились; с румянами – снова непонятно отчего щёки как свёкла; а сурьму как ты сотрёшь? Так оставили!
Умаялись наряжаться – сели языками чесать. Катерина всё расспрашивала: «Сама, де, в остроге недавно поведай-ка мне, Дуняша, что здесь творится». Дуня хлопала крашеными ресницами: «Не знаю, мол, ничего. Дома сидела безвылазно, только к Оленьке Андреевне и заглядывала».
– А почему её здесь Оленькой зовут.
– Хорошая она…
– А правду говорят, что когда её сюда привезли, острожные мужики в хлам за неё передрались?
Дуня пожала плечами:
– Были ссоры. Оленька Андреевна шуму правда наделала – Федька даже бегал на неё глазеть.
– Братец?
– Братец, – вздохнула Дуня.
– Ну а та, что же?
– Ничего. Сидела себе у матушки Агриппины и ждала, кто посватает. Повезло ей – Поздей Петрович забрал! Счастливая! Мне бы так… – Дуня опустила глаза и вертела на пальце подаренное Катериной колечко.
– Замуж за незнакомца пойти?
– Да, хоть и за незнакомца, главное, чтоб муж хороший…
– А любовь? – поддела Катерина.
– Разве Ольга Андреевна за сотника по любви шла? Он её силой забрал! Зато теперь как живут? Такая благодать в доме! Такое счастье! Поздей Петрович всё для неё сделает. Подарки разные дарит! Я тоже хочу, чтоб у меня так же было!
– Лупит, небось?
– Раньше – бывало, а теперь не трогает. Особенно после того как она сыночка ему родила. Наверное, потому, что его во всём слушает. Она для него тоже – что угодно сделает!
Дуня зашептала:
– Поздей Петрович, из похода ясырь привозил, я знаю потому, что батюшка у него девок брал на продажу остякам. Они у нас в избе два дня жили – так Оленька Андреевна ему прощала, что он с ними… ну, это…
– Да поняла я, – смеялась Катерина, – а что, у неё самой никого не было?
– Как это? – вспыхнула Дуня.
– Ну, кроме сотника?
– Оленька Андреевна не такая! Она мужа любит! Он же ей от Бога назначен, как можно с другим-то?
– Ему, значит, можно?
– Никому не можно! Только Оленька Андреевна прощает мужа, потому как любовь у неё!
– Или потому, что сделать ничего не может, – ехидничала Катерина.
– Нет! Любовь это! – Дуня сжала кулачки.
– Ладно, любовь-любовь… не сердись,
Катерина сидела за столом, подпирая подбородок руками и, улыбаясь, смотрела на подругу. Дуня смягчилась:
– Должно же быть так?!
– Должно, только редко бывает, – Катерина смотрела Дуне прямо в глаза, – особенно у мужичья. Такие ходоки – не удержишь!
Теперь уже на шёпот перешла Катерина:
– Сказывают, что Филька одну девку на цепи в кабаке держит. Её то ли казаки за вино отдали, то ли вогулы приволокли. Так она ему тарелки да кружки намывает и другое всякое тоже делает. У него для этого комнатушка особая в подклети есть. Мужики потому в кабак и ходят – не только винище хлестать.
Дуня зажмурилась, замотала головой – стыдоба:
– Да ну, враки всё… – сомневалась.
