Последний сезон
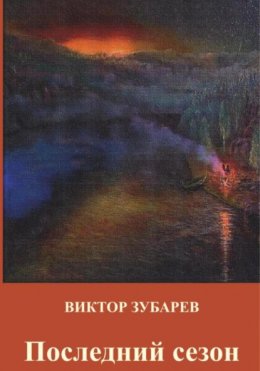
Р о м а н
Последний сезон
Жизнь представлялась теперь запутанной,
сложной – нагромождение случайных
обстоятельств. И судьба человеческая –
тоненькая ниточка, протянутая сквозь этот
хаос различных непредвиденных обстоятельств.
Где уверенность, что какое-нибудь из этих
грубых обстоятельств не коснётся острым
углом этой ниточки и не оборвёт её в самый
неподходящий момент.
В.М. Шукшин
/Любавины/
От автора
Бывают в жизни такие моменты, которые запоминаются на всю оставшуюся жизнь. Возможно, так происходит из-за сильного впечатления, которое они произвели на тебя. Может быть, это была глубокая драма или трагедия, которая коснулась тебя непосредственно или даже косвенно. В результате, тот глубокий след, оставшийся от переживаний в твоём сердце и в сознании, долго-долго не зарастает, как шрам от сильного ожога. И хранится в памяти так крепко, так отчётливо, что с годами не стирается ни под каким воздействием на неё, включая возраст. Впрочем, вовсе необязательно, что это произошло лично с тобой или очень близкими тебе людьми, в жизни так много поводов переживать за судьбы едва знакомых или совершенно посторонних людей. Ну, это ещё зависит и от того, у кого какое сердце, насколько оно вместительное для добра и чувствительное к чьей-либо беде, умеет ли оно сострадать чужому горю.
Что значат тридцать-сорок лет в жизни людей, большой это срок или малый? Бесспорно, в историческом измерении, это совсем ничтожно, здесь время измеряется веками, целыми эпохами. Конкретному же человеку, как и любому другому живому существу, времени отпущено гораздо меньше, и у каждой живой твари на Земле существует свой жизненный срок, каким бы он ни был. Казалось бы, нам нужно беречь это счастье, этот промежуток от рождения до смерти, не торопиться прожигать отпущенное Господом Богом время пребывания на этой грешной земле, но, как ни странно, человек не задумывается об этом и куда-то всё спешит, спешит… – торопится пробежать свою предначертанную судьбой «беговую дорожку». Тем более, если он молод, и в нём жизнь бурлит, – он не замечает времени. Он занят собой, работой, что-то творит, о чём-то мечтает… Оглянуться назад некогда, да и нет в этом необходимости. Он целиком занят своей любимой работой. Знакомится с новыми людьми, а старых знакомых, порой, забывает; находит друзей, и случается так, что потом теряет… Влюбляется, женится, растит детей… И всё хорошо! Но природа земная сотворена по такому подобию, что день сменяется ночью, солнечным погожим дням сопутствуют пасмурные дождливые дни, на смену тёплому лету приходит лютая зима. Так и в жизни людской: нередко радостные счастливые дни омрачаются горестными событиями; вчера где-то праздновали чей-то день рождения, а сегодня кто-то облачился в траурные одежды; у кого-то сладкие слёзы от внезапно нахлынувшей радости, у других горькие слёзы по поводу невосполнимой утраты. И в их судьбах далеко не всё однозначно. Несомненно, есть на земле множество везунчиков, которым удаётся прожить долгую и счастливую жизнь, лишь с небольшими житейскими неурядицами, почти незаметными и с годами забывающимися. Может быть, они из разряда тех людей, что смотрят на все невзгоды через розовые очки и им верится, что жизнь прекрасна и удивительна. Возможно, это и о них сказано, что счастливые часов не наблюдают, а не только о влюблённых. Но немало и таких, кому в этой жизни повезло меньше, хотя они и очень старались быть счастливыми. Откуда ни возьмись, приходят беды, которых никто не ждёт. Порой перед людьми встаёт некая непреодолимая сила, которая никого не щадит – даже сильные духом и плотью не способны устоять перед ней. Речь не идёт о природном стихийном бедствии, хотя и они приносят очень много горя. Скорее всего, это можно назвать стечением целого ряда обстоятельств, мелких и глобальных, и они, как жернова, перемалывают зёрна – человеческие судьбы. В народе говорят: судьба так сложилась. Да, это можно отнести не только к отдельно взятому человеку, но и к целому народу, стране.
Примерно так произошло в недавнем прошлом и с нашей огромной страной, именовавшейся Советским Союзом. Под жернова девяностых годов попало не только само это государство, раздробившееся на отдельные осколки-республики, но и несметное количество людей. Кто-то благополучно выжил и даже заполучил выгоду, кого-то крепко помяло, а многие бесследно пропали, – образно говоря, размололо их в пыль и в муку.
Не миновала подобная участь и двух молодых людей, начавших жизнь вполне счастливо и безоблачно, сумевших познать и радости крепкой мужской дружбы, и счастье любви, успевших создать крепкие полноценные семьи. Они были счастливы уже тем, что в полной мере сумели реализовать свои мечты и получить удовольствие от своей работы, что удаётся далеко не каждому. Но случилось так, что произошедшие перемены в жизни самой страны, стали одной из причин жизненного краха многих людей, в том числе и тех, о ком пойдёт дальнейшее повествование.
Душа человеческая так устроена: тянет нас от случая к случаю заглянуть в фотоальбом, где хранятся заветные кадры из прошлого, далёкого или близкого, но родного и неповторимого… И сердце кровью обливается, и слёзы туманят взор. Память в этом виновата, она просит взять в руки этот альбом… Значит было в том прошлом много хорошего, доброго и радостного. Но даже если случались в жизни тяжёлые невзгоды, – а без этого не обходится, – не имеем мы морального права забывать об этом. Есть замечательные слова у Валентина Распутина, которые укрепляют уверенность в правильности выбора данного повествования: «…правда в памяти! У кого нет памяти, у того нет жизни».
Часть первая
1
Большая полярная сова, мирно дремавшая на толстом суку могучего кедра, неожиданно вздрогнула, недовольно взъерошив перья, и открыла глаза. Её встревожила непонятная шумная возня, доносившаяся откуда-то снизу, вероятно со стороны небольшой полянки, слегка поросшей мелким березнячком и шиповником. Оттуда слышался треск сучьев, медвежий рёв и достаточно редкий в этой глуши собачий гомон. Устремив туда взгляд, она увидела крупного медведя и трёх мечущихся вокруг него с громким лаем собак. Сова умела отличать волков от этих человеческих выкормышей и обеспокоенно крутила головой, пытаясь увидеть и самого человека. Она не раз уже в своей долгой жизни встречала в тайге людей с их неизменной железной палкой, торчащей из-за спины. И даже знала, что они умеют управлять этой палкой, извлекая из неё гром и молнию. Она боялась таких людей. Но человека так и не увидела. Древний опыт подсказывал мудрой сове, что «хозяин тайги», наверное, задавил где-то рядом свою очередную жертву, а собаки, вероятно, помешали ему насладиться своей добычей. А может быть, просто издалека причуяли косолапого, догнали и взяли в оборот.
Внизу схватка разгорелась нешуточная. Хотя для видавшей виды пернатой хищнице было удивительно, что этот могучий таёжный властелин почему-то не так рьяно отбивался от зарвавшихся наглецов, только крутил крупной башкой с оскаленными зубами и почти стоял на месте, не пытаясь убежать, будто что-то мешало ему. И всё же медведь не выдержал напора собак и стал отступать, хрипя и рявкая на них, разбрызгивая по сторонам кровавую пену из пасти. Шум баталии постепенно отдалялся и вскоре совсем затих. И только было вознамерилась сова покинуть насиженное место на суку и переместиться поближе, чтобы удовлетворить своё любопытство, как увидела двух вернувшихся собак, разгорячённо рыскавших по поляне, повизгивая и взлаивая, явно что-то выискивавших. Наконец, они что-то обнаружили, зачем-то стали разгребать лапами землю, растаскивая зубами сучья и ветки. Сове много раз приходилось видеть, как волки делали так, пытаясь добыть бобра из его хатки или барсука из норы, а тут собаки что-то причуяли. В любопытстве и в терпении этой ночной хищнице не откажешь. Сумерки уже овладели пространством, наступало совиное время, и видеть она стала гораздо лучше. Дождалась, когда в едва приметной куче хвороста что-то шевельнулось тёмное, грязное и бесформенное. Медленно, со стоном, с трудом перебирая руками, на взгорок выползал… человек. Да, она узнала в этом бесформенном существе человека. Он не шёл, как все люди, а почему-то полз, как полураздавленная ящерица, на которую наступил медведь, и она, инстинктивно стремясь ещё выжить, превозмогая боль, уползала от опасности. Собаки крутились рядом, иногда громко лаяли, облизывали человеку лицо и руки и даже хватали за одежду, будто пытаясь помочь ему встать.
Ночь накрыла тайгу окончательно. Сова успокоилась, уяснив в своей мудрой голове, что за трагедия произошла в её владениях. Но она не видела её начала, потому что свой сук оседлала после того, как всё страшное уже произошло. Подступавший голод заставлял сову покинуть свой закуток в поисках пищи, и ей уже не суждено было видеть, что происходило дальше и что стало с этим человеком…
В лесу стояла такая тишина, что слышен был шорох падающего, словно уставшего за бурное лето, листочка. Изредка лёгкий ветерок обласкивал верхушки деревьев, приводя в смущение остатки разрумянившейся листвы, начинавшей кокетливо шептаться друг с другом. Бабье лето было во всей своей красе. Средь глухой тайги на небольшой светлой поляне виднелась рубленая охотничья изба. Рядом с ней ещё какие-то строения. Чуть в стороне возвышался массивный лабаз, устроенный на двух высоких ёлках. Дверь в избушку распахнута настежь. На земляном полу, опрокинувшись навзничь, лежал человек. То, что было на нём надето, трудно было назвать одеждой. Рваные лохмотья, измазанные кровью и грязью, едва прикрывали такое же изодранное и окровавленное тело. Осталось только целым грязное с налипшими соринками лицо. И глаза были целы. Человек смотрел в потолок долгим немигающим взглядом. Часто облизывал сухие растрескавшиеся губы. Иногда пытался пошевелиться, отчего сразу же слышался стон. На некоторое время вновь наступало затишье.
Медленно приходило к нему осознание всего случившегося. Он только помнил момент схватки с медведем, как тот терзал его. Помнил и то, что сумел ножом ранить зверя. И далее всё обрывалось в сознании. Не знал человек, сколько пробыл в забытьи, но вспоминал, как собаки вывели его из этого состояния. Затем вновь проваливался в небытие. Он даже не мог вообразить, как очутился в своём зимовье. Во всём теле чувствовал одну сплошную боль, и даже не мог понять, что у него цело, а что изуродовано. Но сознание работало чётко.
«…А какой сегодня день, число?.. Сколько времени я уже здесь лежу? И как всё-таки я добрался? Неужели так закончится мой путь? Нет, нельзя мне умирать, я должен выжить, ведь они меня ждут… Я же дополз до избы. Голова у меня цела, мозги у меня целы, надо думать, как выкарабкиваться. Ах, жизнь ты моя разудалая, не отпускай меня. А какая жизнь-то была!.. Как всё было хорошо, всё удалось. Ну, почти всё… Вот, если пожить бы ещё. И если бы не эта…»
Не прошеная слезинка скатилась по щеке к губам. Он смахнул её языком, ощутив горьковатый вкус. Не хотелось думать о плохом. Невольно вспомнились детство, юность… Как приятны были эти воспоминания! Человек будто утонул в них, находясь в невесомости, и ему казалось, что он мирно покачивается на тёплых ласковых морских волнах, не ощущая ни физической боли, ни потрясения от случившегося…
2
Август 1983 года был уже на исходе. Лето всё ещё одаривало людей благодатным теплом в течение дня, но к вечеру становилось прохладно и сыро. В недавнюю сочную зелень лесов вторглись незаметно крапинки жёлтых и оранжевых красок, первых предвестников приближающейся осени. В воздухе уже чудилось её властное дыхание, доносившее из тайги запах кедрового ореха и грибов; из болот и лугов тянуло терпким ароматом увядающей травы и прошлогодней прелой листвы. Трудно сказать, сможет ли почувствовать, в самом деле, тот или иной человек, обладающий прекрасным обонянием, такие ароматы, но мнимое предчувствие этого всё же у многих присутствует. Поэтому и говорим мы часто, когда дни календарного лета уже сочтены, – «осенью пахнуло».
На каменистом берегу широкой таёжной реки в наступивших сумерках горел костёр, освещая близкие деревья и огромные валуны. Всполохи пламени костра синхронно отсвечивались на их гладких, отшлифованных речными водами боках и отбрасывали длинные тени от двух человеческих фигур, маячивших возле костра.
Погода стояла ясная и тихая. На небе друг за другом вспыхивали как лампочки первые звёздочки. С каждой минутой, если присмотреться, можно было увидеть появление всё новых и новых звёзд. И вот их уже несметное количество. Чем гуще становилась темень, чем плотнее она обступала пространство вокруг костра, тем ярче они становились на далёком ночном небосводе. С западной стороны, за противоположным берегом, начинавшимся пологим подъёмом, догорал оранжевый закат, резко очерченный на горизонте высоким увалом.
Свет костра позволял уловить некоторые черты внешности двух людей, примостившихся на брёвнышке. Видно было, что это молодые мужчины в возрасте около двадцати пяти лет. Одеты сверху они были в довольно свежие, малоношеные, ещё не успевшие обветшать, штормовки цвета хаки. Из такого же материала и штаны, заправленные в резиновые болотные сапоги. Несмотря на пронизывающий холодок, потянувшийся вдоль реки, они были без головных уборов. У одного коротко стриженные светлые курчавые волосы, такие же светлые брови, чуть выдающиеся скулы замыкались мужественным подбородком. У другого, в противоположность – тёмные волосы, волнистой копной сбегавшие почти до плеч. Ещё у него выделялась небольшая, недавно отпущенная, чёрная бородка, окаймлявшая сразу от бакенбард слегка вытянутое лицо, что придавало ему некие черты этакого начинающего учёного-романтика, попавшего в тайгу на практику. Поочерёдно они о чём-то рассказывали друг другу, изредка называя собеседника по имени. Тот, что повыше и с бородкой, называл товарища странным, скорее прозвищем, чем именем – Кукша. А тот, соответственно, обращался к напарнику – Санька, и несколько раз произнёс в его адрес: «Гусь ты мой лапчатый…», при этом голос звучал чуть иронично и ласково. Больше говорил как раз молодой человек, которого Кукшей называли. Он страстно что-то рассказывал Саньке, временами темпераментно жестикулируя. Часто звучали слова: охота, промысел, дичь, соболь, звери, хариус… и много из того, что населяет окружающую природу. И ощущалось в его голосе само дыхание окружающей тайги, пропитанное смолянистым запахом елей и лиственниц. Несколько раз упомянул слово Гремучая. Внезапно, в каком-то порыве, он резко вскочил и подошёл к самому урезу воды. Наклонившись, с явным удовольствием почерпнул пригоршнями воду и плеснул в лицо. Распрямившись, устремил взгляд вдоль реки и произнёс:
– Вот, Санёк, хоть верь, хоть нет, но приятней и ласковей воды, как в этой реке, я не встречал, хоть и называют её Гремучей. Ты не смотри, что сейчас она тихая и покорная. Это здесь тишь да гладь, потому что плёс широкий и скал нет. Слышишь, как перекатик шумит?.. да, это не в счёт. Помнишь, проходили уже пороги, и ты видел, где скалы обжимали берега? Понял, что там она уже другая? Там она и в самом деле бурливая, грохочущая. Но это цветочки по сравнению с тем, что ещё ниже по течению. Не зря ей такое название дали – Гремучая. Там, где с обоих берегов скалы подступают, такой гул стоит, будто гром несмолкаемый в летнюю пору…
От костра послышался Санькин голос, с лёгким оттенком иронии:
– Мне поначалу показалось, что ты её «горемычной» назвал. Как-то созвучно с Гремучей. Наверное, немало горя кому-то причинила, коль такая бурливая? Стихия ведь… всё-таки. Были случаи, а, Ваня? – Спросил он, впервые назвав товарища по настоящему имени. Ирония его куда-то улетучилась: видимо, проникся впечатлением от слов своего спутника.
– Да, люди говорят, что и в самом деле, трагедии были. Но много-то я тебе не могу сказать, мало ещё знаю. Да ты поживёшь тут и сам наслышишься всякого.
Река тихо плескалась у их ног, словно подслушивала разговор этих молодых людей, изредка неосторожно нарушая тишину гулким ударом набежавшей волны о дюралевый борт лодки, пришвартованной рядом. Судя по тому, о чём шла речь, их больше интересовала непосредственно тайга – именно это слово звучало чаще всего. А что в тайге для них может быть интересного? Кому чего, а они, похоже, бредили охотой. И не просто охотой любительской, а настоящей, промысловой. Охотой тяжёлой, но романтичной. Опытный взор местного бывалого охотника определил бы в них людей не местных, возможно, недавно прибывших в эти края издалёка. И говорок не тот, и одежонка не по местному покрою. Чем-то отдавало от них далёкой центральной Россией, что ближе к Москве.
Кукша ещё упоминал о какой-то горе и, обернувшись назад, широким взмахом руки указывал куда-то вдаль. Наводило на мысль, что он лучше знал эти места и будто знакомил своего спутника с ними. Подбросив в костёр дров, сказал:
– В прошлом году я начал осваивать этот участок. Хотя, это громко сказано: осваивать. Был-то я тут раз шесть за весь сезон, всё некогда было. В кочегарке же работал тогда, по сменам: через два дня на третий. Где уж тут разбежишься. Но всё-таки немного поохотничал. Около десятка соболюшек удалось поймать. Это у меня наподобие тренировки было. Далеко добираться досюда. Техника нужна: лодка с мотором. Вот как сегодня мы с тобой – за два часа добрались, а если бы не останавливались по пути, то ещё раньше бы пришли. Тогда у меня ещё не было лодки. Опять же, это до ледостава, а там на своих двоих. Правда, кое-кто снегоходами уже обзавёлся. Ну, а кто-то лошадкой обходится, всё побыстрее, да и поклажи увезёшь больше. А пешему тяжело и долго. Но я бегал всё же. Как говорят: «бешеной собаке семь вёрст не крюк»… В этом году мы с тобой вместе начнём здесь промышлять. Хотя опять не уверен – директор мне должность одну навязывает. Но ты точно здесь обоснуешься. Завтра я тебе покажу угодья. Поднимемся до зимовья, оглядимся.
Августовские ночи тёмные, прохладные. От реки поднимался туман, который прокрадывался сквозь тепло от костра к людям, заползал под куртки, заставлял ёжиться и ближе придвигаться к огню. Но внезапно взыгравшее пламя от очередной охапки дров резко отбрасывало надвинувшуюся густую пелену, чётче обозначало очертания предметов в ближайшем окружении. И с новой силой вскидывались в неистовой хаотичной пляске тени за спинами людей.
Уже перевалило за полночь, туман над рекой стал настолько ощутимым и видимым на грани тьмы и света, что даже казалось порой, будто перед людьми выросла стена из ваты, которую хотелось потрогать руками. Двое молодых людей всё ещё сидели и неутомимо говорили и говорили о чём-то увлекательном, что отталкивало всякие мысли о сне. Изредка, спохватившись, оживляли прогорающий костёр, подбросив очередную порцию дров в его ненасытное чрево, чтобы согреться и отодвинуть кромешную тьму подальше от себя. Возможно, в их планы не входило в эту ночь поспать. Может быть, они решили встретить утреннюю зорьку – первую в их жизни совместную зорьку на берегу этой реки под шумок утреннего ветерка, расшалившегося среди макушек деревьев, и ровного умиротворённого гула речного переката недалеко от их стоянки. Но всё же вероятнее всего можно было предположить, что они просто увлеклись, не замечая времени, насыщались общением после долгой разлуки. Видно по всему, у них было о чём поговорить.
Теперь у них пошёл разговор о недавнем прошлом; слышались слова, свойственные более цивилизованной обстановке: техникум, сокурсники, звучали имена каких-то парней и девушек. Наверное, они вспомнили свои студенческие годы. Так кто же они: охотники, рыбаки или бывшие студенты, выбравшиеся сюда в турпоход, вдохнуть запах романтики?
В этот раз бубнил басовитым голосом Санька:
– А ты помнишь, Кукша, как приехал в техникум, как экзамены сдавал? – спросил он и тут же продолжил, – я хорошо помню. У меня вообще всё легко получилось, даже сам не ожидал. Думал, конкурс огромный, кажется, чуть не двадцать человек на место – боялся, не пройду по конкурсу. Тут вон, сколько разного народу собралось. Да, кстати, наверное, помнишь: Евгений Палыч-то, наш директор техникума запросил тогда у министерства дополнительные места для поступающих, целую группу ещё дополнительно набрали. Дай бог ему здоровья, хороший мужик. Благодаря ему ещё разрешили группу создать, ещё тридцать счастливчиков прошли по конкурсу, таких же, как мы с тобой. Первый раз такое в истории техникума было – потом ещё такого не случалось. …А у меня в школе с химией не очень ладилось. В общем, мандражировал. Но получилось легко, все экзамены на четвёрку. Вот тебя я не помню в тот момент. Ты в каком потоке сдавал? – Снова обратился к собеседнику.
– Удивительно, но я что-то плохо припоминаю эти экзамены. Всё было как в тумане. Я почему-то так волновался, тоже боялся провалить, поэтому зубрил и химию, и русский. Хотя учился в школе вроде неплохо. А тут что-то сдрейфил, – проговорил Кукша.
– Мне вдруг вспомнилось, – снова вдохновенно подхватил Санька, – какая атмосфера тогда была в техникуме, когда вступительные экзамены сдавали. В коридорах тишина такая стояла. Только шелест страниц учебников слышно и чей-нибудь шёпот. А в комнатах общежития готовились всей гурьбой: и девчонки, и парни. И тоже удивительно: только что встретились, знали только имена, а как-то сдружились сразу, такие непосредственные отношения сложились. Вот это больше всего запомнилось. Конечно, больше дурачились, чем готовились. А потом ночами кое-кто не спал, учебники листал. А ещё ребята такие симпатичные все, лица добрые. И всегда были готовы помочь, о чём не попроси. Да, сейчас вспоминаю, а на душе так хорошо! Всё-таки молодцы мы с тобой, Кукша, что сюда забрались. Какая ночка добрая! А природа-то здесь какая,.. ох-х, раз-здолье! Скорее бы к делу приступить, – восторженно почти прокричал Санёк, хлопая ладонями себя по груди. Неожиданно притушил в себе вдохновенную речь, будто что-то вспомнив, уже тише произнёс, потирая руки:
– А давай-ка, Кукша, выпьем чайку за это, за наше начало, чтобы нам здесь повезло, и удача нас не покидала!
– Согласен. Хоть мы ещё и ничего толком не знаем, всё у нас ещё впереди, но я почему-то уверен, что у нас здесь всё получится. Самое главное, что нас здесь двое. А люди в посёлке хорошие, добрые. Один мой сосед только чего стоит, Петрович-то. Мировой мужик! Ладно, со временем и ты всех узнаешь. Так что приживёмся мы тут, я уверен. И вот ещё о чём я хотел сказать. Давай-ка дёрнем нашего крепенького чаю за наш техникум, за преподавателей, за всех ребят и девчат. За тех, с которыми начинали учёбу, и за тех, с которыми заканчивали. Я считаю, нам всем повезло, что мы встретились в этом милом заведении, – Кукша даже встал от такого подъёма духа и полной грудью вдохнул ночной свежести. Санёк тоже не удержался, подошёл к Кукше и обнял его правой рукой, в левой держал кружку с удивительным напитком, наверняка поспособствовавшим такому приятному настроению. Оба долго молчали, затем Санька тихо произнёс:
– А как всё начиналось, ты помнишь?
Совсем недавнее прошлое, ещё не столь богатое, судя по их молодым лицам, было приятно вспоминать. Оно запомнилось им надолго многими счастливыми мгновениями. И сегодняшнее для них было прекрасно. А будет ли таким их будущее, они не знали. Никто не знал. Оно пока им не виделось, как вот за этой стеной тумана ничего не было видно. В их представлении о будущем было ровно столько, сколько было видно рядом, что освещено пламенем от костра. Но придёт утро, развеется туман, наступит ясный погожий день и перед их взором предстанет далёкий зовущий горизонт, из-за которого восходит солнце.
3
В один из первых сентябрьских погожих деньков 1978 года со стороны города Москвы в Калининском (ныне Тверском) направлении неспешно катился по шоссе автобус. Когда он проезжал мимо какого-нибудь населённого пункта, местные жители невольно обращали на него внимание, потому что из раскрытых окон салона громко вырывались наружу не совсем стройные, но задорные молодые голоса, исполнявшие весёлые песни. Особо обращали внимание, когда слышали подзабытые, а для кого-то и незнакомые, но удивительно притягательные, слова:
…Расцвела сирень в моём садочке
Ты пришла в сиреневом платочке
Ты пришла и я пришёл
И тебе, и мне хорошо.
Эх, расцвела…
И так много, много раз звонко повторялось из салона, с небольшой заминкой с новой силой вырывались наружу простые незамысловатые слова неизвестного автора, вполне возможно, что и русской народной песенки, может быть застольной. Кому-то из ребят той компании запомнились эти, когда-то услышанные, слова, а теперь возродились в новой интерпретации.
В какой-то момент в передних рядах веселье притихло, и по салону поплыла уже излюбленная туристами и всеми романтиками песенка Юрия Кукина с вдохновляющими словами, кто-то из ребят неуверенно и застенчиво выводил:
Понимаешь, это странно, очень странно,
Но такой уж я законченный чудак.
Я гоняюсь за туманом, за туманом,
И с собою мне не справиться никак…
Может быть, под гитарный аккомпанемент она зазвучала бы бодрее и задорнее, но и в ту минуту разом её все, кто знал слова, подхватили, и полилась она по салону, сопровождаемая чьим-то мелодичным свистом в такт мелодии.
И снова веселье взяло верх – одна из девушек вспомнила песенку о соловушке-пташечке, тонким голосочком залилась. Почти никто не знал правильных слов, но многие разом подхватили простой напев:
…Соловей, соловей-пташечка
Канареечка жалобно поёт.
Эх, раз поёт, два поёт, три поёт
Канареечка жалобно поёт…
Пели, а точнее будет сказать – орали, веселились, над собой же и смеялись; видно было, что песенки эти простые понравились, потому что задушевные и весёлые. Жаль только, что слов всех толком никто не знал.
В окнах автобуса были видны молодые счастливые лица юношей и девушек. Люди на остановках догадывались: по всей видимости, едут студенты в колхоз на уборку картофеля. И не ошибались, поскольку уже с давних пор было заведено в городах и сёлах «запрягать» школьников и студентов разных уровней в помощь сельским жителям в борьбе за сохранение выращенного урожая. По всему огромному Советскому Союзу шла «битва за урожай», и одними из «ратников в этой битве» непременно были студенты. Для молодых вчерашних абитуриентов, ставших счастливчиками после тревожных изматывающих вступительных экзаменов, преодолевших нервные потрясения в конкурсных отборах, и, наконец, заполучивших право именоваться уже студентами, это была, наверное, самая романтическая пора знакомства друг с другом. Ведь едва успели только узнать имена своих будущих сокурсников. А не благородный ли труд на пользу отечеству лучше всего сближает таких разных и пока малознакомых людей? Да, была такая пора в истории студенчества нашей страны, с её незабвенными стройотрядами и поездками на производственную практику. И вот такие первые поездки в тесном автобусе, первые совместные песни, шутки-прибаутки, анекдоты и смех, несомненно, были первым шагом к дружбе и уважению в группе. Польза от участия во всеобщей битве уже явно просматривалась, не говоря уж о двух-трёх мешках картошки, милостиво «подаренных» по окончании страды каким-нибудь добрейшим руководителем колхоза, чтобы студенты впредь не шибко голодали.
Уместно предположить, что разные неудобства на таких сельскохозяйственных работах на первых порах, наверное, удручают людей неподготовленных и незакалённых, привычных к комфортабельным условиям, что больше касается городских. Да ещё погода почему-то взбесится и из солнечной, вдруг, превращается в занудную дождливую слякоть с холодными пронизывающими ветрами. Тридцать отпущенных дней становятся невыносимо тягостными и постылыми. Вероятно, у многих, если не у всех, в умах появляется всё чаще и чаще подлая тоскливая мыслишка: «…ну, когда же, наконец, закончится эта каторга? Не пора ли уже отправить нас, бедных студентов, в родные «апартаменты»? Сколько можно лопатить это поле, оно бесконечное что ли?..»
Впрочем, разве могут ли быть у молодёжи мысли унылыми и паническими. Кто-то с первых дней пребывания в колхозе находил свою капельку счастья. Нечаянно пролетала искорка симпатии к тому или иному человеку, возникало искреннее обаяние между другими, открывались общие интересы среди третьих. Рутинные часы пребывания на работе в поле, вечерами с лихвой компенсировались весёлыми выдумками и забавами, а ещё играми, которыми богат был разношёрстный студенческий народ. В такой компании унынию места не оставалось.
Вот этим будущим охотоведам и звероводам группы ОЗ-22, которые так весело распевали песни по дороге, несомненно, повезло. Тридцать с лишним человек представляли довольно обширную географию Советского Союза: были из Казахстана, Украины и Белоруссии; были из Волгограда, из Карелии, Калмыкии, Архангельска, Коми АССР, Чувашии и Ульяновска. Были и уральцы, и тюменцы, рязанцы и представители всего Золотого кольца матушки России. А сколько было из Подмосковья. Ну, и наконец, москвичи. Волею судьбы все они оказались в одной группе. В ней собрались и совсем юные парни, и девушки – вчерашние десятиклассники, и уже повзрослевшие и заматеревшие мужички, прошедшие закалку на воинской службе. Как-то так получилось, что по возрастной иерархии группа разделилась на две части. В самой юной компании оказались и двое молодых парней, поступивших сразу со школьной скамьи, о которых и пойдёт дальнейшее повествование.
Один из них русоволосый, среднего роста Ваня Кукшин. Внешне выглядел худощавым, но в нём чувствовалась крепкая стать. Впоследствии выяснилось, что в школе он действительно занимался в секции тяжёлой атлетики, и это пошло ему на пользу: хлюпиком или маменькиным сынком его никак нельзя было назвать. И по натуре оказался непоседой: в нём кипела энергия, и рвался наружу заводной темперамент. Весёлый остроглазый паренёк как-то быстро завоевал симпатии своих сокурсников и в скором времени стал довольно популярным человеком в группе. Возможно, потому что с юмором у него тоже было в порядке. Родом он был из Рязани, и порой создавалось впечатление, что его по-детски ещё наивные черты лица с заметно выступающими скулами и светлая курчавая шевелюра немного схожи с Есенинскими чертами – просто кому-то так показалось однажды. И если бы в тот момент из его уст прозвучали собственные стихи, наверное, обрёл бы он соответствующее прозвище.
Разные мотивы привели в этот техникум собравшихся здесь молодых людей. Но одна линия просматривалась наиболее чётко, правда, это касалось в основном парней: все они в той или иной степени связывали свою судьбу с охотой – это увлечение и привело их сюда. Впрочем, и девушек слегка эта тема коснулась, поскольку в основе у тех и других в душе была заложена «одна, но пламенная страсть» – любовь к природе, по крайней мере, любознательность и желание познать её больше. Тех, кого приласкало название учебного заведения – пушно-меховой, тот и почувствовал своё предназначение, и подался искать свою удачу в этот техникум, который находился в подмосковном городке Сходня, что в Химкинском районе Подмосковья.
У Вани сложилось, наверное, всё относительно просто. Дед у него был увлечённым охотником, обожал старинную охоту, читал и много знал из истории – его можно было долго слушать и слушать. А ещё он хорошо пел. Вот этот русский дух, любовь к природе и искусству, дед и сумел посеять в детской душе внука. Семечко упало на благодатную почву. Уже в подростковом возрасте Ваня знал многих птиц, обитавших в средней России, их голоса. Даже научился некоторым подражать. Домашние гербарии разных растений, коллекции бабочек и прочих букашек были обычным явлением в доме. Он часто выбирался на природу за город с дедом, а потом и один: изучал, запоминал, впитывал окружающий мир. Ему посчастливилось стараниями того же деда даже пройти школьную практику в качестве юного натуралиста в Окском заповеднике, где он многое узнал из жизни животных и птиц. Потянуло всё это зарисовывать, и он даже прошёл краткий курс рисования у своего соседа, школьного учителя. Когда подрос до нужных кондиций, дед стал брать его на охоту. Дальнейший жизненный путь уже был предопределён. Осталось только судьбе навести своею рукою на нужное учебное заведение, благо, что Рязань совсем недалеко от Москвы.
Сыграла ли здесь свою роль фамилия у юного любителя природы, трудно сказать. Можно допустить, что симпатичная и шустренькая птица кукша, обладающая по природе живым, любопытствующим характером, и послужила когда-то рождению подобной фамилии в их роду. Возможно, какой-то далёкий Ванин предок был прозван в своём окружении Кукшей за сходство с этой юркой птичкой, примечательной своим весёлым поведением и шустрым темпераментом, а ещё верностью и привязанностью к своему месту обитания. К тому же народ ей приписывал смелость и храбрость… Ну, мало ли какими качествами в старые времена наделяли тех или иных земных обитателей, но народ зря сочинять не будет – благодаря предкам своим теперь и носят многие люди свои фамилии, сходные с названиями разных птиц и зверушек. А эта птаха известна людям с давних пор ещё и тем, что очень дружелюбна и своим довольно скромным невинным видом и непосредственностью способна располагать к себе и завоёвывать сердца людей. Может быть, исподволь всё же фамилия человека в течение жизни оказывает на него какое-то влияние? Об этом можно было только предполагать, но во всём том, что приписывают этой скромной птице, просматривалось явное сходство с характером нашего героя.
Ещё один молодой человек, о котором пойдёт речь, Саша Казарин, приехал с Урала, а точнее из Первоуральска. Высокий и стройный шатен. Медлительный и уравновешенный. Никогда никуда не спешил. Сама внешность определяла в нём его характер. Но при всей его кажущейся медлительности, он имел какой-то внутренний темперамент, выдержанный, который в нужный момент взрывался в нём, внешне не проявляясь в физической прыти и резвости, но воплощался в неожиданное остроумие и меткость сказанного, иногда на грани сарказма. Причём, от этого никогда никому не становилось обидно, по крайней мере, за тот короткий срок с момента их знакомства такого замечено не было, наоборот, становилось смешно, – довольно редкое явление. Может быть, этим объясняется то, что он чуть ли не с первых дней был тоже одарён симпатиями своих однокашников, особенно девушек. Скорее всего, юноша и не понимал, что обладает тайным оружием обаяния, – наверное, хорошее расположение к себе со стороны своих сверстников принимал за дружбу, а она для него была, наверное, самым правильным и искренним способом общения между людьми.
Конечно, тоже не случайно Саша Казарин оказался в этом учебном заведении – романтическая натура перед окончанием школы уже подталкивала его сознание к поискам жизненного пути, где ему жилось бы комфортно и интересно, где непременно бы присутствовал дух романтики и приключений. У себя в городе он через своего дядю знал несколько охотников, общался с ними, даже пару раз напросился с ними на охоту по зайцу с гончими собаками. Его так заворожила эта охота, работа собак, их голоса, что любое упоминание об охоте впоследствии вызывало в нём волнительную, но приятную дрожь.
Как-то невзначай увидел он в книжном магазине справочник для поступающих в средние учебные заведения и купил ради интереса. Долго листал, заблудившись в названиях и профильных специальностях, но ничего не увлекло. И тут на своё счастье увидел притягивающее название одного из техникумов: Московский пушно-меховой. С жадностью стал вникать в суть и узнал впервые слово «охотовед». Оказывается, есть такая специальность, которая прямо связана с охотой. А он знал только о егерях. А тут такое!.. От радости запрыгал по комнате и поспешил поделиться с мамой – он был уже убеждён, что нашёл то, что искал, ведь его душа, которая так жаждала романтики и приключений, ещё с детства впитала в себя полюбившиеся Сказы уральского писателя Павла Бажова, жившего и творившего совсем недалеко от его родимых мест. Саша много раз их перечитывал и, кажется, даже перенял манеру разговора от героев этих книг – замысловатые, с хитринкой, остроумные реплики сами собой так и искрили порой из его уст при общении с однокурсниками. Была в нём едва уловимая загадочность и какая-то чудинка, и в то же время чувствовались не по возрасту степенность и собственное достоинство, присущие уже людям мудрым и уважаемым. Возможно, по этой причине кто-то из однокурсников когда-то назвал его Сан Санычем, случайно прознав о его отчестве. Впрочем, была и другая версия, совсем банальная: просто-напросто, в их группе собралось аж!.. шесть парней по имени Саша. Ну, надо же было их как-то называть по-разному. Вот и напридумывали разные вспомогательные склонения: кто-то стал Шурой, кого-то ласково называли Шуриком, третьего Александром, ещё одного – просто Сашей с обязательным добавлением фамилии, пятый… Но всё-таки неспроста Сан Санычу досталось величальное склонение, не смотря на то, что среди своих тёзок он был самым молодым. Первая версия всё же интереснее и не будем переписывать историю, это сути не меняет. Так и пошло: Сан Саныч да Сан Саныч. Впоследствии до того все привыкли к такому обращению, что другого имени будто и не существовало – Сашей его никто и не называл. Может быть, в глубине души Сан Саныч был рад такому обороту, но внешне был абсолютно непроницаем. Но немного позднее, оставив позади колхозную эпопею, уже в процессе обучения, подпись в письмах друзьям ставил немного отличающуюся: Сам Самыч. Такая метаморфоза произошла по той причине, что в учебных материалах по курсу биологии диких животных и птиц или охотоведения встречались часто употребляемые слова: самец и самочка. Опять же с подачи «штатного» остряка, кое-кто в шутку выронил эти слова в обращении к парню или девушке. Наверное, с непривычки такое обращение резануло слух, а может, даже и негодование вызвало, но постепенно прижилось и вошло в обиход – нет-нет, да проскальзывало безобидное шутливое обращение. Чаще оно употреблялось между собой парнями факультета охотоведения. Да простят автора люди, несведущие в этой науке, если им показался в этих словах намёк на некое извращение в общении между парнями и девушками в группе. Просто здесь присутствовала обыкновенная специфика обучения, плюс студенческий юмор, и только. Сан Саныча природа не обделила этим качеством, и он без намёка на какие-либо невероятные достоинства, втихаря подписывался «Сам Самычем». Ну, куда от этого деться – история!
Прошедшие две недели «колхозной» жизни дали возможность молодёжи немного привыкнуть к обстановке и узнать друг друга. В общении появилась раскрепощённость, ребята стали позволять себе некоторые вольности. Кто-то из сокурсников невзначай подметил, что и у Сан Саныча фамилия тоже птичью напоминает – Казарин. Есть такой северный гусь – казарка – как же не знать об этом будущим охотоведам. Им не приходило в голову искать сходства между своим товарищем и тем гусем, просто была у него такая созвучная фамилия и всё тут. Но не зря люди говорили с незапамятных времён «важен как гусь» о человеке, имевшем некоторые особенные черты характера, как важность и степенность. Нельзя сказать, что Сан Саныч чересчур выделялся этим, тем не менее, всё же напрашивалось подобное сравнение. Вероятно, бросалась всё-таки в глаза эта особенность, но не отпугивала. Знать, видели в нём не того важного и злющего, гоняющегося со зловещим шипением за каждым прохожим гусака, какого мы помним с детства, а благородного и безобидного гуся-казарку, часто пребывавшего в позе дремлющего, но взирающего на окружающий мир внимательным глазом из-под крыла.
Однажды вечером, когда группа собралась в колхозной гостинице после ужина, их курский «соловей», тоже Саша, заметил нечаянно, что Кукшин и Казарин в прошлой жизни, наверное, были птичьего роду-племени. Не всем это было понятно, но многие согласились, что есть в этой шутке некие странные намёки на сходство этих двух личностей, но не в их характерах – в этом, наоборот, просматривалась разница, – а в том, что, по мнению шутников, оба они в другой жизни когда-то точно были птицами. Только вот один точно напоминал добродушную, весёлую и шуструю кукшу, своим стрекотанием привлекавшая других поживиться какой-то своей вкусной находкой, а другой своей напыщенной важностью на первых порах слегка охлаждал желание приблизиться – как известно, гусь может больно и ущипнуть доверчивого простачка.
В те осенние дни ещё трудно было ожидать от людей, едва узнавших друг друга и приехавших на помощь сельчанам, каких-то явных и заметных сближений, но симпатии уже наметились. Образовывались приятельские парочки, троечки… Девушки придумали одно развлечение, которое помогало им больше узнать друг о друге, способствовало общению: они организовали своеобразную анкету и просили каждого дать свои ответы на придуманные ими вопросы. Понятна была цель – лучше узнать друг друга, но эти выдумщицы сами того не подозревали, что, налаживая таким образом взаимоотношения в группе, они ухватились, может быть, за главную связующую нить – непринуждённое общение между людьми. Они ждали искреннего ответа, а за искренностью скрывалось как раз та самая непринуждённость и открытость. Есть искренность в общении – будут люди радоваться чьему-то счастью или сопереживать чужому горю вместе с другими, делиться самым сокровенным, сочувствовать и помогать… А нет искренности – будет формальное, по необходимости, глухое, бесчувственное присутствие рядом, так называемые сухие деловые отношения, ни к чему не обязывающие, что людям общительным это вовсе не по душе. Вероятно, мудрая Природа сама натолкнула их на эту идею, чтобы помочь раскрыть душу друг друга, тогда и годы учёбы станут лёгкими и весёлыми, дружными и впечатляющими, что запомнятся на всю оставшуюся жизнь.
Однозначно, эта анкета сыграла определённую роль в судьбах молодых людей, приютившихся в двухэтажном «особняке» колхозной гостиницы. А неуловимые флюиды, витающие между ними, уже делали своё дело. Их прикосновение никто не ощущает, но они обладают таинственной магической силой, заставляющей людей по-другому взглянуть друг на друга, заметить в нём или в ней какие-то особенности, не замечаемые до сих пор, появляется пока ещё робкое влечение к этому человеку, но крепнущее с каждым днём. И не имеет значения, какого пола эти люди, получившие «дозу облучения» этими биотоками, – внутри них происходит малообъяснимая химическая реакция. Может быть, выглядит это и фантастически, но кто верит, скажет – это души людские соприкасаются. И дальнейшая их жизнь с этого момента становится неразрывной. Наверное, так внутри людей зарождается дружба. Возможно, вездесущая судьба тоже к этому «свои руки прикладывает». У кого-то такое происходит навечно, у кого-то на небольшой отрезок времени по разным житейским причинам. Кто-то становится попутчиком на долгую дорогу, а кто-то до первого перекрёстка.
Сие лирическое отступление, конечно, не является истиной. Несомненно, другие люди, например поэты, находят и другие объяснения такому явлению. Бога ради, главное, чтобы это чувство было. Если есть на свете дружба между людьми, значит, это чувство необходимо. Без него люди, как и без любви, тоже жить не могут.
Уборка картофеля затянулась – мешали переменные дожди. С утра поманит погодка ясным солнышком – спешно выгоняют технику на поле: картофелекопалка успеет пройти несколько гектаров, вывернет клубни наружу и удалится. Приходит черёд дешёвой рабочей силе в лице студентов. Те становятся в ряд парами, и давай собирать картошку в мешки. И только развернётся удаль молодецкая, начнут расти вереницей полные мешки вдоль по рядам, как начинает тихонечко накрапывать дождик. Едва успевают ряды пройти – поле становится грязным, труднопроходимым. Всё, трудовой день окончен. Тут и кроется беда: норма-то ведь остаётся не выработанной, а поле, соответственно, неубранным, и основной урожай пока в земле томится. И как следствие, оттягиваются дни отъезда утомившихся неустроенной деревенской жизнью студентов на зимние квартиры.
В один из таких очередных обманчивых дней высыпала молодёжь на поле. Снова разделились по двое. Как-то само собой получилось, что Казарин оказался в паре с Кукшиным. Стартовали. По небу плыли многочисленные облака, которые периодически то закрывали, то снова открывали солнышко, будто кто-то на небесах играл необъятными шторами, двигая их туда-сюда. Где-то на горизонте облака скучивались, расширяясь в своих размерах, образовывали сплошную тёмную массу, которая неумолимо надвигалась на работавших внизу людей. И волокла за собой от горизонта седую пелену с проблесками серебрящегося на солнце дождика. Люди, увлечённые работой, этого пока не замечали, весело переговаривались с напарниками или перекидывались шуточками с соседними парами.
И Сан Саныч, и Ваня упирались во все лопатки, старались быстрее заполнять мешки, особо не обращали впопыхах внимания на соседей, не интересовались, как у них продвигается рядок. И тут Казарин, разгибая спину, непроизвольно осмотрелся и, вдруг, обнаружил, что они отстали от «соратников» – они были самыми последними. Он обернулся к Кукшину – тот усердно выгребал руками и ногами завалявшиеся в земле картофелины и складывал их в ведро – почему-то не все клубни оказались на поверхности, приходилось их вышаривать в земле.
– Кукша, ты посмотри, что творится, мы же с тобой последние тащимся. Давай веселее, – произнёс Сан Саныч, неожиданно поймав себя на мысли, что напарника Кукшей назвал и немного стушевался. Он не знал, как тот отреагирует на такую дерзость. А Кукшин как работал, так и продолжил, не поведя ухом. Может, потому что Сан Саныч произнёс эти слова как-то уж очень непринуждённо и по-простому, – со стороны могло показаться, что они давно уже знакомы, много лет, – выглядело вполне обыденно.
– Ничего себе, куда ещё веселее? – Не отвлекаясь от дела, Кукшин ответствовал напарнику. – И так весь в мыле. Ты, Санёк, сам-то шевелись, а то созерцать взялся, кто сколько прошёл. Всё, что есть, всё наше. Сделаем. Только не понятно, почему мы с тобой хуже их работаем? Как-то неудобно перед ребятами.
Иван ощутил, что от нового обращения к себе повеяло чем-то домашним, он вспомнил, что его в школе тоже Кукшей звали. Ему, вдруг, показалось, что с Санькой они учились вместе в школе и поступили потом вместе в техникум. Почему-то ему захотелось его называть только Санькой, а не Сан Санычем, как уже кое-кто начал его так величать в группе.
На финишном краю поля уже собрались все сокурсники. А двое молодцев всё ещё копошились на последних десятках метров до финиша. Ваню раздирало любопытство, отчего они так медленно работают, а вся группа уже закончила свои отведённые гектары и стоит в ожидании этих двух нерасторопных увальней. Думал про себя, ковыряя землю: «Санька весь в мыле, я тоже – хоть выжимай. Работаем, что есть силы. Стыдно даже». Выпрямился, огляделся, назад посмотрел. Что-то ему показалось странным. Ещё раз взглянул назад, посмотрел по сторонам, и к нему пришла догадка: «Едрёна корень, у нас в ряду мешки с картошкой меньше, чем через десять метров стоят, а у них… а у них-то!.. Ёка-ле-ме-не!.. Получается, у нас в два раза больше мешков собрано?!».
– Санёк, посмотри назад, оглянись. Да, оторвись ты, наконец, от этой картошки… Вот, почему мы отстали. Смотри, сколько мешков по нашему ряду стоит и сколько на соседних… Вот, халтурщики!.. Мы с тобой картошку до единой выбираем из земли, землю ворошим, стараемся. Конечно, времени много уходит. Вот, в чём секрет. А они, что, разве не так делают? Или в нашем ряду больше картошки уродилось? – В его наивных глазах застыл немой вопрос.
– Ну и ладно. Наверное, так и есть – больше уродилось. Нам просто не повезло. Если бы норму назначали от количества собранного, а не от пройденных гектаров, то мы были бы первыми. Зато сейчас торопиться уже не надо. Подождут. А до дождя мы успеем! – Спокойно оглядев горизонт, как ни в чём не бывало, проговорил Сан Саныч, словно гусь-казарка прогоготал, продолжая в том же темпе выковыривать картошку из земли.
– Подождут, до дождя… га-га-га, га-га-га, – передразнил своего товарища Иван и, не сдерживая смеха, добавил, – …гусь ты мой, лапчатый…
В этот момент уже оба захохотали на всё поле, явно удивив своих однокурсников, ожидавших их с великим нетерпением на краю поля и жаждущих до дождя покинуть его.
Как знать, может быть, в этот момент и зародилось между ними то сокровенное чувство, что дружбой зовётся.
4
Наконец, страда колхозная – уже явно надоевшая и утратившая свой недолгий романтизм – закончилась. Обратно ехали они всё тем же маршрутом и на том же автобусе. Вновь кто-то попытался завести настрой всей компании теми же знакомыми песнями, но они, зазвучали не совсем задорно и весело, как это было по пути в колхоз, хотя повод для веселья был подходящий и долгожданный: всё-таки миссию свою они выполнили, картофель убрали. Сказывалась, видимо, накопившаяся усталость от бытовой неустроенности и рутинной обязанности: идти с утра на поле в промозглую сырость и «добывать» картофель из сырой земли. Напрашивалось и другое предположение, – хотя и могло показаться немного странным, – возможно, они устали ещё и от избытка вольной и беззаботной жизни, которая, оказывается, иногда тоже может наскучить.
Что ж, зато впереди их ждал труд умственный. Теперь им предстояло вспомнить «школьные годы чудесные» и начать штудировать азы выбранной профессии. И одновременно привыкать к новым житейским условиям. Опять же, по чистой ли случайности или они так договорились, Кукшин и Казарин разместились в общежитии в одной комнате, соседствуя ещё с двумя однокурсниками. Начались обычные студенческие будни. Лекции, зачёты, семинары, лабораторные… Вступил в первую стадию курс обучения будущих охотоведов и звероводов – этап пока ещё теоретического познания мира животных и птиц, относящихся к промыслово-охотничьим видам, изучения основ охотоведения и звероводства, бухгалтерии и юридического права. Было много новых предметов, знания которых необходимы им были в будущей работе. А чем ещё может быть прекрасна пора студенческая, когда у человека за плечами нет никакой ни теоретической, ни, тем более, практической основы, а есть только то, что он вычитал когда-то в любимых книгах? Конечно, познанием нового, неизведанного, которое так увлекает, и с каждой новой лекцией ты углубляешься всё больше в заветную свою мечту. Получаемые знания усиливают юное воображение о неизвестной пока тебе профессии, и всё кажется в розовом цвете. Когда жизнь прекрасна и удивительна, когда она насыщена всевозможными интересными событиями, когда ты живёшь в среде приятных тебе замечательных людей, то не замечаешь и время.
Вот так незаметно промелькнули месяцы учёбы, отбушевал шумный новогодний праздник, и наступила весна 1979 года. Кое-кого к этому времени поджидали доблестные вооружённые силы. Касалось это тех парней, что пришли в техникум после школьной скамьи. В группе таких было человек семь, в том числе и Кукшин с Казариным. С отправкой их получилось как-то дружненько и почти в один день. Так же дружно, но с грустью, вся оставшаяся группа сокурсников, – пожелав им счастливой и удачной службы – распрощалась с молодёжью, ещё не осознавая, что с большей вероятностью – навсегда. Потому что встретиться им вновь и совместно заниматься в аудиториях этого учебного заведения, было уже не суждено, поскольку, отслужив положенный срок, нынешние новобранцы уже вернутся в другие группы, к другим сокурсникам. А оставшиеся парни и девушки доучатся, пройдут практику и разъедутся по городам и весям огромной страны. Впрочем, его величество случай опять же оставляет шансы на возможные нечаянные встречи где-нибудь в привокзальной сутолоке, в подземном переходе или в очереди в каком-то магазине. Бывает всякое. К тому же, ребята обещали писать письма друг другу, значит, была надежда, что встреча может быть не просто случайной, а задуманной. Всё зависело от того, как за столь короткое время учёбы – всего каких-то девять месяцев – они сумели сжиться и сдружиться, и осталась ли у них при расставании тяга увидеться когда-нибудь вновь.
Кстати, любопытное совпадение произошло с Казариным и Кукшиным на службе, которое ещё и ещё раз наводит на мысль, что судьба всё же если и не впрямую управляет человеческой жизнью, то, во всяком случае, подталкивает людей иногда друг к другу. В первые месяцы службы, а оказались они оба в Белоруссии, но в разных учебных частях, повели их как-то на экскурсию в Мемориал Памяти Жертв Хатыни. И ни дать ни взять, сошлись их группы в один день и в одной точке. Несколько дорожек протянулись внутри мемориального комплекса, но вот их дорожки сошлись. А уж увидеть друг друга в такой толпе им явно Бог помог. Сан Саныч первым увидел это знакомое до боли лицо.
– Кукша, Кукша, – закричал он, подпрыгивая и размахивая руками, приковывая к себе внимание всей бритоголовой толпы в пилотках. Ваня увидел его и обомлел, в глазах – откровенный шок: не снится ли ему видение.
– Санька, ты что ли? – заорал в ответ. – Ну, как так может быть? Ты-то как здесь оказался? Нас на экскурсию вывезли. Вас тоже? Вот это случай! – Скороговоркой протараторил Ваня, не в силах успокоить свой темперамент.
Друзьям пришлось попросить своих командиров, чтобы дали им «краткосрочное увольнение», не покидая границ мемориального комплекса, чтобы наговориться, утолить жажду общения. Письма друг другу, конечно, писали, но тут – живое общение! Разве может оно сравниться с самыми задушевными и искренними письмами? Представилась у них такая возможность – хоть часок побыть вместе. Ну, как же тут не подумаешь вновь о ней, о судьбе. Конечно, и на случай списать можно. Ну, а что такое случай? Может быть, это просто какое-то событие, произошедшее в определённый отрезок времени при нечаянных или непредвиденных обстоятельствах. Может быть и так, но что-то создало эти нечаянные обстоятельства? Кроме судьбы – некому, хотите верьте, хотите нет.
Затем их дорожки разошлись далеко, и уже случай был бессилен – больше встретиться им не удалось. Но, что такое два года службы? Это мгновение, хотя им может быть, так не показалось, всё-таки ожидание, тем более «дембеля», катастрофически замедляет время.
К счастью, армия не потушила в их душах зародившийся огонёк страсти к охоте и редкой профессии, и они вернулись в родные, уже ставшие любимыми, стены своего учебного заведения. Ни тот ни другой даже ни капельки не сомневались, что выбрали правильное учебное заведение, и ни у кого не закралось мысли поменять его на какое-нибудь более престижное, как иногда случается в жизни. Остались они верными своим романтическим идеалам. Радостной была встреча двух друзей-сокурсников, и не важно, что их определили по разным группам. Они по-прежнему считали себя студентами той группы, в которой начинали учиться, и откуда ушли в армию. Частыми были ностальгические, с лёгкой грустинкой, их совместные воспоминания о бывших своих сокурсниках, с кем они начинали учёбу и кого по праву называют однокашниками. Грусть была мимолётной, когда получали письма от кого-то из них. А чего грустить? Они были молоды и уверены, что пути их жизненные ещё много-много раз пересекутся. А самое главное, они, Кукшин и Казарин, снова были вместе. Хоть и раскидали их по разным группам и поселили в разных комнатах общежития, но часто пропадали друг у друга в гостях. Все другие ребята привыкли к этому и никто не считал ни того ни другого посторонним. Оба для них были своими – какая разница, кто в какой группе учится и в какой комнате живёт. Следовало ожидать, что в скором времени у них появятся новые друзья, может и новые симпатии – молодые же и привлекательные, бравые солдатики…
Весна была в разгаре. Подмосковный городок Сходня утопал в молодой зелени и буйном цветении садов. Соловьи азартно соревновались в искусстве пения, умолкая ненадолго днём и возобновляя свои концерты в прохладе вечерних сумерек. От соснового бора, раскинувшегося недалеко от общежития, весенний ветерок доносил головокружительный запах нежной сосновой хвои, а его опушки были устланы коврами, сотканными из разноцветья подснежников, медуницы и мать-и-мачехи.
Как-то в перерыве между занятиями Иван встретил в столовке Сан Саныча. Не ускользнуло от его внимания, что друг его выглядел немного загадочно и был в хорошем настроении.
– Ты чего сияешь, как солдатская бляха перед парадом? – спросил его Кукшин, усаживаясь с полным подносом за стол.
– А что, заметно? Да, и в самом деле, настроение хорошее, – нараспев проговорил Сан Саныч, продолжая таинственно улыбаться. И тут же встрепенувшись, спросил:
– Слушай, Кукша, ты чем сегодня вечерком, часиков в семь будешь заниматься?
– М-м, странный вопрос, Санёк. Как всегда, ничем особенным. Может, пойду прогуляться в лесок,.. компанию не составишь? – ответил Иван, принимаясь за еду.
– Можно и прогуляться, но вначале в гости забежим ненадолго к нашим девчатам. Ты как, не против? Посидим, чайку попьём, а потом все вместе и погуляем. Ну, что, заинтриговал? Хочу тебя познакомить с девчатами из нашей группы. Нормальные девчонки, весёлые, компанейские. Помнишь, ещё в той группе, до армии, мы тоже в комнате у наших девчат засиживались… Весело было! Помнишь, Кукша? – увлёкся воспоминаниями Сан Саныч, даже про обед забыл.
– Санёк, ешь давай, стынет суп твой… Помню, всё я помню. Ты хочешь сказать, что надо продолжить традицию? Вот только как бы меня девчонки с нашей группы не приревновали.– пошутил Иван, явно обрадованный приглашением. – А и правда, что по комнатам сидеть и скучать? Погода стоит хорошая, черёмуха цветёт… А, Санёк! Во сколько, говоришь? Ладно, жду. А теперь нажимай на еду скорее, а то на занятия опоздаешь. А я побежал…
Каждому из них нравилась своя новая группа, в обеих они нашли жизнерадостных весёлых ребят и симпатичных девчонок. Иван с таким же успехом мог бы и сам познакомить друга с кем-то из них, но раз уж опередил его Санёк, то придётся принять его приглашение. Впереди ещё достаточно времени, чтобы всем перезнакомиться, если уж того захочется – жизнь сама разберётся.
Как-то так получилось, что они стали частыми гостями у этих девушек, с которыми Казарин познакомил Кукшина в тот вечер. Ну, почти точь-в-точь, как и в первый год обучения в недавнем прошлом: тот же этаж, чуть ли не та же комната. Сказать, что они оба были прирождёнными ловеласами, было бы абсолютно не верно. Всё происходило просто и не навязчиво, по взаимному дружелюбию и без излишних пристрастий. Абсолютно чистые дружеские взаимоотношения, какие складываются между юными людьми в студенческой среде. Что-то высокое и благородное притягивало их сердца. А ещё юмор и юношеская шаловливость недавних служак, их весёлые армейские байки, возможно, также растворяли невидимые границы в общении, придавали им ещё большего обаяния. Добавим сюда же некоторую житейскую мудрость и превосходство в познании мира благодаря той же армии, что тоже вызывало определённое уважение со стороны девчат. Разве можно было отвергать таких парней, вот и засиживались они вдвоём у новых своих сокурсниц допоздна… и ничего более. Каких-то серьёзных планов о семейной жизни в голове никто не строил. Но сердце человека всегда живёт в ожидании любви, пока оно не заполнено этим чувством, тем более, когда оно молодо. И тайная надежда всё же нет-нет да касалась их сердец, в основном – девичьих.
Сердца же этих двух парней были пока заполнены только романтикой свободной таёжной жизни. И их посещали мечтания только о будущей работе. Поэтому всё же главная цель для них была – учёба, ради неё они снова здесь. Снова начались такие увлекательные студенческие будни, помогавшие в кратчайшее время восстановлению в памяти слегка подзабытых за годы службы теоретических основ своей профессии и их дальнейшему изучению. С новой силой, развиваясь, как ребёнок в утробе матери, всколыхнулась и крепла ещё совсем недавно зародившаяся охотничья страсть, звавшая скорее вырваться на таёжный простор, вдохнуть густого смолянистого запаха тайги, смешанного с пороховым дымом от удачного выстрела по дичи.
Впервые познать все прелести и тяготы таёжной жизни им удалось только на практике. Вместе же и проходили эту практику в Горном Алтае. Им удивительно повезло: приехав в распоряжение одного из коопзверопромхозов, где из года в год проходили практику в качестве охотников-промысловиков многие поколения студентов техникума, они встретили там не кого-нибудь, а своего бывшего сокурсника Вовку, имевшего прозвище Матёрый. И это качественно повлияло на всю их практику. Матёрый уже два года работал штатным охотником в этом промхозе и был самозабвенно влюблён в эти таёжные просторы и неповторимую красоту Алтайских гор. По мере возможности, он успел рассказать немало интересного из своей таёжной жизни и поделиться ещё не столь великим, но уже насыщенным опытом, накопленным за пару лет. Своими страстными рассказами, вероятно, сумел разжечь и в них ещё большую страсть к охоте, да так, что она разгорелась в них, как огонь в кузнечном горне, усиленно раздуваемом мехами. Ведь это был их первый опыт самостоятельной настоящей охоты, именно в глухих таёжных угодьях, имеющих свою особенную специфику, отличающуюся от той охоты в средней полосе, о которой они имели своё юношеское представление. В их случае «кузнечными мехами» являлись первые удачи на охотничьем поприще: первый добытый глухарь – трофей знатный для любого охотника; пара пойманных соболей и первое незабываемое чувство от соприкосновения с мягким золотом – искристой нежной соболиной шкуркой. А как приятны были вечера в зимовье после дневных переходов по путикам, когда после дел насущных и ужина, уставшие, но счастливые мечтали о будущей жизни. Наверное, здесь и созрели их дальнейшие планы относительно будущей работы. Но могли ли они в тот момент предполагать, что окажутся потом чуть ли не в самом глухом уголке сибирской тайги?
5
Позади самые тревожные дни, изматывающие ещё юную, не окрепшую студенческую натуру – сдача госэкзаменов. А впереди – загадочная неизвестность, ожидание счастья, любимое дело и воплощение мечты в реальность! Меж этих двух потрясающих этапов в жизни уже бывших студентов вот-вот должно свершиться ещё одно немаловажное событие – распределение новоиспечённых специалистов: товароведов, охотоведов и звероводов в места их будущей работы. И разъедутся они по великой нашей необъятной Родине. Судьбоносный день – почти мгновение, как выстрел, но способный резко изменить дальнейшую жизнь этих молодых людей. Коридоры учебного заведения были заполнены юношами и девушками, ожидавшими вызова в кабинет, где заседала комиссия по распределению, вершившая их судьбу. Так было каждый год. Уже немало в истории техникума было выпусков; сотни выпускников, оказавшихся во всевозможных уголках России, из неопытных молодых специалистов превратились в заслуженных, уважаемых и авторитетных профессионалов своего дела.
Наверное, не было равнодушных в этот день. Все волновались: кто-то уже строил планы на ближайшее время, уверенный, что его место от него никуда не денется; другой прокручивал в голове варианты, дабы обойти некоторые бюрократические препоны и угодить именно туда, куда уже давно навострил лыжи; большинство же, конечно, просто уже переживали предстоящую разлуку со своими друзьями и подругами, с преподавателями, ставшими в эту минуту такими родными, с этим уютным местечком, где располагался техникум. Были и сговоры с неразлучными друзьями, чтобы постараться заполучить работу в одном месте, по крайней мере, поближе друг к другу.
Комиссия в основном состояла, из добрых людей, понимающих, то есть из тех же преподавателей, которые хорошо знали своих бывших студентов и старались помочь им определиться с выбором. Председателем же комиссии был человек строгий, не испытывавший нежных чувств к своим подопечным и не имевший своих любимчиков среди них, твёрдо стоял на позициях нравственности и законности во всех вопросах. Всё же многие поколения студентов с уважением относились к нему – ветерану и инвалиду Великой Отечественной войны, потерявшему на фронте правую руку. Студенты величали его БОБ – наверное, потому что звали его Борис Осипович Бускис. Несмотря на жёсткий характер председателя, весь состав комиссии находил общий язык, учитывал все житейские нюансы и семейные обстоятельства убывающих к местам распределения своих бывших студентов. Из года в год случалось в техникуме так, что завязывались отношения между юношами и девушками, пока не скреплённые брачными узами; образовывались в техникуме и семейные пары – не раз стены этого заведения становились молчаливыми свидетелями скромных студенческих свадеб. Естественно, никто не желал разрыва этих связей, поэтому старались их сохранить всяческими способами.
Иван Кукшин, давно уже выбрал себе место будущей работы. Его манило в самую глухомань далёкой сибирской тайги, в край неизвестный и необъятный, интересный и завораживающий своей непознанной природной красотой, притягивающий обилием и разнообразием дичи в лесах. Наверное, он заразился этой идеей ещё на практике, а может этому помогла какая-нибудь статейка из журнала «Охота и охотничье хозяйство», который выписывал его дед. Может быть, увлечённый юноша вычитал о заманчивых романтических буднях сибирских промысловых охотников, где все трудности и тяготы ушли на второй план, а на первом виделись романтические картины путешествий по бескрайним сибирским просторам, где в великом множестве водились звери и птицы, увлекательных приключений на охоте или рыбалке. Точка на карте терялась где-то глубоко в таёжных дебрях необъятного Сибирского края, в угодьях одного из охотничье-промысловых хозяйств. Почему он выбрал это место? Иван сам порой не мог ответить себе на этот вопрос. Ведь таких похожих мест на просторах Сибири немало, тот же Горный Алтай или Дальний Восток, а чем хуже Карелия или Архангельская область? Ничем не уступали и многие другие регионы великой страны. Да мало ли, везде есть своя романтика, надо было просто влюбиться в этот самый уголок. А Кукшин уже грезил мечтами о давно выбранном крае и других вариантов не допускал в мыслях.
Было ещё одно обстоятельство, которое предопределяло выбор: в краевом центре жила его тётя, а муж её был лётчиком местных авиалиний, обеспечивавших отдалённые таёжные районные города и посёлки, имел там своих друзей и приятелей, среди которых были охотники и рыбаки. Повезло Ивану и в том, что дядя ещё был знаком с директором одного из коопзверопромхозов. Надо полагать, что не малая доля романтики досталась ему из рассказов дяди-лётчика. А тот, в свою очередь, узнав о пристрастии племянника жены, обещал посильную помощь. Сдаётся, что это был один из главных аргументов в пользу этого края.
В запасе у Кукшина имелось ещё одно небольшое преимущество, дававшее ему первоочерёдное право выбора: учитывая, что он окончил техникум с отличием, в кабинет заседавшей комиссии заходил в числе самых первых соискателей. Иван очень надеялся, что это обстоятельство поможет ему, поэтому был уверен, что его цель уже маячит на горизонте. Он почему-то был уверен, что ему выпишут направление именно туда, куда он мечтал, но не мог учесть одного, что запроса на молодых специалистов от дирекции нужного ему коопзверопромхоза не поступало.
Когда Иван зашёл в кабинет и получил на руки сопроводительный документ, то увидел, что в нём обозначен далеко не тот пункт назначения, о котором он мечтал: его фамилия маячила в подготовленном направлении не куда-нибудь в великую Сибирь, а немного ближе – в одну из лесостепных областей близкого Зауралья. Юноша не подал виду, что расстроился; казалось, его это обстоятельство нисколько не смутило. В голове юного авантюриста уже роились свои тайные мысли; скорее всего, он уже имел ясное представление о том, где окажется в недалёком будущем. И тот самый сопроводительный документ – направление на работу – обязывавший всех выпускников к неукоснительному выполнению, для него не являлся веским аргументом, способным помешать его планам. Но всё же он попытался законным путём отстоять своё право на осуществление мечты. То ли так им было задумано и отрепетировано, то ли, в самом деле, он оробел перед комиссией, но получилось у него вполне естественно – с заметной робостью и неуверенностью спросил, обращаясь ко всей комиссии:
– А можно мне поехать в другое место, туда, куда я хочу, и где от меня будет больше пользы? Меня в Красноярском крае ждут, – тихо промолвил бунтарь, при этом искренне улыбаясь своей широкой обаятельной улыбкой.
Все присутствующие члены комиссии одновременно отвлеклись от своих дел, с удивлением и любопытством вглядываясь в лицо соискателю, пытаясь понять, шутит он или нет – за эти годы привыкли к некоторым выходкам этого весёлого студента. Председатель комиссии, человек весьма жёсткий и не слишком эмоциональный, произнёс, слегка оправившись от вопроса:
– Кукшин, вы поедете туда, куда выпала разнарядка, в тот город, что указан в направлении, но, если не устраивает – можете выбрать другие варианты. Вам такая возможность представляется, как отличнику. Из далёкого Сибирского края нам запросов не поступало. Да будет вам известно, что там по соседству с ними свой пушно-меховой техникум есть, это их сфера влияния. Так что, мил человек, будьте добры следовать нашему предписанию. Подойдите к стенду и подберите себе другой вариант, а потом решим. Всё, следующий!.. – Отрезал Борис Осипович категорично, не сомневаясь, что его ответ должен быть воспринят как исчерпывающий и не терпящий возражений.
Кукшин отошёл к стенду, где размещались списки востребованных специалистов и адреса будущих мест работы. Делал вид, что внимательно изучает информацию, но мысленно уже репетировал очередной подход, будто собирался сделать следующую попытку поднять штангу с ещё большим весом, как это проделывал, тренируясь в школьной секции по тяжёлой атлетике. За все годы студенчества он иногда темпераментно отстаивал свои принципиальные взгляды на некоторые вещи, но не настолько, чтобы в таком бунтарском духе идти в разрез установленным правилам. Видимо, уж очень яркой была его мечта оказаться в настоящей глухой тайге и не совсем в том качестве, которое ему предназначалось, что Кукшин готов был пойти и на такое хулиганство, далеко ему не характерное. Но кроме одного посвящённого – друга Саньки – никто об этом не ведал. Его в этот момент вовсе не интересовало ни какое другое направление – лично для себя он уже всё твёрдо и безоговорочно решил. Просить и умолять членов комиссии пойти ему навстречу и дать официальное направление туда, куда выбрал, уже не было смысла – он это понимал с самого начала. И всё же Иван испытывал некоторое чувство вины за своё упрямство. Ему казалось, что его выходка была похожа больше на каприз баловня судьбы, выпускника, закончившего техникум с красным дипломом. Этим и объяснялось его некоторое замешательство, несколько минут ушли на раздумья и внутреннюю борьбу с самим собой – как поступить. Успокоил себя лишь внушением, что вся эта процедура – явление чисто формальное и не всегда справедливое, а он с некоторых пор открыл в себе незнакомое чувство борца за справедливость. И ему понравилось отстаивать свои идеи. Кукшин принял окончательное для себя решение: не будет он ни с кем бороться,.. зачем? когда есть простой путь…
Покинул стены своей «Альма-матер» он всё же имея на руках направление с неугодным ему адресатом. Иван сделал вид, что подчиняется бюрократической воле комиссии и расписался в необходимых документах. Решил, пусть эта бумажка останется на память, но в начале августа он уже явился в объятия своей тёти в Красноярске. И спустя пару дней летел уже на легендарном отечественном самолёте Ан-24 над бескрайними просторами сибирской тайги в нужный ему район. Пилотировал самолёт его родственник – дядя Миша, опытный лётчик местных авиалиний. Иван как прильнул к иллюминатору с момента взлёта, так и не отрывался. Он не ощущал лёгкой дрожи корпуса самолёта и не слышал оглушающего рёва мотора, не обращал внимания на провалы в воздушные ямы, только глубоко при этом вздыхал, стараясь усадить своё сердце обратно на место. Всё его внимание было приковано к тому, что обозревалось внизу с высоты полёта. Иногда рядом с ними проплывали небольшие облака, но они не мешали обзору. А внизу распростёрлась тайга, к которой он так стремился. И тут же на ум пришли слова из песни, той самой популярной песни о неисправимых романтиках, и в душе зазвучала мелодия: «…Под крылом самолёта о чём-то поёт зелёное море тайги… Как точно подметил поэт Добронравов. Это надо увидеть! Не увидев это в иллюминатор самолёта, не напишешь таких строк. Не увидев, не придумаешь, а увидев, – слова сами в стихи складываются», – подумал Иван и почувствовал, как по спине забегали мурашки, наверное, тоже от нахлынувшего вдохновения. Хоть и натужно ревел моторами самолёт, но летел, казалось, совсем медленно. Медленно и сменялась картинка внизу. Из туманной дымки далёкого горизонта смутно обозначались горные отроги, наползавшие навстречу курсу тонкими змейками, постепенно разрастаясь по мере приближения и будто превращаясь в гигантский панцирь сказочных доисторических чудовищ. В каком-то месте они собирались в один кряж, а затем снова рассыпались в разные стороны, теряясь в лесных массивах. То тут, то там пестрели охристой яркостью каменные столбы по берегам крупных рек, широкими извилистыми лентами, извивавшиеся от края до края всего видимого пространства. И казалось, всё это пространство было заполнено огромным морем, но не привычного для него цвета, а со множеством оттенков зелёных красок в августовскую пору с резкими перепадами от возвышенностей к ложбинам, которая разбавлялась мозаикой из небесных отблесков, отражавшихся от многочисленных рек и озёр. И в голове рождалась иллюзия раскинувшегося под тобой волнистого зелёного моря со скалистыми берегами. Видно было с высоты, как оно, действительно, колыхалось в ритме раскачки деревьев от ветра. «Как тайга прекрасна с высоты, а там внизу, в самой тайге, наверное, ещё краше. И конца края не видно! …Да, уж, действительно, в этот край далёкий только самолётом можно долететь…». – Иван с трудом сдерживал себя, чтобы не запеть, ему даже захотелось похулиганить и во всеуслышание спеть эту песню, но украдкой оглядев пассажиров в салоне, понял, что вряд ли его правильно поймут, и постарался не выдать свои эмоции. Пассажиров из местных не удивишь, в лучшем случае вызовешь снисходительные улыбки.
Огромен этот край, необъятен! Уж не этой ли своей мощью, неведомыми путями дошедшей до него, он покорил душу Ивана Кукшина, что не смог тот думать о каких-то других местах. А какое конкретно местечко достанется ему, очарует ли его той же мощью и красотой? Вполне ведь может быть, что не найдёт он здесь того, чего ищет. И не постигнет ли его, не дай Бог, разочарование? Впереди была только неизвестность. Он не знал даже названий тех населённых пунктов, которые встретятся на пути, не мог знать и конечного пункта, где остановится. Но неизвестность его не пугала, а только будоражила кровь, отчего будущее ему виделось как бесконечная даль в розовой туманной дымке. Мысленно он уже подторапливал то время, когда, наконец, прибудет туда, куда рассчитывал; когда обоснуется там, познакомится с людьми и начнёт заниматься тем делом, о котором мечтал.
Первая плановая посадка была в одном районном центре. Именно в угодьях местного коопзверопромхоза юный авантюрист и надеялся осуществить свою мечту. Благодаря советам дяди Миши он и облюбовал это местечко. Когда приземлились, дядя Миша напутствовал своего юного родственника:
– Стоянка у меня здесь сорок минут. Потом улетаю в Варварино. У тебя есть полчаса. Контора коопзверопромхоза находится вот там, по вывеске найдёшь, – проговорил он, указывая рукой направление и продолжил. – Беги, Ванюша, решай свой вопрос. Если тебя не будет к вылету, будем считать, что ты остаёшься, значит пофартило. А если просто опоздаешь, то жди следующего рейса, несколько дней как-нибудь перебьёшься. Ну, давай на крайний случай попрощаемся. Но в следующий раз увидимся. Удачи тебе, племянничек! – Обнял и пожал руку.
Иван, не теряя времени на прощальные церемонии, уже на ходу закидывая тяжёлый рюкзак за спину, скорым шагом, почти трусцой, засеменил к указанной конторе.
Естественно, его здесь никто не ждал, не нуждались они в дополнительных рабочих кадрах. Правда, надо отдать должное тамошним работникам, они вошли в положение, удивившись настойчивости молодого человека, и предложили ему слетать в соседний район, где тоже есть свой такой же промхоз. Кукшин мгновенно проанализировал ситуацию, в его голове уже был запущен механизм, который вёл к цели – во что бы то ни стало найти здесь работу, зацепиться, а уж потом развивать свою мечту об охоте. Опрометью бежал он обратно к самолёту, чтобы не успел тот улететь без него к заветной мечте.
Прилетев в Варварино, – а это и был центр соседнего района, – Иван немного успокоился, каким-то внутренним чутьём он понял, что здесь решится его судьба. Спешить уже было некуда. Самолёт улетел, обрезав все пути к отступлению, хотя у нашего упрямца и в мыслях этого не было. Оглядевшись, он направился покорять сердца местных начальников, с первых минут удивив их своим напором. И, скорее, даже покорил их своей простотой и непосредственностью – не часто к ним заезжают такие гости с большой земли. Подивились этому необычному парню, узнав, откуда он и что его привело в столь глухие таёжные края и тоже поняли, что ему непременно нужно помочь – в глазах Кукшина буквально читалось, что он от своего не отступится. Ему предложили место в одном из отделений коопзверопромхоза, в посёлке Дужном, что в ста сорока километрах от районного центра. Правда, была небольшая загвоздка с трудоустройством: вакансии в том отделении пока никакой не предвиделось. На его счастье директор сердечный был человек. Очень сокрушался, что так получилось неожиданно, но и рад был новым молодым кадрам, причём образованным. Краем уха слышал он хорошие отзывы о выпускниках Московского техникума, поэтому переживал, а не хлопнет ли дверью этот юноша и не умчится ли назад, на большую землю. Решил помочь и осторожно предложил ему временную работу не по профилю, а в котельной, там же в посёлке. Годик, мол, перекантуешься, а там милости просим, будешь охотничать по-настоящему, обещаю. Ивану не нужны были ни чьи обещания, он и так уже знал, что не уедет отсюда и будет ждать год или два, но своего добьётся. По крайней мере, даже рад был, что так всё устроилось, могло быть и хуже. «…Работа есть и жильё прилагается. А между делом буду потихоньку присматриваться, знакомиться с людьми. Узнаю за это время, как тут охотники поживают, да промышляют. Да и в тайгу мне путь разве закрыт? Буду потихоньку в выходные изучать тайгу в округе», – размышлял он.
На следующий день, пройдя все формальности при устройстве на работу, Иван Кукшин уже погрузился в очень кстати подвернувшуюся оказию – вертолёт местных авиалиний, одновременно выполнявшим функцию как пассажирского, так и почтового транспорта, служившим средством сообщения между райцентром и отдалёнными таёжными посёлками, что считалось обычным явлением в Сибирском крае. Конечным пунктом его путешествия был таёжный посёлок Дужный, что расположился на берегу реки Гремучей. В итоге ничто не смутило упорного человека, никакие преграды не помешали ему добиться своей цели. Так он оказался в этом посёлке. Какая неутолимая сила влекла его, сметая все преграды на пути? Чем же стал таким притягательным для него этот край таёжный? Говорят, что человек в силах сам устроить свою судьбу, если целеустремлён и настойчив. Может быть, она к таким людям благосклонна и не вмешивается до поры до времени в ход событий, соглашается с его выбором, поэтому и говорят – человек сам выбрал свою судьбу. Тогда чем же так притянуло его к этому месту, ведь оно ему совершенно незнакомо? Может быть, ему показалось, что именно это место даст всё то, о чём мечтал, и где сможет применить всю свою энергию, которая кипела в нём, как вода в той реке, зажатой меж скалистых берегов, на берегу которой волею судьбы или своими стараниями он оказался. Иван мало знал о ней, разве что из одного старого кино. Может быть, тогда увиденная картина на экране произвела на него огромное впечатление, что образ этой реки и всего этого края запал в душу и с годами не забылся, и подсознательно подталкивал его к поиску этого места? Почему его потянуло к этой реке? Может быть, от названия её звучного и редкого? Хотя, кто знает, сколько похожих названий рек на просторах нашей родины. Реки получали своё название по своему характеру, по красоте, по быстрой или тихой воде, от окружающих её мест: гор, полей, лесов… А у этой реки, значит, норов крутой, кипучий, бурлящий, грохочущий – от того, стало быть, она так и прозывается. Кто знает, уж не потому ли манило его к этой реке, что сам он был такой неугомонный и кипучий?
6
С его другом Санькой Казариным случилась несколько иная история. Он, как и Иван, мечтал о таких же таёжных просторах, о шуме ветра в верхушках высоких елей и кедров, но «вытянул билет» не в тот благодатный край – досталось ему место в одном из районов Новосибирской области. Казалось бы, тоже Сибирь,.. но что-то ему не хватало, не почувствовал в душе того удовлетворения от работы – не увидел он здесь таёжных просторов, о каких мечтали они с Кукшей. Не мог понять Казарин, в чём причина его неустроенности. Казалось бы и тут раздолье и свобода. И люди встретили неплохо, ждали его, как специалиста, возлагали надежды… Но, нет, не лежала душа и всё тут. Какая-то невидимая нить тянула его в другое место. Помыкался парень осень и зиму, помотался по Барабинской лесостепи и понял: нет, не по его вкусу здешние красоты, стало быть, не его это заветное место. Влекло его в настоящую таёжную стихию. Когда все разъехались по своим местам работы, с Иваном он связь не потерял. Пришлось в письмах другу и поплакаться на неудачный расклад в этой игре. Тоска от неопределённости и от неудовлетворённости в своей работе не покидала его. Не доставало ему самореализации, не нашёл он себя на этом месте. Какая же работа пойдёт на ум, когда не оставляли в покое те мечты, которыми он грезил вместе с Кукшей ещё будучи в техникуме?
И ничего странного в этом не было, когда Сан Саныч к следующей осени уже оказался в том же посёлке Дужном, своевольно разорвав трудовой договор с организацией, где работал по распределению. Это был поступок уже зрелого мужчины. Он был уверен, что приютившая его на время организация не понесёт большого ущерба от того, что покинет её своевольно. Надеялся, что через год на его месте появится другой специалист, который окажется более ценным, чем он и, даст Бог, приживётся здесь.
Казарин прибыл в посёлок таким же образом, как и многие, кто желает попасть в этот глухой уголок – дождался в райцентре «кукурузника», благо была лётная погода. Пока перебирался на новое место даже в голову и не приходили мысли: а правильно ли он поступил, что сорвался с уже более или менее насиженного места? Может, надо было ещё подумать и не принимать таких скоропалительных решений, ведь впереди полная неизвестность? Мало ли что Кукша тебе там написал, расхваливая своё новое гнездо. Не думал об этом Сан Саныч, просто он верил своему другу. Он был уверен, что Кукша не предложил бы ему переехать сюда, не звал бы его настойчиво, если бы ему самому тут было не по душе.
Правда, не всё складывалось удачно на первых порах, повторилась история, как и в случае с Иваном. Когда Казарин появился в конторе промхоза, и ему посчастливилось застать директора на месте, тот с огорчением сказал, что для вновь прибывшего попросту нет свободного промыслового участка. Он же приехал сюда работать промысловиком, причём явился без вызова и направления, что называется с бухты-барахты. Здесь ждали специалистов – в охотоведах пока не нуждались – а вот, например, товароведу, в крайнем случае, приёмщику пушнины, – очень были бы рады. О том, что он является специалистом именно этого профиля, Казарин даже и забыл, но ему напомнили в конторе, предложив должность заготовителя. Правда, речь шла о другом участке, который находился не в том посёлке, куда приглашал его Кукшин. Казарин со свойственным ему спокойствием заявил, что поедет только в Дужный, что там его ждёт друг. В заготовители он не пойдёт, а хочет промышлять. Директор сказал, не скрывая досады, что в таком случае он может предложить должность только разнорабочего, а промышлять молодой человек может сколько угодно, всего лишь надо договор заключить, и все дела. После некоторого раздумья добавил, ни к кому не обращаясь, видимо, захотелось свои мысли выразить вслух:
– …И что это за люди такие: что Кукшин, что этот, – специалисты вроде, зачем-то в техникуме учились?.. А им бы только промышлять. Не понимаю!
С едва скрываемым раздражением сел за стол, крепко с хрустом сцепив ладони. Через мгновение, справившись со своим недовольством, директор уже с улыбкой продолжил:
– Ладно, вижу, что упрямый такой же. Да, бог с вами, езжайте и работайте, если так приспичило. И сдаётся мне – очередной романтик к нам приехал. Значит, с Кукшиным вы учились? Чем-то вы похожи, не внешне, а натурами своими, оба целеустремлённые, что ли. В конце концов нам нужны и простые рабочие-трудяги: охотники, лесорубы и даже скотники… Да, да, держим в промхозе и свою скотинку ради молока, и лошадей для подсобных работ. Даже звероферма есть – вот звероводы бы сгодились. Кстати, не женат?.. – неожиданно спросил директор. – Я к чему спрашиваю, если к нам надолго, да ещё семейный – забот вы нам прибавили, жильё ведь вам потребуется. А жену привезёте когда, ей же тоже работу надо какую-то искать? – как бы нечаянно проронил директор и многозначительно посмотрел на Казарина. Тут Сан Саныч понял, что может хоть чуть-чуть порадовать директора и с радостью сказал:
– Вот жена у меня специалист, вам как раз подойдёт. Зверовод она, вместе мы учились. Но пока она у родителей своих живёт. А привезу её, когда обоснуюсь немного у вас.
Директор действительно обрадовался и пообещал ускорить вопрос с жильём, но по мере возможности, а возможности у нас невелики, – напоследок пошутил директор и пожелал Казарину удачного оставшегося пути до посёлка.
Что в охотоведах здесь не нуждались, Казарин также понял из разговора с директором, о котором осталось приятное впечатление. Ещё он сказал, что здесь под боком свой техникум имеется, в Иркутске. Вот он снабжает периодически такими же специалистами, да и те зачастую уходили в промысловики, – дескать, вольная тайга всех переманивает к себе из пыльных кабинетов, да и кормит, видимо, лучше. Мало желающих на должности работать, потолкаются годика три-четыре и всё равно в тайгу переходят, на живую работу. И про себя вскользь упомянул, что тоже Иркутский окончил, только давненько это уже было, да так и присох здесь. Манило, конечно, и в промысел уйти, да жена удержала. Тут уж ничего не попишешь.
Ожидая приезда друга, Иван обдумывал, чем первым делом занять его. С проживанием вопрос уже решён, будет пока жить у него в комнатушке, по соседству с Петровичем. Кровать с постелью уже приготовлена, лишняя табуретка найдётся. Всё это мелочи. Надо первым делом Саньку в тайгу увезти, в зимовье на Кокчан, – мечтал Иван. Сбегал для этого на берег, позаботился о моторе, проверил бензин. Приготовил с собой еды дня на три. А с чего Саньке жизнь начинать на этом месте, разберёмся потом, тут и его голова пусть поучаствует, – на возвышенных эмоциях суетился по дому Кукшин, поглядывая на часы. Через полчаса, услышав рокот заходящего на посадку самолёта, он выбежал из дому.
Сан Саныч даже обрадовался, что Кукша предложил ему завтра же уйти по реке на моторе куда-то в низовья к какому-то Кокчану. Название показалось смешным, напоминало – «капусты кочан». Подумал, надо привыкать к новым названиям, к новым традициям, к людям… Его будоражило в течение всего полёта до посёлка. Даже не переставал бить озноб и до тех пор, пока не сели за стол. На столе преобладала еда больше из рыбы – лето, август всё же, дичь ещё нагуливала вес. Разнообразие рыбных блюд для скромного мужского стола немного поразило Казарина. Здесь уже парила в тарелках свежая уха, отдавая лёгким дымком; на сковородке аппетитно издавая ароматы, ещё шкворчала только что пожаренная щука, отдельно в большом блюде нежились, отсвечивая жирными боками, малосольные хариусы. На крайний случай скромно присутствовала уже раскрытая банка свиной тушёнки. В дополнение к рыбе – молодая картошечка и квашеная капустка. Когда всё это Кукша успел, – удивился Казарин – с ночи готовился что ли? Такая забота приятно грела душу. Видно было, как радовался его приезду Кукша.
Иван первым делом решил показать только что приехавшему другу свои угодья, правда, им самим ещё малоизученные. Не сидеть же в душных четырёх стенах в посёлке, когда гораздо интереснее было посидеть и поговорить на воздухе в глубине тайги или на берегу реки, поохотиться или порыбачить, а потом похлебать ухи из хариуса. Выговориться, повспоминать и помечтать о будущем. Большого опыта хождения по таким рекам у него ещё не было. Совсем недавно он приобрёл у местного охотника лодку с мотором. Вот на ней они и добирались вниз по реке Гремучей. До приезда Сан Саныча он всего-то пару раз проходил по ней на моторе туда-обратно. Да и с угодьями не так уж хорошо ознакомился, больше изучал по карте. Минувшую зиму, промышляя набегами от случая к случаю, лучше узнал только те места, что ближе к реке расположены.
…Добрались без приключений, река к концу лета была спокойна и величава, пленяла своей невиданной красотой не только вновь прибывшего Казарина, но и Кукшина, уже повидавшего, но далеко ещё не насладившегося её красотами. Несколько раз они останавливались, выходили на берег, поднимались на каменные высотки и любовались. Наслаждались и радовались как два дитя, что правильное место выбрали.
Уезжая на участок, они всё же связались по рации с директором и заручились его обещанием, что вновь прибывшему охотнику предоставят свой участок, но с оговоркой – только на будущий год. Таков расклад вначале, было, огорчил Сан Саныча, но Иван поспешил его успокоить. Быстро убедил друга, что это даже будет лучше для них обоих. Он предложил Сан Санычу провести первый сезон на его участке. Так им будет легче набираться недостающего опыта, совместно, помогая друг другу, ведь они ещё не знали угодий, не имели нужной сноровки и умения. Незнакомая тайга таит для новичков немало трудностей и испытаний, поэтому вполне логично было провести этот сезон вдвоём, как когда-то на практике в Горном Алтае.
Но успокаивая Сан Саныча, Иван сам толком не знал, как на самом деле всё получится. Увлечённый планами на предстоящий промысел, он совсем забыл, что его зачислили в штат коопзверопромхоза заготовителем, то есть работником, который обеспечивает приёмку от охотников пушнины. Но и не только охотники его будут докучать – тут и рыбаки в нём нуждались, и заготовители кедрового ореха, даже грибники и ягодники будут одолевать, чтобы сбыть ему лесные дары. Здешние места богаты клюквой, черникой и прочей ягодой, так что отбою от желающих подзаработать не будет. От него требовалось исправно находиться в своём заготпункте, куда любой желающий мог прийти и сдать нужную таёжную продукцию. Или, в крайнем случае, организовывать какие-то выездные приёмные рейды по всевозможным заимкам с целью наибольшего поступления её в закрома коопзверопромхоза.
Наверняка, из Ивана Кукшина получился бы не плохой заготовитель с его принципиальным характером и трудолюбием, если бы не одно обстоятельство: он грезил тайгой и в мыслях пропадал там, на живом промысле, а эта работа никак не вязалась с его мечтами. Как можно увязать две совершенно разные специальности: добывать самому пушнину и тут же успеть принимать от других охотников эту продукцию, хотя цель, казалось бы, одна – заготовка пушнины и мяса диких животных? Конечно, ему были поставлены некоторые условия: либо ты работаешь заготовителем какое-то время, а свою страсть охотничью утоляешь по мере возможности, либо у нас вообще нет других вариантов. Руководство надеялось, что поработает человек немного в заготовителях, втянется в эту работу и, глядишь, успокоится. Ну, а Ивану пришлось серьёзно задуматься: как в таких условиях он должен был среагировать, чтобы всё-таки добиться своего? Как ему поступить: согласиться или отказаться? Он же мечтал попасть в настоящую тайгу на настоящий промысел. И вновь ему пришлось идти на компромисс, как когда-то в техникуме при распределении. Поразмыслив, дал согласие на год, но угодья просил сохранить пока за ним, поскольку рассчитывал иногда, по возможности, утолять охотничью страсть редкими выездами на участок. На том и порешили. Сам Иван не представлял, как он будет совмещать два вида деятельности, но был уверен, что начало положено, что это временное явление, а на будущий год постарается отделаться от рутинной складской работы заготовителя, и уйдёт полностью в промысел. С этой надеждой он и предложил Сан Санычу уехать в тайгу и обмозговать своё будущее, не дав возможности другу хоть немного осмотреться и отдохнуть с дороги.
…Уже давно было за полночь, а они всё сидели и сидели у костра, не ощущая течения времени. Спать по-прежнему не хотелось. Сколько они не виделись с момента разлуки после распределения? Всего-то чуть больше года. А как соскучились, наговориться не могут! Костёр уже, наверное, устал гореть, а они всё подбрасывают да подбрасывают дров. При свете его как-то веселее разговаривать, словно он поддерживал их беседу, высвечивая отблесками пламени их эмоции и мимику на лицах. Да и теплее с ним.
Всё также тиха и туманна была ночь. Ближе к утру холод становился чувствительнее. Иван встал и подтащил три толстых лиственничных бревна, приготовленных ещё засветло. Сан Саныч тоже подскочил помочь. Уложили их друг на друга в длину, подбив с боков колышками. Нодья была готова.
– Ты решил спать укладываться? – спросил Сан Саныч.
– Да нет. Просто надоело сушняк кидать в костёр, как в прорву. А нодья надёжнее и теплее. А если и уснём, то она до утра прогорит, не замёрзнем. А вообще, можно было бы и прилечь. Честно говоря, спать будто бы не хочу, но сидеть устал. Давай устраивайся и ты, Санёк.
Они засуетились, доставая куртки, телогрейки из лодки. Кукша предложил Саньке свой спальный мешок. Тот стал отказываться. Завязалась маленькая перепалка: никто не хотел влезать в это спальное ложе, уступая его друг другу. Иван проговорил:
– Ты мой гость пока что. А гостю положено самое лучшее место в чуме, как у эвенков, так что не стесняйся, залезай в спальник. Тем более, ты к таким суровым условиям ещё не привычный. А я рядышком, фуфаечкой укроюсь. От костра-то вон, какое тепло идёт, комфорт!
Казарин согласился с доводами друга, успокоился и, сняв сапоги, стал втискиваться в спальник. Наступила тишина. Только слышались поочерёдные глубокие вздохи друзей. Наверное, от наступившего блаженства. От костра отдавало теплом; гладкие береговые камушки давно прогрелись и, застеленные телогрейками, создавали уютную лежанку. Языки пламени с жадностью облизывали новенькие смолистые брёвнышки, с каждой минутой становясь всё длиннее и жарче, изгоняя из древесины остатки влаги, отчего дрова натужно и зловеще по-змеиному шипели, иногда разрываясь негромкими хлопками в тишине. Пламя вздрагивало, будто испугавшись, затем со злостью вновь накидывалось на обуглившееся бревно. Чем и хороша лиственница, что можно рядом с таким костром спокойно спать, не боясь подпалиться во сне – искр от такого костра не бывает.
Тишина продержалась недолго. Кому-то не спалось.
– Саня, не спишь? Слышу, возишься, значит, не спишь, – негромко сказал Иван.
– Не успел ещё заснуть. Впечатлений много, разве уснёшь быстро. Думаю о том, о сём,.. – отозвался Сан Саныч.
Иван, обрадовавшись, что друг ещё бодрствует, мечтательно проговорил:
– Звёзды-то как сияют. Давно я неба такого звёздного не видел. Как-то не приглядывался. Ты когда-нибудь загадывал желание на падающую звезду? Успевал? У меня ни разу не получалось, сколько ни пробовал. Не успевал. Слишком быстро они падают. Да и желаний много, – пока думаешь, она уже пролетает…
– Да, интересно. Бывало, загадывал как-то давно, наверное, ещё в школе учился. А, ещё когда в колхозе на картошке были. Выдалось там пару таких ночей, гуляли мы с девчонками, помнится. Нужно ожидать и заранее придумать это желание, тогда и успеешь. Вот тогда я успел загадать, потому что кто-то предложил, и все стали ожидать падающих звёзд. Только не помню – что я загадал? Сразу забывается. Вообще про это забываешь. Потому что игра это всё, как-то не серьёзно. И не знаешь потом: сбылось оно или не сбылось,.. – с лёгкой грустью произнёс Сан Саныч.
Через минуту спросил, шутя:
– А тебе что, звёзды спать мешают? Да, вроде уже не ярко светят – утро близится. А их не выключишь, как лампочки в доме.
– Да, казалось, что усну мгновенно, всё-таки притомился в разговорах, – ответил Иван. – Давно так долго не говорил, отвык… Звёзды не светом своим мешают, они на мысли разные наводят. Когда на них смотришь, почему-то о чём-то далёком начинаешь думать, о высоких материях. Или воспоминания накатывают, вот и не спится. А ты чего не спишь?
– Я вот думаю, чудно как-то получается. Лежим мы тут на камнях, в тумане у костра, и балдеем, всем довольные. Счастливые! А, что, разве дома, на перине хуже? Тепло, костёр не надо жечь. Лёг и храпи на здоровье до утра без забот, да ещё с женой в обнимку. Нет, нам здесь больше в кайф. Мы здесь ищем счастье. Как ты думаешь, это нормально? Знала бы моя мама, где я сейчас сплю. Темнота, глаз выколи, тайга кругом, – медведи, волки там бродят. Если ей всё это представить – с ума сойдёт. До сих пор она меня понять не может, что я за работу такую выбрал. Она говорит: это не работа – в лесу скитаться. Неухоженный, голодный. Спрашивает, где вы там спите, как питаетесь. Не мог, мол, ты, Сашка, на инженера выучиться, механика ли? Работал бы в городе, жил бы в нормальной квартире. Зарплату бы всегда вовремя получал. А там как вы её зарабатывать-то будете? – спрашивает. Разных зверюшек там настреляете, и за это вам деньги платят? Чудно ей, не может понять нашу работу.
Долго говорил в ночи Сан Саныч, вспоминая материнскую заботу о нём и тревогу. В тихом его говорке слышалось волнение. Несколько раз он прерывался, глубоко вздыхал, будто ему не хватало воздуха.
Иван слушал и понимал, что им обоим было жалко своих матерей. Такова уж доля материнская – страдать за своих детей. Его мама ничем в этом не отличалась, она так же сокрушалась неустроенностью быта своего сына, так же не раз выпытывала у него о работе. Так же тяжело вздыхала, несмотря на все его ухищрения успокоить её. Все они похожи в этом – пока своими глазами не увидят, что всё у детей хорошо, не успокоятся. Он мечтал, что когда-нибудь привезёт её сюда и покажет, как они живут, что страшного в этой тайге ничего нет. Он верил, что пройдёт немного времени, и ему будет что показать своей маме: свой дом, своих друзей и соседей, рассказать о работе. А ещё и свою семью. А она будет обязательно, только нужно немного подождать.
Он долго думал, глядя на звёздное небо, что же ответить на Санькины слова, но мысли витали где-то очень высоко, среди этих звёзд. Ему так захотелось сию минуту увидеть падающую звезду, а желание он уже давно приготовил. Поэтому не хотелось отвлекаться на разговоры, боялся пропустить это мгновение. Будто уловив душевное состояние Ивана, Сан Саныч также устремил взгляд в небо и не молвил ни слова. Неожиданно услышал:
– А-а, ерунда это всё, бабские это затеи, сантименты… Жди её, когда она упадёт?! Мы без этих звёзд сами будем решать свою судьбу. Правильно, Санёк? – с едва скрываемой издёвкой в свой адрес проговорил Иван. Недолго торжествовали в его душе лирические мотивы. Сан Саныч от неожиданности подскочил:
– Ты это о чём, Кукша? Не пугай меня… Что, так и не упала ни одна? Я, кстати, тоже ждал.
– Я вот что хочу сказать тебе, Санёк, – спокойно уже проговорил Иван. – Давно я так не задумывался, а уж говорить на эту тему вообще случая не было. Правда, бывает иногда, посещают меня лирические нотки. Вот и сейчас смотрю на звёзды, и что-то в душе заволновалось, чего-то наружу рвётся, чего-то возвышенное сказать хочется. Только ни к чему здесь такие слова. Мы выбрали то, что нам нравится, вот и всё. Почему я должен идти на завод, если я не хочу? Почему я должен делать то, чего мне не хочется? Вот, зачем и ты, и я приехали сюда? А затем, что нам так захотелось, нам здесь нравится. Вот кто-то на БАМ за романтикой рвётся, а мы с тобой своей романтики хотим. Днём мы с тобой на моторке шли по Гремучей реке, – какая красота, какие просторы! Вот за этим мы с тобой, Санёк, приехали, нам такая жизнь уже нравится. А раз так, значит, всё остальное тоже будет по нраву! …Ух-х, как я сказал, ты слышал? Как я ещё умею, оказывается? Записать бы, ха-ха-ха, – засмеялся Иван, удивлённый своему душевному порыву. Сан Саныч был тоже немало удивлён: ещё мало он познал всего, что таится и в уме, и в душе у этого человека. Ай да Кукша! И тоже засмеялся.
Ночь будто испугалась их разудалого смеха, дрогнула и стала отступать. Лёгкий восточный ветерок играючи погнал по реке небольшую волну, разгоняя заодно и туманную мглу – огромные белесые клочья воздушной ваты медленно проплывали над водой. С востока, почти с верховьев реки, из-за дальних увалов и гребней проявилась полоска света, на глазах разрастаясь и разгораясь, меняясь в радужных красках. Через мгновенье этот свет уже коснулся и водной глади реки, обозначив на ней привязанную лодку и очертания противоположного берега.
– Да, Кукша, не каждый захочет променять тёплую уютную постель на ночлег у костра, лёжа на камнях, укрывшись телогрейкой. Не каждому дано и понять нас… А ведь, таких, ненормальных на свете немало. Но опять же многие так и называют нас ненормальными или чокнутыми. Мама иногда так и говорит: чокнутые вы там с Ванькой своим, – всё ещё не успокаивался Сан Саныч. Устраиваясь на своей лежанке, Иван, развернулся спиной к костру и сказал зевая:
– Будешь писать маме, передавай ей привет от ненормального. Ну, теперь всё, Санёк, давай хоть немного поспим, а то днём будем как варёные рябчики… Как солнце обогреет нас хорошенько, так и проснёмся. Нам надо ещё до зимовья сходить. Я должен тебе много чего показать. Надо будет подумать, с чего начнём здесь свой первый трудовой сезон. Сколько ещё их у нас будет впереди. А, Санёк? Всё, спим, гусь, ты мой лапчатый…
Иван повозился ещё, удобнее устраиваясь, затем притих. Из спальника Сан Саныча тоже не доносилось ни звука. Похоже, наши полуночники, в самом деле, утомились, сон их всё-таки одолел. Но не было слышно и здорового молодецкого похрапывания или даже лёгкого посапывания, как это бывает с уставшими людьми, заснувшими глубоким сном. Где-то на опушке застрекотала кедровка, будя всю лесную живность. Засуетились в чаще дрозды, перекликаясь друг с другом. Нежно затенькали синички, небольшой стайкой перепархивая с дерева на дерево. С другого берега послышался тонкий пересвист рябчика, ему вторил другой. Утро входило в свои права.
Иван так и не заснул. Сна просто не было и в помине. Но было ощущение, что он будто только проснулся, чувствовал себя абсолютно бодрым. Может быть, он всё-таки вздремнул сколько-то? Взглянул на небо, затем на часы – нет, всего лишь полчаса прошло, как они угомонились. Ивану не давал покою один вопрос, который они с другом так и не затронули за всю ночь. Всё не получалось спросить Сан Саныча о его жене Вале, как она отнеслась к такому повороту событий, готова ли она переехать в этот посёлок. Почему-то его волновали эти вопросы. Конечно, переживал за друга, оттого и любопытствовал. Но за этим скрывался его тайный особый интерес. Ему очень хотелось узнать, что Валя думает о будущей жизни в таёжной глубинке. Неспроста его волновало это, ведь Валя – это та самая подружка Галины, в комнате которых они пропадали с Санькой во время учёбы после службы в армии. Он не мог забыть ту Галю, часто думал о ней. Ему так хотелось, чтобы Санька рассказал какие-то новости, ведь через свою Валю он, наверное, знает больше. Но этого не случилось. Санёк, наверное, был под впечатлением от сегодняшней ночи, от разговоров, что даже упустил из внимания эту деликатную тему и про жену не вспомнил. А Иван завести этот разговор не смог, что-то его останавливало. А теперь стало просто невмоготу сказать об этом. Всё узнать и поделиться с другом, надеясь, что это поможет ему решить что-то очень важное для себя, таившееся в его сердце, не дававшее покоя. Разве после этого заснёшь?!
Иван приподнялся на локтях и посмотрел на Сан Саныча. Тот с головой закрылся в спальнике, лишь маленькую щёлочку для дыхания оставил. «Будить или нет? Жалко парня и неудобно как-то лезть сейчас со своими душевными проблемами, – подумал Иван. – Вот, всю ночь о чём-то трепались, а об этом так и не заговорил. А теперь не терпится… А будет ли другая возможность? Сейчас сама природа располагает,.. да и не уснуть мне уже», – с досадой подумал Иван и уронил голову на телогрейку.
– Чего кряхтишь и возишься? Выспался уже что ли? – неожиданно пробубнил Сан Саныч. – Не волнуйся, я тоже не сплю. Слышу, уже птицы верещат… кукши, ронжи и дрозды-бездельники проснулись, какой уж тут сон. Ладно, потом выспимся. Может, чайку спроворим? – скороговоркой прогоготал Казарин и стал вытряхиваться из спальника.
– Чайку – это хорошо, это мы сейчас, мигом! – с радостью подхватился Иван. Он уже обдумывал, как начнёт разговор, спускаясь к реке с котелком. Сан Саныч взбадривал костёр, подбросив сухих сучьев.
– Саня, извини, я тебя не спрашивал о Вале, как она? Что думает о твоём переезде сюда, а ты когда её сюда перевезёшь? Она-то хоть не против? – Иван закидал друга своими вопросами, как только котелок уместился на жердине над костром.
– А что, Валя? Она ждёт ответа, как я тут устроился… Вернёмся, ещё напишу про нашу поездку, про наши разговоры. Она довольна, что мы с тобой будем вместе работать. Но, если честно, я пока её не спрашивал, готова она сюда ехать или нет. Перед тем, как к тебе лететь, писал ей с твоих слов про здешнюю звероферму. Думаю, что это её заманит. Надо ещё немного обтесаться в этом месте, получше всё узнать. Куда её сейчас везти, где жить-то с ней будем?
– А я ведь не ради праздных слов интересуюсь. И звезду вот не зря ждал, желание хотел загадать, давно подготовил. А знаешь, какое желание у меня? Не догадаешься…
– Ну, не томи. Я хоть и не очень любопытный, но ты заинтриговал.
– Эх, гусь ты мой лапчатый… Звезды я падающей не дождался, это верно, но если жить только по звёздам и ждать чуда, ничего не дождёшься. Не в сказке… – Иван заметил нетерпеливый и недоумевающий взгляд Сан Саныча, явно пока ничего не понимающего. – …Санёк, а ты Галю не забыл, часто со своей Валей вспоминаете её? Я уверен, что они переписываются друг с другом. Да, ты правильно догадываешься, я думаю о Гале. И чувствую, что она мне нужна… Не могу без неё. Хочу поехать к ней. Я до сих пор не могу забыть тот день, когда мы расставались, как я провожал её на электричку. Вот поэтому и интересовался у тебя про твою Валю, они же подруги. Вместе им будет веселее, и всем нам будет хорошо. Но она об этом ничего не знает. Я всё никак написать ей не могу. Вот, такие, брат, дела.
Иван замолчал. Его слегка пробивала дрожь от волнения. Такое состояние испытывал в себе впервые. Странно, но он не почувствовал успокоения от того, что, наконец, выговорился, дрожь не успокаивалась. Лицо его при свете костра выглядело необычайно торжественно, словно только что произнёс клятву на верность. Он смотрел на костёр, но видел сквозь колышущиеся языки пламени лицо Галины, будто это не пламя костра порхало в воздухе, а она в красном ситцевом платье кружилась в вальсе перед ним…
– Кукша!.. Эй, Ваня, ты, похоже, в облака улетел… Приземляйся, давай. Чай вскипел. – Вывел его из мечтательных грёз голос Сан Саныча. Помолчав, он снова промолвил, как ни в чём не бывало, уже без иронии. – Да, конечно, переписываются они. Пишет, что устроилась она на местную звероферму. Вроде, всё у неё нормально. Подробностей не знаю, Валя меня не шибко посвящает в свою переписку. Так, привет постоянно передаёт. Так что особо поделиться-то с тобой и нечем, извини. …Ты правильно решил, ехать тебе к ней надо. Вот и всё.
Иван с благодарностью взглянул в глаза другу.
Всё-таки та искорка, которая возникла между ним и Галиной при их расставании, не угасла в душе. Теперь в нём, кроме всепоглощающей страсти к охоте, разгоралась ещё большая страсть, неуёмная и жизнеутверждающая – любовь к женщине. Он с ещё большим нетерпением стал искать возможность увидеть Галину, объясниться с ней, завоевать её сердце и предложить ей своё…
Позавтракали, напились крепкого чая, чтоб взбодриться после бессонной ночи, и стали собираться в путь, к зимовью.
Это был их первый совместный поход, который положил начало трудовой деятельности в качестве охотников-промысловиков в совершенно новых незнакомых условиях, неизведанной тайге, в непривычном и непредсказуемом своей суровостью климате. Им предстояло стать настоящими охотниками, понимающими местную тайгу и всех её обитателей, научиться легко и удачно добывать охотничьи трофеи, при этом самим оставаться здоровыми и невредимыми. Познакомиться и сблизиться с местными жителями, привыкнуть к существующим традициям и неписаным правилам, бытующим в здешних краях. Пока они были ещё чужие, но уже не одиноки – их было двое. А двое друзей в чужих краях – уже сила. А там, глядишь, домами и семьями обзаведутся, детишки пойдут. Жизнь наладится, и будут они жить так, как и подобает нормальным людям. И в скором времени чужие края станут родными…
Часть вторая
1
В упоении от своего первого сезона, в восторге от первых трофеев и в суете повседневных забот ни Кукшин, ни Казарин и не заметили, как пролетел почти год – так случается часто с молодыми и очень увлечёнными людьми. Иван в поте лица работал на два фронта: успевал обеспечить приёмку охотничьей продукции от добытчиков и часто сам убегал в тайгу и два-три дня уделял промыслу соболя.
А по весне в посёлке узнали, что недавний приезжий Казарин стал семейным человеком. Недоумевали многие: вроде бы холостым приехал в посёлок, никуда далеко не выезжал и, вдруг, женатым оказался. На самом же деле, всё было очень просто – он женился уже почти два года тому назад, ещё до переезда в посёлок Дужный, а по весне лишь слухи об этом просочились. Иван, конечно, был в курсе семейного положения Сан Саныча, но не считал нужным трезвонить об этом по посёлку, да и разговоров будто бы не заходило об этом. Но не зря говорят: шила в мешке не утаишь. Просто не мог Казарин сразу привезти с собой молодую жену на необжитое место, в неизвестность – она проживала пока у себя на родине у родителей в ожидании вызова. И в конторе промхоза знали об этом. Вот это обстоятельство и помогло случиться ещё не менее значимому событию: Сан Саныч получил квартиру – директор сдержал-таки своё слово. Не новая, конечно, была квартира, – за полтора десятка лет своего существования пережившая уже не одних хозяев, но ещё довольно добротная.
Немного «отдышавшись» и успокоившись от промысловых дел, он занялся обустройством своего быта: мыл полы в своём новом жилище и убирал мусор во дворе, накопившийся при прежних хозяевах, ремонтировал забор и латал крышу на сарае – работы приспело много. И старался он не только ради себя, он готовил гнёздышко к приезду своей жены Вали, той самой Вали – его однокурсницы. Казарин умчался за ней, как только привёл квартиру в надлежащий вид. До сего времени ютились они вдвоём с Иваном в его каморке.
Славился посёлок гостеприимством: всем, кто приезжал сюда на работу, коопзверопромхоз выделял квартиру. Почти половина посёлка состояла из ведомственных двухквартирных домов. Люди приезжали, работали какое-то время и вновь покидали эти квартиры. Постоянных жителей было примерно две трети, а остальные и были временные, поэтому квартиры переходили от одних хозяев к другим с периодичностью в десять, пятнадцать лет. Но, несмотря на такую текучесть населения, люди в нём жили добрые и порядочные. Любителей поскандалить почти и не было. Жили мирно и дружно. Кстати, молва о посёлке под названием Дужный, как о дружном поселении, разнеслась по округе: и вверх, и вниз по течению Гремучей на все триста километров, а может, и больше. Так говорили старожилы новосельцам, невзначай успокаивая их, но при этом, не хвастаясь. Что есть, того не отнимешь. Может быть, это было связано с тем, что основной костяк населения всё же составляли семьи таких же романтиков, приехавших с разных концов страны, но уже считавшихся оседлыми и опытными охотниками-промысловиками. Они сохраняли нажитые десятилетиями традиции, а где-то, может быть, и порождали новые. Впрочем, не исключено, что кто-то попал сюда просто в поисках удачи. Все здесь были не только охотники, но и рыбаки, и прочие добытчики в межсезонье. Некогда им было склочными мелочами заниматься – каждодневным трудом себе копеечку зарабатывали. Люди здесь жили очень даже сносно, если не зажиточно. Тайга щедро делилась своими богатствами – только не ленись. С давних пор знали промысловые люди: кто бездельем заражён, того зачастую от нечего делать начинает и зависть грызть, отсюда и интриги разные рождаются, которые раздор вносят между людьми. Поэтому оберегали, по возможности, своё жильё от такой напасти. Присматривались к приезжим, вынюхивали, кто чем дышит, у кого какие характеры и взгляды на жизнь.
А потом без помощи товарищеской и соседской не обойтись никак в глухом таёжном поселении. С давних пор считалось здесь, что сто пятьдесят вёрст не расстояние, поэтому неудивительным было в обиходе частые упоминания о других ближайших поселениях, расположенных выше или ниже по течению, как о соседних. И в самом деле, ближе жилья другого не было, кроме промысловых зимовий. Неспроста традиции здесь были на доброту и взаимопомощь нацелены, а разлад и склоки в посёлке не уважали. Приезжие, пусть и не сразу, но постепенно узнавали об этом и старались придерживаться заведённых порядков. А бывало, ещё что-то новое привносили в жизнь посёлка, чтобы веселее жилось.
Надо сказать, что случайные люди если и приживались тут, то ненадолго. Те, кому не по нутру были такие миротворческие устои, быстро покидали эти края. Чего не скажешь о людях, которым именно такой жизненный уклад и нужен. Может быть, Кукшин и Казарин к такому и стремились, интуитивно чувствовали, что здесь, в глухой тайге найдут они свой райский уголок; словно дикие звери, ловили они дуновение далёкого восточного ветерка, пропитанного запахом смолистой тайги и добрым человеческим духом, и тянулись к нему.
Расположен он был на невысоком отлогом берегу реки на просторной чистой излучине, одним краем ниспадая к реке, другим упираясь в кромку леса. Крайние дома находились не ближе трёхсот метров от уреза воды. А ближе к берегу, на небольшом взгорке разместились разные хозяйственные постройки: склады, дизельная электростанция, мастерские. На краю, что ближе к лесу уютно расположилась небольшая звероферма. Чуть поодаль по взгорку – дощатый коровник с небольшим загоном. К нему примыкала конюшня на десяток лошадей, также с огороженным выгулом. В центре посёлка выделялся своим величием местный клуб, с возвышавшимся на коньке красным флагом. Здесь же был размещён и центр местных органов власти – комната полномочного депутата райсовета.
История умалчивает, откуда пошло название этого посёлка, но напрашивается предположение, что от той самой традиции – дружно и в мире жить, – и пошло это название с давних пор, будто по созвучию двух слов – «дружный» и «дужный», с годами слегка изменившись в произношении, а затем и в написании. Ну, а кто-то из местных однажды убедительно заверял, что название это от большой дуги, которую образует русло реки в этом месте, где обосновался посёлок. В пользу третьей версии говорит одноимённое название небольшой речки, впадающей в Гремучую километрах в пяти выше по течению. Будто от неё пошло и название посёлка, потому что вся она такая извилистая, и русло её разделено на множество дуг и подков. Вот и гадай, чья версия правильнее…
Как только приехала к Сан Санычу жена, тут же он взялся за капитальное обустройство своего жилища. Домик был, правда и не первой свежести, но вполне ещё крепкий. Удобств городских, конечно, не было, но для отдалённой от цивилизации таёжной глубинки – этот дом являлся верхом благополучия. Первым делом молодая семья постаралась сделать ремонт внутри, чтобы семейное гнёздышко стало ещё уютнее. Неожиданно новоиспечённый семьянин открыл в себе хозяйскую жилку: ему захотелось развести хороший огород, благо, что земельный надел при доме был, пусть немного и запущенный. Начали они с женой мечтать о том, что будет у них и своя картошка, и зелень-петрушка, и свои огурцы-помидоры, только для этого надо теплицы построить. Простор, а воздух-то какой! А ещё река под боком. Сан Саныч с детства приучен был к рыбалке – на его родине недалеко красивая уральская река протекает, Чусовая называется, – там он и познал азы рыболовства. За год он ещё не успел разузнать все особенности здешних мест, особенно реку Гремучую, но уже начал приноравливаться к своей новой стихии. Любой выезд на реку не оставался без улова, чем радовал свою жену и сам тешился от удовольствия. Но так было, пока не замаячил в сентябре новый охотничье-промысловый сезон.
Сан Саныч между делом готовился и к нему. Вопрос с участком окончательно решился, теперь по договору был закреплён за ним. Тот самый участок, куда впервые они вместе с Иваном Кукшиным добрались на лодке год назад, где он провёл свой первый сезон, неплохо отохотившись для первого раза. Достаточно изучил угодья. Ещё не обременённый семьёй, он почти весь сезон безвылазно прожил в зимовье, выбравшись всего два раза в посёлок за продуктами.
Иван изредка к нему наведывался, преодолевая около тридцати километров нелёгкого пути сначала по чернотропу, до глубокого снега, – на лошадке, а потом на лыжах. Всё-таки исхитрился и приспособился, успевая совмещать основную работу с промыслом соболя. Для него это был праздник души. Он успел наживить около тридцати штук капканов. За пару дней умудрялся, не щадя своих сил, оббежать соболиные путики, радуясь малейшей удаче. Даже тому радовался, когда соболь пусть и не попадал в капкан, но всё же подходил, пытался сорвать приманку. Благодаря таким неудачам накапливался опыт. И не было границ радости, когда была удача. Надо было видеть, с каким воодушевлением он врывался в зимовьё вместе с морозным воздухом и с порога кричал: «Санёк, смотри, какого красавца я выловил», потрясая в руках своим трофеем. Сан Саныч поджидал друга к выходным и всегда рад был приходу друга. У него даже вошло в привычку ждать его. А Иван без сюрприза не приходил, и у них в этот день случался настоящий праздник с шикарно накрытым по таёжным меркам вечерним столом.
Речка Кокчан, которая протекала почти по центру вверенного ему промыслового участка, брала исток от родников, журчащих в отрогах невысокого каменистого плато, раскинувшегося в каких-то сорока километрах к югу от устья. За многие века, что эта речушка жила и крепла, насыщаясь по пути от многочисленных тонких водных артерий, упорно подтачивала своими водами скалистые преграды и, наконец, почувствовав силу, вырвалась к реке Гремучей, влилась в неё узким, но мощным бурным потоком. Иногда местные называли Кокчаном высокую скалу, что возле самого устья речки, хотя уже трудно было назвать её скалой. Больше она походила на гигантский раздробленный камень, уступами ниспадавший в тёмные воды главной реки и выделявшийся своим величием в общем ансамбле скал всего побережья. В представлении Сан Саныча это было обобщенное название целого большого урочища с речкой. Подозревал он, что такое название на эвенкийском языке означало подобие подковы, которую образовывала большая излучина реки, огибавшей скалы, – особенно хорошо это видно на карте. Хотя многие реки в Сибири этим были схожи друг с другом. И не только в Сибири, – помнил Сан Саныч, что и на его родине река Чусовая славится такими же зигзагами. Там, где на пути рек вставали каменные отроги и непроходимые скалы, вода находила обходы, упорно стремясь к дальним морям и океанам, создавая такие невероятные виражи. Он не заморачивался по этому поводу – ему нравилось название, нравилось это местечко. Примерно, в двух километрах от устья – его первое зимовьё. Он так же, как и его друг, Кукша, первым делом постарался решить транспортную проблему: обзавёлся старенькой «Казанкой» с мотором «Ветерок» – промхоз авансом ссудил некоторую сумму.
И вот теперь уже в третий раз в этом сезоне шёл вниз по реке до Кокчана. Сидел на корме, управляя мотором, зорко всматривался вперёд. Наверное, как и у любого другого одухотворённого человека, довольного своей судьбой, энтузиазм рвался наружу. Ему не терпелось скорее добраться до места и приступить к делам насущным. Мысли о своём настоящем и будущем переполняли голову: «Вот, и узнал немного русло, хотя ещё по малой воде проблем будет немало, пока не изучу все мели и перекаты с порогами; пока не добьюсь, в какое время и при какой воде можно будет без опаски двигаться по этой норовистой сибирской реке. Ох, как много надо ещё решить проблем… Пока всё подготовишь – голова кругом… Да, тяжело начинать на новом месте по неопытности… Для местных мы ещё чужие люди, они ещё приглядываются к нам, не спешат раскрывать перед нами свою душу и многие хитрости, а без этих знаний трудно пока выживать в этих нелёгких условиях. Нужно вот ещё заготовить несколько бочек бензина впрок, а здесь это не так просто. А не запасёшься, значит, не на чем будет забрасывать необходимое имущество в зимовьё, причём, надо успеть это сделать до ледостава на реке. А успею ли я построить ещё одно зимовьё до наступления зимы? Правда, ещё не ясно, как буду добираться зимой до участка. Охотникам тут выделяют лошадок вьючных для доставки грузов… Конечно, не мешало бы снегоход заиметь. Но пока всё туманно: нового однозначно не видать, а стареньких на примете пока нет. Кукша, вон, недавно приобрёл у Гоши подержанный «Буран», – денег тоже немало вбухал в него, но зато уже «на железном коне». Ничего, лиха беда начало. Обживёмся и мы, всё ещё впереди!..» – с оптимизмом думал он.
Эти проблемы не казались ему сложными и не пугали. Оптимизм, что называется, зашкаливал, ведь по-настоящему первый самостоятельный сезон был впереди, и ему не терпелось, чтобы он быстрее начался. Так уж устроена, видимо, увлечённая юношеская натура, полная энергии и охотничьей страсти. Даже то обстоятельство, что дома по нему будет скучать в одиночестве молодая жена, не могло оттеснить в сторону мысли о предстоящем сезоне и приглушить нетерпение добыть свои новые трофеи. Разве могло удержаться в голове что-то другое, не связанное с охотой, когда ради всего этого он преодолел столько препятствий и тысячи километров. Даже заветные мысли о домашнем огороде ушли на второй план. Всё в нём смешалось в преддверии сезона: юношеский максимализм, детская наивность, неудержимый азарт и уверенность в том, что всё будет хорошо. Немало успокаивало и то обстоятельство, что жена будет работать на звероферме.
«Удивительно, что со мной сейчас происходит? – вновь поймал себя на мысли о самом себе. – Года два назад я ещё не был таким и так не рвался в тайгу. Сам себе поверить не могу, что это со мной происходит. Вот, гоню сейчас по этой громогласной реке, любуюсь красотой, довольный и счастливый… Наверное, счастье аж наружу прёт, кто бы видел. Неужели, жизнь удалась!? Нет, рано ещё об этом думать, ещё обжиться надо, укорениться. Но мне здесь определённо нравится!.. А Валюха, ничего, тоже привыкнет к моим отлучкам. Да мне и самому надо к этому привыкнуть, поделить себя на две части: для дома и для тайги. Это сейчас я такой прыткий, когда только что из-под её крыла выпорхнул, посмотрим, как ты запоёшь через недельку-другую», – усмехнулся про себя Сан Саныч.
В носовой части лодки, на груде мешков пристроилась молодая рыжеватая остроухая лаечка, также внимательно устремившая взгляд куда-то вперёд. Иногда она оборачивалась на хозяина и, поймав его взгляд, вздрагивала хвостом, признательно прижимала ушки и тут же отворачивалась обратно, словно у неё была своя, штурманская, обязанность – следить, что творится по курсу. По ней можно было судить, что у неё жизнь тоже удалась.
В начале пути, пока ещё виден был посёлок, Гремучая казалась широкой и величавой, ширина её больше двухсот метров достигала. В ясную тихую погоду, если не было даже малейшего ветерка, водная гладь реки почти не колыхалась, и как зеркало чётко отражала всю небесную синеву со всеми её облаками. Глубина была ощутимой, сквозь прозрачную воду дно не просматривалось. По берегам иногда тёмной грядой прямо к воде подступали деревья, любуясь своим отражением. Иногда лес отступал прочь от реки на десятки метров, уступая место каменистым россыпям или травянистым луговинам, вытянувшимся вдоль берега яркими пёстрыми от разнотравья полосками. Но такая тишь да гладь продолжалась недолго. Река, вдруг, начинала волноваться, вспениваться мелкими барашками – появлялось быстрое течение и лодку начинало слегка потряхивать. И сразу обозначалось каменное дно реки, нет-нет, да мелькнёт под водой крупный беловатый валун, будто какой-то подводный сказочный монстр подкарауливал проплывавшие судёнышки.
Есть немало мест на реке, где характер её неуживчивый проявляется с ещё большим негодованием, когда на пути пороги и перекаты встречаются или берега сужаются, образуя подобие гигантской воронки. Тогда уж она становится опасной и коварной для неумелого путешественника. Затем, снова неожиданно и ненадолго река вырывается на простор, широко разливается плёсами, становится спокойной и ласковой, поблёскивая многочисленными солнечными зайчиками, как сейчас. Такой уж переменчивый характер у этой реки, да, собственно, как и у многих таёжных рек. Вот так и приходится весь свой путь речной идти и приспосабливаться к её выкрутасам. Сан Саныч ещё с первой своей поездки обратил внимание, что километрах в двадцати от посёлка она вновь становится неуравновешенной, начинает показывать свой норов. А всё из-за того, что от обоих берегов поочерёдно к середине русла, отходят небольшие выступы с отмелями или обрывами, а кое-где даже скалистыми утёсами, из-за чего и течение начинает метаться то к одному берегу, то к другому, обрастая бурунами и воронками. И ему приходилось петлять по руслу, как удирающему зайцу, чтобы уберечь мотор от каменистого дна. Чуть позднее он узнал, что с этого места начинаются Кривули – такое меткое название местный народ дал этим речным извилинам, которые тянутся ещё ниже Кокчана. Потом река делает крутой вираж вправо по течению, огибая скалы. В самом этом изгибе Гремучей и впадает в неё речушка Кокчан. Сан Саныч представил, как бы это выглядело с высоты птичьего полёта? И его фантазия выдала образ какого-то огромного чудовища: эти выступы напоминали зубы в его пасти, а изгиб реки похож на длинный язык чудовища – и вся эта гигантская пасть будто проглатывает тонкую струйку речки Кокчан. А дальше тянулось толстое извилистое туловище фантастического гиганта, извивавшегося вокруг скал. Говорили, что весной в большую воду река на этом промежутке свирепая и бурная, набрасывается своими волнами на камни и скалы, тщетно пытается их оттеснить, но всё же понемногу отвоёвывая у них пространство, стирая каждый год с камня незаметные миллиметры. Мало, кто отважится пойти в это время по реке на лодке, разве что самый отчаянный.
Сейчас Сан Саныч уверенно и спокойно вёл свою лодку, внимательно разглядывая скалистые берега. Кажется, он уже нашёл общий язык с этой стихией. За поворотом уже был виден Кокчан.
2
Ивана тоже в это время дома застать было невозможно. Может быть, в тот же час он пробирался по реке Дужной на свой новый участок. Наконец-то, были позади все преграды, мешавшие ему в полной мере заняться тем делом, к которому столько лет стремился, как он мечтал. Нынешней весной окончательно отделался он от рутинной работы заготовителя и с явным неудовольствием начальства коопзверопромхоза был всё же переведён в разнорабочие. Не поддался директорским уговорам, одолел-таки своим упрямством властное желание руководителей иметь на участке квалифицированного специалиста, гнул свою линию – хочу в промысловики, и всё тут! – и директор махнул на него рукой. Он с трудом понимал этого упрямого несговорчивого парня: человек, окончивший техникум с красным дипломом, ткнув пальцем в карту и преодолев такое расстояние, приехал сюда, к чёрту на кулички, чтобы стать добытчиком в статусе разнорабочего, – где логика? Но в то же время проникся к нему уважением, думал о нём, подписывая приказ о переводе: «…Вроде бы не рвач, похоже, и не карьерист. Да, и в честности и порядочности не откажешь – таких поискать ещё надо. Если честно, посёлку повезло, что приехали такие парни, без гонора и великих запросов. Приземлились на этом клочке необъятной тайги, можно сказать, почти голыми и неоперёнными и взялись устраивать свою жизнь. И подавай им работу только в тайге – добытчиками. Да, уже немало лет тут работаю, разных людей повидал, но эти меня удивили. Ради чего они учились в техникуме? Охотниками можно было и без этого стать. Ну что же, пусть работают. Наоборот, помочь им надо на первых порах, на пользу пойдёт!».
Конечно, за те два года, пока Кукшин осваивался в Дужном, директор кое-что узнал о нём. Не много они общались лично, но успел заметить в этом парне организаторские способности, умение легко находить общий язык с людьми и располагать их к себе. У него в голове уже зародилась идея назначить молодого специалиста начальником участка, надеясь всё же уговорить вольнолюбивого парня. Каждый начальник мечтает о том, чтобы его кадры были надёжной опорой ему в любом деле и на любом участке, – если у них дела идут успешно, значит, и он в почёте.
Но так мыслил директор, а у Ивана был свой взгляд на эти обстоятельства. Как ни странно, карьера его вообще не интересовала. Хоть он и брался за любое дело с интересом и ответственностью, привлекая к этому некоторые творческие способности и любознательность, и всегда увлекался, но всё же боялся увязнуть в повседневной бюрократической толкотне. Не для такой работы он приехал сюда – душа рвалась на простор, а в кабинетах он задыхался. Наверное, только так можно было объяснить его категорический отказ от других разных предложений.
Новый участок достался не очень близко от посёлка. Да, что там расстояние, не в нём дело – некоторая проблема возникала из-за труднодоступности. Но Иван спокойно принял этот факт, рассудив, что сие неудобство будет иметь место только в первое время. А дальше, когда объездит он маршрут от посёлка до зимовья и обратно по несколько раз – всё войдёт в привычку, и проблема сама собой рассосётся. Не зря говорят, время – лучший лекарь, избавляет, в том числе и от проблем.
Вся трудность состояла в том, что добираться до участка приходилось поэтапно. Сначала на моторе нужно подниматься вверх по Гремучей около пяти километров. Начало само по себе не такое уж и сложное было. Река в летнюю пору и к осени спокойная и размеренная. Гружёная лодка медленно, но уверенно ползёт вверх по течению. Мотор, конечно, вынослив, но всё-таки с надсадой ревёт и бензину «жуёт» чрезмерно. Потом сворачиваешь на приток Гремучей – реке Дужной и врезаешься в её бурный поток, потому что в самом устье образуется порог из-за каменистого дна. Здесь речка кажется большой, могучей, раздаётся в русле перед впадением, разливается вширь, но дном мелковатая становится. Тут уж рулевому большая сноровка требуется, да и винтов иметь несколько про запас на крайний случай. Но чем выше поднимаешься, река спокойнее становится, уравновешеннее. Но это было обманчивое впечатление. Казалось, не так уж и трудно километров двадцать с небольшим вверх подняться, расстояние будто бы небольшое, но путь этот выматывал все силы. Река не широкая и глубина ровно настолько, насколько хватало пройти на моторе по руслу. Правда, частенько случалось, что прихватывал всё-таки винтом какой-нибудь камушек или затаившуюся на дне коряжину, то вырвет и намотает на винт пучок водорослей со дна, из-за чего приходилось глушить мотор и освобождать винт. А уж как эта речушка петляет на всём своём протяжении: как длиннющая юркая змея извивается она через каждые двести или триста метров – успевай только руль ворочать вправо-влево и головой вертеть, чтобы на сук какой-нибудь не напороться. С каждым километром она становится всё извилистей и хитрей. Есть места, где водой почти полчаса пробираешься, а если по суше пройти напрямик от зигзага к зигзагу, то всего метров триста-четыреста получалось, десять минут ходьбы. А ещё мели, перекаты, упавшие деревья – из-за этого часто приходится пропиливаться или тащить нагруженную лодку на себе вверх по течению. Пока доберёшься до пункта назначения, руки руля не чувствуют, а голова начинает кружиться.
Ещё не раз предстояло к началу сезона пройти этот путь. Слава Богу, что хоть лодкой разжился, на ней милое дело стало добираться. В прошлом сезоне лошадкой пользовался – долго, однако, на ней получалось. Не сразу привык. Бывало, соскочишь на землю, ноги не слушаются. Потихоньку втянулся, но поохотиться вдоволь не удалось – должность заготовителя не позволяла. А теперь он был свободен, мечта его становилась реальностью – что ещё надо?
Но не давала покою молодцу сердечная боль – сидела в нём заноза. Вытащить эту занозу могла только одна девушка, но была она пока очень далеко, и вполне может быть даже и не предполагала о его сердечных муках. Даже сейчас, в сильнейшем напряжении, весь в поту, лавируя лодкой по руслу, когда, казалось бы, всё внимание сосредоточено только на одном – не опрокинуться или не застрять, – Иван поймал себя на мысли, что думает о ней. Вовремя спохватился и решил дать себе небольшой отдых, спокойно подумать, и направил лодку к берегу. Причалив, развёл костерок, приготовил котелок с водой – чаю напиться. И дал волю своим мыслям. Пока он пребывал в сомнениях: поедет ли она в глухую таёжную даль вместе с ним, отзовётся ли её сердце на его порыв? И в то же время волновался, как бы не опоздать с предложением: он здесь, она там, за горизонтом. Но и дела не отпускали в этот год, увяз он по уши в подготовке к сезону, как-никак, всё же решающий момент в его жизни настал – впервые он идёт на промысел как настоящий полноценный охотник!
Мысли о том, чтобы бросить сейчас все свои заботы и рвануть на большую землю к ней и привести её сюда, чтобы не мучила его больше эта неопределённость, старался отгонять прочь, но получалось ненадолго. С каждым днём желание увидеть её и решиться, наконец, сделать ей предложение, росло всё сильнее. Сейчас, глядя на огонь костра и не переставая думать о ней, он понял, что не сможет дальше жить без неё и твёрдо решил: как только закончится сезон, тут же соберётся и поедет к ней. После этого сразу как-то легче стало на душе, и сердечное недомогание слегка улеглось. Борьба, происходившая внутри его до сего момента, прекратилась, как по команде. Чай ему показался вкусным, как никогда. Почувствовал лёгкий прилив вдохновения и неожиданно в уме стал складываться сам собой наивный и неуклюжий стишок. Иван сосредоточился, стал мысленно отшлифовывать слова, но поддавалось трудно.
«Эх, блокнотик бы и ручку сейчас сюда. Записать, а так они у меня куда-то убегают, новые лезут в голову, полный сумбур. Всё, с этого дня беру с собой тетрадь или блокнот и буду записывать!» – Подумал он и сию минуту у него родилась грандиозная идея: вести записи о том, что видел, о разных случаях, да обо всём, что интересно. На какое-то время он успокоился и, погружённый в свои заботы, даже забылся в лёгкой дремоте. Даже сон ему короткий приснился – кто-то, будто, спрашивал его во сне: «…будешь ли ты таким же настырным и целеустремлённым в делах своих сердечных, как в достижении своей заветной мечты? Сумеешь ли преодолеть невидимые преграды на пути к личному счастью?». Очнулся, словно, кто-то его подтолкнул, и стал озираться. «Тьфу ты, напасть. Надо же, в самом деле, показалось, что кто-то со мной разговаривает. Так можно и до сумасшествия дойти. Всё, надо дальше двигать, нельзя расслабляться. Решено ведь уже, потерпи до лета», – мысленно пристыдил себя охотник, собираясь в дальнейший путь.
…Ещё около часа он пробирался по реке к себе в угодья. Где-то по берегу мчались две его молодые собачки, купленные щенками у местных охотников. Иногда они бежали параллельно его движению, строго следя за ним. Иногда, сообразив, что река делает изгиб и бежать за хозяином по кругу себе дороже, бросались в речку и форсировали её вплавь, намного опережая его. Такая тренировка только на пользу им, думал Иван. Ему предстояло в ближайшем будущем натаскать их по крупному зверю и по пушному, по птице; разобраться в них, кто на что способен и какие у них пристрастия к тому или иному виду. Для промыслового охотника хорошие рабочие собаки – больше половины успеха в охоте. Впереди его ждала длительная и кропотливая работа по отбору и селекции своих собак, чтобы были свои производители, чтобы не попадать каждый раз впросак перед началом следующего сезона из-за отсутствия рабочих лаек, если прежние не оправдали надежд. Тогда не будет зависимости от других охотников.
«Да, с того времени, когда человек впервые приручил волка и сделал из него собаку, найдя в ней незаменимого помощника, они стали одним целым неразрывным организмом, – размышлял на ходу Иван, завидев мелькавших среди деревьев собак. – Они не могут без человека жить. Может быть, срабатывает условный рефлекс, что хозяин их обязательно накормит, а вполне можно допустить и то, что связь эта на более высоком интеллектуальном уровне, можно же такое допустить? Почему у собак такая любовь к хозяину? Даже, пожалуй, посильнее будет, чем взаимная. Наверное, каждый охотник знает, почему больше всего собаки ждут его скорейшего появления, когда упорно держат зверя. С приходом хозяина, от его удачного финального выстрела закончится долгая изматывающая гонка. Древний мощный инстинкт добычи пищи ради своего выживания перерос со временем в приобретённый рефлекс – искать и удерживать потенциальную жертву для своего хозяина. Добытый трофей, каким бы он ни был, они считают и своей добычей. Вот, когда они больше всего рады его приходу, вот, когда с его появлением в них просыпается удвоенная сила и страсть. И неважно, что взамен от хозяина они слышат, порой, только доброе слово похвалы. Им уже этого достаточно. Придёт время и сытному ужину, как вознаграждению…»
И откуда у молодого начинающего охотника возникла, вдруг, такая уверенность в подобных суждениях, трудно сказать. Возможно, навели на такие мысли рассказы бывалых местных охотников, с кем удалось сблизиться?
Наконец, позади первый этап долгого пути к зимовью. После напряжённого двадцатикилометрового вихляния по извилистой реке он добирался до промежуточного финиша. Это была добротная заимка, расположенная недалеко от берега речки. Для него она выполняла функцию перевалочной базы. Собственно, привычнее для здешних мест называть это зимовьём, а не заимкой. Оно принадлежало местному охотнику, тоже из посёлка Дужный. Крепкий, довольно обширный дом, баня и два лабаза, чуть поодаль ещё какой-то пристрой – вот и выглядело, довольно внушительно, как заимка. Сам хозяин подстать своей заимке выглядел тоже внушительно: рослый и широк в плечах. Широкая окладистая борода очень была ему кстати, она усиливала это первое впечатление о нём. Спокойный внимательный взгляд из-под густых бровей также внушал доверие. В степенных неторопливых движениях чувствовалась особенная основательность, присущая бывалым таёжникам, которые с годами приучили себя не суетиться и не транжирить свои силы попусту. Этого охотника все местные в обиходе Карелом кликали, имя-фамилию редко кто вспоминал. Обосновался уже давно, наверное, лет десять как. Тоже из приезжих, кажется, из Карелии, потому и прозвали так. Вот уж загадочная романтическая русская душа – тоже зачем-то толкнула его в сибирскую тайгу из карельских лесов, по большому счёту, мало уступающих по красоте и величию сибирским. Может быть, поманило его сюда обилие и разнообразие дичи, более богатое, чем там? Ивану не терпелось вытянуть эту тайну из уст Карела, но пока подходящего момента не случалось, потому как считал, что вопрос этот всё же был из разряда очень личных, и лезть в душу к человеку с наскоку пока стеснялся. Так что, не только они с Санькой такие непутёвые оказались здесь. А ещё сосед его – Петрович, морячок в прошлом, – тот ещё чудак, прямо как в поговорке: с корабля на бал… Вот ведь как в жизни бывает…
Очень кстати оказалась на пути заимка, есть, где отдохнуть, соскладировать часть груза. Когда удавалось застать Карела в зимовье, то встреча была весёлой и полезной: Иван не упускал случая позаимствовать опыта у бывалого таёжника, расспрашивая обо всём, что могло его интересовать (что касалось промысла). А интересовало его многое. Хотя, иногда и он удивлял собеседника своими познаниями из жизни диких животных или в искусстве промысла, в большей степени теоретическими, почерпнутыми из охотничьих журналов и книг. В общем, оба были довольны, когда пути их пересекались здесь, где можно за рюмкой чая узнать многого друг от друга. Четвёртый раз он проходит уже по этому пути и почти всегда заставал Карела здесь, который тоже дома не сидел, а готовился также к предстоящему сезону. Вот и сейчас он был здесь – хозяйские собаки издалека, заслышав шум мотора, встречали громким лаем гостей, первым делом обнюхавшись с прибежавшими собаками.
Отдохнув у него ночку, дальше наутро пешим порядком, навьючившись кладью, начинал второй этап своего путешествия. Преодолевал за день вёрст десять с гаком и добредал к вечеру без рук, без ног до своей старенькой хибары. Для более или менее безбедной жизни в зимовье в промысел ещё не раз нужда заставит смотаться туда-сюда. Да и между делом очередным рейсом на лодке из посёлка обязательно чего-нибудь ещё притащит. С первого захода всего не ухватишь, всего не предусмотришь. Кстати, Карел как-то говорил, что по прямой – от посёлка до его зимовья – всего ничего, каких-то двадцать километров. Но этот прямой путь они будут торить уже зимой на снегоходе. И остальные припасы Иван развезёт уже позже, когда снежок выпадет, чтобы можно было воспользоваться снегоходом. Летом он уговорил бывалого местного охотника дядю Гошу продать свой старенький «Буран». Почти месяц с ним провозился, доставал запчасти, ремонтировал. И вот тот стоит уже готовенький, ждёт своего часа.
Дядя Гоша, как звали старого промысловика, прожил всю жизнь в этом посёлке. Когда Великая Отечественная война шла к победному завершению, ему восемнадцать стукнуло, ждал повестки. Но судьба смилостивилась над ним, уготовила ему пусть не такую опасную, но и нелёгкую долю: выписали ему бронь, оставив в тылу добывать мягкое золото и мясо для фронта, поскольку к своему совершеннолетию парень прославился в округе уже как опытный и удачливый охотник. Вот, с тех пор он не бросал своё дело. Сейчас ему за шестьдесят перевалило, но от промысловой охоты отрекаться даже не думает. Только со снегоходом тяжеловато стало обращаться, ломается тот часто. Решил он на лошадку перелезть. На ней и добирается в свою вотчину. И охотиться приспособился, как сам в шутку говорил, – не слезая с лошадки. Спокойно, не напрягаясь, и без суеты ладит он своё дело, не гонится за большим планом, но понемногу добывает постоянно. На жизнь хватает, и для души радость. Опять же привычка зовёт, не может ветеран дома без дела сидеть, ещё накануне сезона тоска по охоте уже покоя не давала.
Жили они вдвоём с женой. Сын давно уехал в большой город, появлялся в посёлке всего лишь пару раз за много лет и письмами не баловал. Не пошёл он по отцовским стопам, не заманила его таёжная жизнь. Но не это расстраивало старого охотника, пугала отстранённость сына от родительского дома, не давали покоя думки о том, что останутся они со старухой своей одинокими. Не интересовала сына их нелёгкая жизнь. И не потому ли дядя Гоша был так рад знакомству с приезжим парнем? Через те короткие и скупые на эмоции общения почувствовал он, что парень этот чем-то сына ему напоминает, захотелось поделиться с ним своим опытом. С момента их знакомства в душе у него постепенно стала таять возникшая, было, от душевных переживаний пустота, появилось чувство востребованности кому-то в этой жизни, реже стала посещать грусть, навеянная таким скудным общением с сыном.
Иван и дядя Гоша легко нашли общий язык. Молодого охотника тянуло к пожилому за опытом, за интересными рассказами о таёжной жизни, о разных случаях на охоте. А бывалый добытчик проникся к Кукшину, возможно, за его пока ещё не изжитую детскую непосредственность, откровение и притягательную открытую улыбку. А ещё за желание выслушать, подсказать с высоты своего образования о каких-то новшествах в охотничьем деле и предложить свою помощь. Пожалуй, вот такое обыкновенное, взаимное и бескорыстное участие в жизни друг друга и было главной притягательной силой. А много ли пожилому человеку надо – было бы внимание и доброе отношение. А если это ещё искренне исходит от души – считай, что в ответ на это ты нашёл мудрого друга-наставника. Вот и сошлись душою два человека.
Общаясь с Карелом и дядей Гошей, Иван всё больше накапливал недостающих знаний о местных условиях промысла. Посоветовали они в первую очередь обустройством территории заняться. Главной заботой теперь у него было отремонтировать старое зимовьё и построить ещё одно – хотя бы на первый случай небольшую полуземляночку. Угодья осваивать надо, а как же без других зимовий, их ещё не менее пяти нужно по разным углам настроить. Вот тогда будет удобно весь участок обрабатывать, путиками соболиными обустраивать, не волнуясь, что ночь застанет врасплох вдали от жилища. Хорошо, что хоть одно зимовьё есть, пусть и старенькое, но жить можно. Когда-то здесь промышлял один охотник, в простонародье называли его Майором. То ли отставной военный, то ли бывший милиционер… Давно он уже уехал из этих мест, зимовьё осталось, но в обиходе среди охотников для простоты урочище это Маёркой стали называть. Так и прижилось это название.
…Уже больше часа, как Иван покинул с утра пораньше заимку Карела, навьюченный своей нелёгкой поклажей, теперь вышагивал по тайге к Маёрке. Шагалось пока легко, усталости не чувствовалось, зато голова была загружена мыслями до предела. Ещё была не менее важная задача – угодья постараться в ближайшее время обойти, пока погода позволяет. Того времени, что он провёл на участке, было ещё крайне мало, чтобы более или менее познать эти места. Так сказать, в своём мозгу забить точки ориентиров. Картой его в промхозе обеспечили, но карта без знания местных ориентиров бесполезна. Нужно и речушки изучить, где какая течёт, какая в них рыбка водится. Хорошо ещё, что здесь геодезистами да геологами профиля проделаны, по ним можно будет ориентироваться и путики планировать. Всматриваясь в окружающий пейзаж, он старался не пропустить какую-нибудь приметную деталь, зафиксировать, отложить в памяти. Иногда делал затёски – за картой каждый раз в карман надоест лазить, да и лучшая карта – это всё-таки та, которая в мозгах запечатлена. На первых порах простительно, но на будущее уже самому будет стыдно за незнание местности, к тому же зачем заставлять себя блуждать лишний раз. Одновременно Иван успевал мысленно планировать свои ближайшие и первоочерёдные дела. Так шагалось легче, даже не замечал времени и пройденного расстояния. «Всё-таки, надо новое зимовьё ставить ближе. Куда годится такие вёрсты мерить с грузом? – подумал он, остановившись на чистом взгорке и обозрев окружающую местность. – Вон, пожалуй, и место есть подходящее. Надо разведать».
3
Незаметно приблизился новый 1985 год. Двое друзей, увлечённые чуть ли не до фанатизма своей новой работой, и в самом деле едва не пропустили этот праздник. За всё время с самого заезда Сан Саныч, пока река не подёрнулась льдом, раз пять выбирался в посёлок. В прошлую осень он не испытывал такой тяги к дому и долгое одиночество в зимовье его вовсе не угнетало. Но в этот сезон не мог продержаться и недели, чтобы не улучшить момент и не сгонять в Дужный, бензину не жалел. Причина была известна – там скучала и ждала его ненаглядная жёнушка Валя. Никакая страсть к охоте не могла перебить в молодом человеке страстную любовь к жене – охотничий азарт тут же тускнел даже при нечаянном вспоминании о ней и отпускал свою хватку. У Сан Саныча с этого момента уже в голове одна только мысль сверлила: домой, домой… В промежутках между поездками в посёлок, он вкалывал не жалея себя, чтобы промысел не пострадал.
Однако же, когда наступили первые холода, пришлось лодку вытащить на берег и укрыть до весны. Теперь он – до больших снегов – мог до посёлка добираться только пешком; потом на лыжах, а это достаточно долго и затруднительно – снегохода-то у него ещё не было. Понимая несуразность таких вылазок, Сан Саныч постарался умерить свою страсть и решил, что только к Новому году выберется из тайги. И настроившись на этот лад, с новой силой увлёкся промыслом. Труды его не прошли даром, он был удовлетворён своей добычей: до конца сезона ещё полтора месяца, а план уже на грани выполнения, после Нового года спокойно доберёт его. Настроение было прекрасное, вся его плоть и душа рвались домой. Казарин с трудом отгонял навязчивые предательские мысли о том, чтобы не сорваться раньше времени в посёлок. Где-то в глубине души сидела в нём затаённая мужская гордость, не позволявшая показать свою слабость, хотелось выглядеть в глазах односельчан уже степенным и важным таёжником. Но удержать себя не мог, чтобы не считать дни до выхода из тайги – он уже наметил эту дату, всё-таки уговорив свою гордость сократить ещё на пару дней свой промысел. Ему вспомнилось, что похожее состояние он пережил в самом конце своей армейской службы. Как и многие его сослуживцы, зачёркивал в сознании прошедшие дни и отсчитывал оставшиеся до дембеля. У него не было календаря – порой даже путался в днях недели и числах. Приходилось напрягать память, мысленно отсчитывать обратный ход недели от какого-нибудь памятного события, чтобы утвердиться в настоящем времени. В последней декаде Сан Саныч подобно Робинзону Крузо, даже стал отмечать на стенке ножом каждый прожитый день, чтобы не ошибиться и не опоздать с возвращением домой к празднику. Нужно ведь было ещё к нему и подготовиться: ёлочку принести и нарядить, украсить квартиру, ещё что-то…
У Ивана же было немалое преимущество в транспорте: «подлеченный» новыми деталями, снегоход исправно служил. Но прежде, чем ему легко стали доступны дальние угодья, пришлось много времени и сил положить на прокладку «буранных» маршрутов от зимовья к зимовью, от одного путика к другому, третьему… Теперь всё позади, хотя время от времени он находил себе работу и пробивал очередной новый маршрут. Зимы, как прошлая, так и настоящая, оказались не столь суровыми, как обрисовали в начале старожилы посёлка. Крепкие морозы, под тридцать градусов, уже ударили в конце ноября, но не стали неожиданностью для него. Видимо, в процессе охоты и всех сопутствующих дел, свыкся со всеми природными явлениями, которыми был богат здешний климат. Не расстраивался ни по поводу неожиданных оттепелей и обильных снегопадов, ни по поводу резкого похолодания после этого.
Один раз неожиданно ударил мороз под сорок градусов, а может и больше. Ночью пришлось часто вставать и подкидывать дрова в печурку – как только они прогорали, избушка тут же выстывала. По такому неудобному обстоятельству можно было и судить, каков был на улице мороз, – чем чаще приходилось вскакивать из нагретой постели, тем злее стужа, а градусником он ещё не разжился в этом зимовье, поэтому только своими ощущениями мог определять температуру за окном. И если ошибался, то ненамного. Выспаться, конечно, не удавалось в такие ночи. И, казалось бы, можно было понежиться в постели и подольше, нарушив свои вчерашние планы с проверкой путиков. Уделить внимание другим делам, прямо тут, в тёплой избушке, не вылазя на мороз. Мало ли их накопилось?.. Вон, капканы надо починить, шкурки оправить, почесать, снаряжение привести в порядок. Да и, в конце концов, поспать вволю. Потом приготовить не спеша что-нибудь вкусненькое, побаловать себя, устроить настоящий выходной… Но с трудом дождавшись рассвета, встал, быстро позавтракал и задумался о планах на день. Сидеть в избушке не хотелось. Мелкие делишки по хозяйству он отверг сразу – всё потом, успеется. Иван не считал себя фанатом в охоте, но азарт горел в нём. Порой он упивался процессом добычи и не отступался, пока объект охоты не становился его трофеем. И иногда на это уходил не один день, и сил тратилось много. Откуда это в нём взялось, кто ему это передал, он и сам не знал. Наверное, это стало проявляться по мере накопления опыта; простая увлечённость становилась профессиональной привычкой, а первоначальная природная любознательность требовала накопления практических навыков. Вот и сейчас такой мороз не был ему помехой в повседневной, уже ставшей привычной, работе. Он приспособился к неудобствам, поэтому даже и мысли не было отказаться от проверки путиков. Была ли в этом острая необходимость? Куда бы делась попавшаяся в капканы добыча? Нет, не в этом дело, просто не сиделось в зимовье. Это же с ума можно сойти от безделья – всё, что не касалось охотничьего промысла, было для него безделицей, пустым рутинным времяпрепровождением.
Утро по-зимнему с трудом набирало силы. Где-то на востоке из-за увалов плавно выкатывалось солнце, точнее – предполагаемое очертание его. Оно заявляло о себе ярким, слепящим расплывшимся пятном, пробивавшимся сквозь бледные ленивые тучки и похожую на них морозную туманную завесу. Собаки уже давно накормлены, и попрятались где-то в своих укромных местах, зарывшись в снег, уверенные, что хозяин – человек благоразумный и в лес не пойдёт. А он, основательно одевшись, пошёл греть «Буран», который заводиться в такой холод отказывался. Иван уже знал норов своего «стального коня» – без паяльной лампы не обойтись. И завёл-таки, но чуть пальцы не обморозил. После обеда всё-таки выехал, прихватив с собой ружьё – ижевскую вертикалку.
Мороз нещадно леденил на ходу глаза и щёки, проникая сквозь обёрнутый вокруг головы шарф и завязанную шапку-ушанку; ресницы быстро зарастали инеем, хоть он часто и обмахивал их рукой. Приходилось каждые пятнадцать-двадцать минут, сбавив газ, протирать лицо тёплой после меховой рукавички ладонью и сдирать с ресниц настывший иней. И снова давил на газ, продираясь по путику. А под одеждой было жарко, потому что часто останавливался у какого-то приметного местечка, известного только ему, бросал лыжи на снег и быстрым шагом пропадал в глубине тайги, ныряя под нависший заснеженный лапник. Спустя какое-то время выныривал из чащи, отпыхиваясь и извергая клубы выдыхаемого пара. До конца путика дважды ему сопутствовала удача – снял двух собольков. Собачек своих он пожалел, не взял, оставив их на привязи, – знал, что они увяжутся за ним. Рассчитывал по-быстрому проверить путики и вернуться, а собаки только под носом будут путаться или того хуже – найдут какую-нибудь зверушку, уйдут за ней, не дай Бог. Ищи свищи потом, в такой-то мороз. Лучше пусть зароются в снег и отдыхают до поры.
Через три часа, довольный, возвращался в зимовьё по проторенному следу. Мороз слегка отпустил, дышалось немного легче. Солнце ещё пыталось прорваться сквозь туманную пелену и заявить о себе в полную силу, но времени у него уже оставалось не так много – на западном склоне оно уже касалось дальних сопок. Ехал не торопясь, не газуя сильно, привычным взглядом обозревая местность. До зимовья рукой подать. Несколько раз вспугивал из лунок приготовившихся к ночи рябчиков. Мимолётно обратил внимание, что впереди, будто, снег истоптан. Подъехав ближе, убедился – семейка лосей жировала. Похоже, два молодых бычка решили пободаться или просто погреться, кровь разогнать – весь снег кругом взбуровили своими ногами, забавляясь. А вот и взрослые, не обращая внимания на детские шалости, занимались своим делом, набивая брюхо веточным кормом. Ивана чуть не в пот бросило. У него в голове мгновенно созрела идея добыть сохатого – по договору ему ещё надо было двух добыть. Как упускать такой случай?! Ведь явно, что кормятся они где-то рядом, далеко не ушли.
Решил проехать ещё немного вперёд, затем на лыжах обойти лосей, зайти вперёд и выждать какое-то время. Авось повезёт, и они выйдут на него. Таков был его хитроумный план. Впопыхах особо не задумываясь, а хорош ли он?.. Тут азарт главенствовал, а разум подчинялся.
Оставив снегоход и нацепив лыжи, пристально вглядываясь вперёд, Иван ходко пошёл, следуя задуманному плану. Надеялся, что отъехал достаточно далеко от предполагаемого нахождения зверей и не боялся их вспугнуть. Но затем всё же стал шагать осторожнее, часто останавливался, всматриваясь в чащу леса. Так продвигался примерно с полчаса. Свежих следов пока не наблюдал, были только старые подзасыпанные наброды. Значит, ему удалось обогнуть и опередить лосей. А вполне могло быть и то, что лоси просто свернули в сторону и шли своим путём, мирно кормясь на ходу и играясь для согрева. Обо всём этом думал думку и охотник, затаившийся в кустах, надеясь на удачу. Уж чего только не передумает он, пытаясь мыслями своими влезть в лосиную шкуру и шевелить их мозгами, уверенный в том, что дикий зверь непременно поведёт себя так, как рассчитывает охотник.
Холод был на стороне диких зверей. Хоть и им было, наверное, не сладко от такого мороза, но надёжная плотная шкура и обильный корм их спасали. А вот охотник почувствовал, что холод стал проникать под одежду, заставлял ёжиться и вызывал непроизвольную дрожь. Пока он спешил в обход, слегка вспотел, а теперь это пошло не на пользу. Дрожь всё сильнее стала пробирать Ивана, даже зубы застучали. Впрочем, дрожь могла усилиться ещё и от волнения. Ему вдруг стало смешно, – не спугнуть бы лосей таким стуком. Хотел уж, было, повернуть и бежать скорее к «Бурану», согреться на бегу. Но, на грех, увидел лёгкое движение слева впереди, откуда и ожидал появления лосей. Замер и вгляделся в это место. Да, это был молодой лось, скорее всего прошлогодний телок. Он стоял в метрах сорока и обдирал нежные пушистые ветки молодой пихточки. Видна была голова и шея, остальной корпус был закрыт толстой берёзой. Мишень неплохая, хотя, если набраться терпения, можно было и дождаться, когда лось откроется весь, но Иван решился стрелять.
Выстрел прозвучал сухо и совсем негромко, больше было похоже на треск дерева в сильный мороз. Если бы не отдача от ружья, Иван бы так и подумал. Но отдача была и довольно ощутимая, от неё больно заныла щека. Иван во все глаза смотрел в то место, где стоял лось, но кроме осыпающейся кухты с берёзовых ветвей, ничего не видел. Он ожидал увидеть хотя бы убегающего лося и готов был выстрелить из второго ствола… Сорвался с места и подбежал к берёзе, но там остался лишь взбитый снег рядом, да гонный след удиравшего галопом зверя. В левом краю берёзового ствола на уровне человеческого роста зияло чёрное пятно от вонзившейся пули.
К своему удивлению, Иван даже был рад такому исходу. Будь сегодня другая погода, не такая морозная, он бы, конечно, огорчился. Но при сорока градусах свежевать лося как-то не хотелось. Почему-то такие здравые мысли в самом начале, когда он увидел свежие следы, не пришли ему в голову. Глядишь, уже давно бы грелся в избушке.
Спустя четверть часа он был возле снегохода. Пока шёл, прогрелся, дрожь унялась. Чувствовал себя даже как-то умиротворённо. Уже представил, как его ждут собаки: замёрзли, поди, оголодали… Скоро, скоро вас покормлю, потерпите, подумал Иван и дёрнул рукоять стартёра. Пришлось ещё раз и два повторить попытку… «Буран» упорно не хотел заводиться. Снова всё сделал по науке: сняв меховые рукавицы, достал свечной ключ, отвернул свечи. Подул на них, словно этого им только и не хватало. Дёрнул несколько раз стартёр, продувая цилиндры. Поставил свечи на место. Весь напрягся в ожидании чудного спасения, а вероятнее всего от невесёлого предчувствия, что конь его лихой просто замёрз и вряд ли заведётся. И как назло, паяльную лампу он забыл положить в багажник! Пока возился со свечами, руки застыли, и пальцы едва сгибались. С трудом неуклюже напялил шубенки на руки. Уже через минуту почувствовал острую ноющую боль в кончиках пальцев – прихватило всё же немного. От этой боли заныло где-то глубоко в паху. Иван запрыгал на месте, хлопая руками по бёдрам. Наконец, решился дёрнуть рукоятку стартёра. Та же история. Теперь было ясно, что пока не стемнело, нужно бежать на лыжах к зимовью. Благо, что «буранница» промёрзла, и по ней, наверное, как по асфальту можно шагать. Чертыхнувшись в адрес и погоды, и нечаянно попавшихся лосей, сгрёб лыжи в охапку и потопал пешком по снежному «асфальту». Тут немного досталось и бедному «коню», а больше самому себе за беспечность и безрассудство – надо тщательнее продумывать всё, собираясь в поход в такую погоду. Да и по характеру своему неугомонному до кучи прошёлся… Ну, а что бы изменилось, если бы он поехал на другой день или через день, когда бы потеплело? Пожалуй, ничего. Но он нашёл для себя оправдание: зато скроил время для другого путика. Вот так считал и так поступал. Отговаривать его здесь было не кому, и только сам с собою мог спорить по этому поводу.
Промысловые будни увлекли молодого охотника так, что не успел оглянуться, как Новый год был на пороге. В отличие от своего друга, Иван не рвался в посёлок с таким нетерпением. Даже чувствовал некоторую неудовлетворённость, что надо на какое-то время умерить свой пыл, отбросить ежедневные заботы, связанные с промыслом. Ещё важно было убедить себя в том, что путики с капканами никуда не денутся за неделю. И вот как-то нужно было заставить себя совсем не думать об этом. Ну, хотя бы на короткие праздничные дни. Сделать это будет нелегко. Ведь он пока не чувствовал ни малейшей усталости от каждодневных проверок путиков, поздних возвращений и приготовлений в потёмках пищи себе и собакам. Утром охотник не чувствовал себя разбитым или не выспавшимся из-за того, что приходилось часто просыпаться и подтапливать остывающую печку в сильные морозы. Его не злили частые нечаянные неполадки со снегоходом… Всё это компенсировалось потом теми удачными моментами, когда он приносил с собой трофеи. И всё то, что считалось тяжёлым промысловым трудом – для него это было приятными хлопотами. Может быть, поэтому Ивану не очень хотелось нарушать налаженный ритм в этом первом своём настоящем промысловом сезоне. Понятно было, что двумя-тремя днями от новогоднего праздника не отделаешься, придётся задержаться на более долгое время. Вот это и смущало, это шло в разрез с его настроем на нынешний сезон. Но при всём при этом Иван не имел права не считаться с одним очень важным обстоятельством – к Новому году ждали его друзья: Сан Саныч с Валей, Петрович и дядя Гоша. Хотелось и с Карелом повстречаться. Нельзя было не поздравить их с таким праздником, это было бы кощунством с его стороны. Да и не был он, в конце концов, таким отщепенцем и эгоистом по натуре.
Перед этим, ещё по малому снегу, Иван однажды на «Буране» выезжал в посёлок, вывозил мясо лося. Как он считал, новый сезон для него начался очень даже успешно: с соболями дела идут неплохо, белок немало настрелял, вот и с лосём пофартило. Но своим главным достижением и гордостью считал первого в своей практике добытого медведя. Он впервые вкусил радость и трепет от такого трофея. Первое волнение от своей удачи уже улеглось, но при малейшем воспоминании сердечко сладко ёкало. Это было сравнимо с воспоминанием о первом поцелуе. В действительности же, ему просто повезло. Ещё перед началом сезона он решил подыскать себе более опытную собаку, проверенную. Его молодые пёсики хоть уже немного и возмужали от постоянного проживания в дикой природе, набрались немного опыта, но отдача от них была ещё мизерная. Нужен был вожак и учитель. Разговорились как-то с Карелом на эту тему, тот после некоторого раздумья предложил ему взять одного из своих псов – у того их было в достатке, не пожалел. Правда, с Пестрей – так звали пса – потом возникла одна проблемка: этот вольно определявшийся кобель убегал иногда по старой памяти на Порог, где было зимовье Карела. Видимо, не мог он просто так сразу забыть своего бывшего хозяина, да и друзей-товарищей своих четвероногих хотелось попроведать. Пришлось Ивану ненароком дважды навестить своего доброго соседа и забирать беглеца. Что удивительно, обратно тот шёл с ним охотно. Ладно, хоть по пути соболя добывали. Так случилось, что во второй очередной поход за ним оказался ещё более удачным: на обратном пути Пестря зачуял берлогу и поднял медведя из неё. Это было ещё в начале ноября, и косолапый не успел облежаться как следует, ещё чутко дремал. Тут и молодёжь подсуетилась, отвлекала медведя, а Пестря уж во всю прыть старался, разъярился, хватал за гачи. Хозяин вовремя подоспел на лай и всё закончилось. Не крупный был, но зато первый. С непривычки показался большим. С той самой охоты Иван уже начал грезить о встрече с медведем, мечтал крупного взять.
Первым человеком, кто разделил его радость по поводу такого случая, был сосед по квартире Сергей Петрович. С момента приезда сюда подселили молодого и несемейного охотника Кукшина вместе с таким же холостяком – квартира одна на двоих, только комнаты у них были свои. Сергей Петрович – уже не молодой, но ещё далеко не старый человек. Навскидку, ему лет сорок пять было на тот момент, из них уже лет десять жил в этом посёлке. Годы, проведённые в таёжном посёлке и занятие промыслом, не наложили свой отпечаток на его внешность, в нём ещё явно угадывался городской житель с характерными вальяжными манерами и франтоватым видом. Но лицо с открытым взглядом и приветливой улыбкой располагало к общению. Особо бросалась в глаза флотская тельняшка, облегавшая крепкий мускулистый торс. Сам он родом был, можно сказать, из местных, в столице этого края родился. Тайга вокруг и, казалось бы, сам Бог велел охотником быть, но загорелся он любовью к морю, к путешествиям – видимо, Жюля Верна в детстве начитался. А об охоте как-то и не задумывался, не было пристрастия к ней. А вот мечта о морях-океанах не давала покою, и он всё-таки своего добился – закончил мореходку и стал моряком. Ходил на торговых судах, бороздил моря и океаны. Нашёл своё пристанище на Чёрном море. Да тут судьба распорядилась по-своему: затосковало его сердце по родной Сибири, по тайге. Трудно сказать, почему так произошло, он и сам не мог объяснить ни себе, ни кому-нибудь другому. Вернулся в Красноярск, обзавёлся семьёй, была прекрасная работа. Постепенно увлёкся охотой. Да не простой жизненный удел ему достался, судьба и этого человека удостоила своим вниманием, но вероятнее всего, в такой беспокойной и неустроенной жизни больше всего был виноват он сам – оказался вот таким непоседой, и всё что-то искал. История долгая, но итог таков: оказался бывалый моряк в этой тайге, в этом посёлке и стал заядлым охотником, да не просто заядлым, а удалым и успешным. Легко ему жилось одному – семью он оставил в Красноярске, хотя не забывал, навещал. Понравилась ему такая вольная разбитная жизнь. Может быть, его общительный весёлый характер не терпел заточения в четырёх стенах и терялся он в суете большого шумного города. Как он однажды выразился, что просто не переносил малейшего посягательства на свою личную свободу, поэтому он и нашёл здесь уже новое пристанище, обрёл успокаивающий размеренный шум тайги взамен яростного рёва морских волн. Таёжный воздух ему показался слаще и приятней, и здесь бросил якорь бравый моряк.
Вот с таким весёлым соседом, – в посёлке его часто называли балагуром, а обращались просто, Петрович, – и проживал уже пару лет Иван. Когда он на радостях приволок, в буквальном смысле, полный рюкзак медвежатины домой, Петрович не поверил, что такой молодой и начинающий охотник в одиночку смог добыть медведя, а потом на себе притащит такую тяжесть за двадцать километров. С этого момента уже бывалый и опытный охотник, умудрённый жизненным опытом, по-другому взглянул на недавнего студентика, как он иногда в шутку называл Кукшина, увидел в нём настоящего охотника-добытчика, которого стоит уважать. Можно сказать, что с этого момента он негласно, сам того не подозревая, взял Кукшина под опеку, и старался при каждом удобном случае поддержать молодого охотника. Конечно, по-соседски, они часто коротали вечера (если были не в тайге) за общим столом, рассказывая друг другу разные истории, а точнее, больше Петрович рассказывал, а Иван слушал.
Новый год прошёл на удивление очень весело. Начали отмечать в доме Казариных вчетвером – без Петровича не обошлось. Но недолго они скромничали в узком дружеском кругу. После того, как по всей необъятной Сибири – и они в том числе – отметили выстрелами из бутылок шампанского приход Нового года, в гости к ним нагрянули соседи. Сначала одни, потом другие. Пришёл и Карел с женой. Молодая чета Казариных, да и Кукшин тоже, поначалу чувствовали себя как-то неловко в кругу ещё мало знакомых людей, всё-таки прожитый здесь год не позволял чувствовать себя достаточно раскрепощённо, поэтому скованность в общении ещё присутствовала, что было вполне естественно. Может быть, для Петровича это было обычным – его уже можно было считать старожилом, а вот для недавно приехавших этот нечаянный приход, казалось бы, незваных гостей, должен был вызвать некоторое замешательство или даже недовольство. Первое впечатление от такого наплыва односельчан самих хозяев явно потрясло, особенно Валентину, которая не знала даже как себя вести, растерялась, засуетилась, усаживая гостей за стол. Случился даже конфуз из-за нехватки стульев и табуреток; чтобы всем разместиться, пришлось Сан Санычу срочно устраивать скамейки из досок. Они были искренне удивлены необычной простотой и добродушием незваных гостей, но постепенно чувство неловкости улетучилось, и лица хозяев засияли откровенной радостью.
Дом сразу заполнился новыми ароматами принесённых угощений, шумом и весельем. Подкрепив и без того весёлое настроение необходимыми напитками, пошла за столом непринуждённая беседа: женщины о своём, а мужчины меж собой, естественно, о промысле. Одними из первых вопросов со стороны гостей были о том, как они тут обосновались, нравится ли им в здешних краях, не трудно ли им тут живётся, и не собираются ли уезжать обратно??? Не сразу, конечно, все эти вопросы выпалили недавним новосельцам, а так, между рюмкой, между разговорами о том, о сём, вытягивали из них соседи, прощупывая исподволь планы на будущее житьё-бытьё. Правда, это больше женскую половину интересовало, а охотники вели свои разговоры.
Потом шли гулять к клубу, где звучала музыка, и толпился весёлый народ. Под утро, уставшие, но весёлые и счастливые вернулись домой. Все трое в голос высказывали своё мнение о прошедшем празднике и все сходились в одном, что остался удивительно приятный осадок от этого гуляния, от общения с людьми, хотя было и лёгкое сожаление, что праздники тоже не вечны. Всех удивило доброжелательное отношение людей посёлка к ним, недавно прибывшим сюда, ещё не обжившимся. Они поняли, что местные уже считали их своими. Некоторая робость и стеснение в отношениях, существовавшие до сих пор, растворились за один вечер в непринуждённости и искренности всех односельчан. Особенно чета Казариных глубоко прочувствовала этот момент и осталась очень довольна. Видимо, весь таёжный народ, живя в этих, далеко не комфортных условиях, не мог быть другим. Вся природная среда, окружавшая их, одинаковые интересы, жизненные условия и возможности, готовность в любую минуту прийти на помощь и укрепившиеся традиции, – всё это создавало свою особую доброжелательную атмосферу, и люди, живущие здесь, обретали какой-то свой общий облик и характер. Может быть, ещё неповторимый охотничий дух, замешанный на сибирском характере с местными, устоявшимися неписаными правилами, придавал такое ощущение.
Спустя несколько дней, припрятав в потаённый уголок своей души все прекрасные воспоминания о прошедшем празднике, оба наших добытчика вновь уходили на свои промысловые участки. Иван твёрдо решил, что летом поедет за своей будущей женой, и следующий Новый год они будут встречать вместе, в своём доме, лишь бы она поверила ему и поехала за ним в эту глушь. Почему-то он был в этом уверен. Эта уверенность пришла к нему неожиданно именно в этот новогодний вечер. Теперь неотступно и в любое время: шёл ли по путику, ехал ли на «Буране», сидел ли в зимовье и готовил ужин или ложился спать – его преследовали мысли о ней, и он представлял, как приедет к ней, как он признается ей в самом сокровенном.
В то новогоднее утро он достал из своей заветной папочки с фотографиями одну самую ценную и долго вглядывался в неё, представляя, как будет происходить их встреча. На него чуть вопросительно озорными карими глазами смотрела самая обаятельная и самая красивая девушка, будто спрашивая: «…ну, где ты там запропастился, неужели забыл меня?..» И завораживающим движением огладив тугую косу тёмно-каштановых волос, откинула её за спину, повела кокетливо головой… и засмеялась звонким девичьим смехом, лукаво грозя изящным пальчиком… Иван даже вздрогнул от внезапного видения и усмехнулся про себя: «Надо же, уже мерещиться начинает. Будто зубная боль не отпускает, так и в моём сердце ноет и ноет, только гораздо приятнее. Как это я на расстоянии в неё влюбился. Что же ты, дорогой друг, когда рядом был с ней, когда учились, не замечал этого? Что же ты так робко вёл себя и даже не намекал ей о своих чувствах. Или стеснялся? Наверное, расстояние подействовало. Расстояние и время – лучшие подсказчики. А ещё расставание. Да, не зря говорят: две верных подруги – любовь и разлука… Вот как разъехались, так я и стал о ней всё чаще вспоминать. А теперь уже жить без неё не могу. Вот дела!»
Впрочем, ничего тут странного нет, обыкновенная жизненная ситуация, – не первая и не последняя. Каких только любовных историй в мире людском не происходило с того момента, когда Адам с Евой вкусили от плода запретного, – одному Богу известно?!. Они происходили, происходят и будут происходить с влюблёнными людьми. Просто не всегда вовремя приходят нужные слова, и не всегда хватает смелости их произнести. Странное в другом, что вопреки желанию возникает вдруг иногда какой-то ступор и лишает человека разума из-за любви, и он, порой, творит сам не ведая что. В том и секрет всех любовных страданий. К великому счастью многих влюблённых, всё же приходит то время, когда рушится невидимая стена, мешающая переступить излишнее смущение, неожиданно рождается в тебе смелость и находятся нужные выстраданные слова. И трудно отвести друг от друга любящий искренний взор, говорящий о том же.
4
А где-то далеко-далеко от этих бескрайних сибирских просторов поживала скромно красная девица по имени Галя, и духом не ведала, что сохнет по ней удалой молодец. Нет, она, конечно, хотела в это верить и даже надеялась, что тот парень Ванечка, который пытался за ней ухаживать, не забыл её. Она всё ещё помнила его неловкий, но страстный поцелуй на прощание, надеялась, что внезапный его порыв был искренним. Внезапный-то, – на первый взгляд, а на самом деле вымученный в душе влюблённого Ивана, мысленно подготавливаемый за всю дорогу к электричке, отрепетированный в воображении, но получившийся всё равно неуклюжим от чрезмерного волнения. И Галина это чувствовала. Ей нравилось вспоминать тот прощальный поцелуй, сердце наполнялось теплотой, и на лице всегда невольно возникала счастливая улыбка. Такие воспоминания сразу уносили её на несколько лет назад…
Она не могла сказать себе, что этот молодой человек, которого она впервые увидела в техникуме, запал с первых минут в её душу. Кукшин и Казарин весной 1981 года демобилизовались из армии и вернулись доучиваться в техникум, где они были зачислены в разные группы. Саня оказался в группе, в которой учились на звероводов Галя и Валя. А Ваню зачислили в параллельную. И поселили друзей тоже по разным комнатам в общежитии, вопреки их пожеланиям. Впрочем, это ни капли не отразилось на их дружбе, просто стали часто заглядывать друг к другу. Случайно ли так получилось или Казарин к этому подвёл, Галина не могла припомнить, но в один из обыкновенных студенческих дней Саня познакомил девушек со своим другом Ваней, напросившись к ним в гости. Да, была весна… Помнится, они гуляли допоздна в весеннем лесу недалеко от общежития. Юноши балагурили, развлекали их с Валей. Разве такое забудешь! И как-то само собою получилось, что эти два парня стали завсегдатаями в их комнате, пропадали у них под разными предлогами в любое удобное время. Она даже запоздало удивилась такому явлению, казалось, будто какая-то таинственная сила влекла этих парней к ним. Почему-то раньше не задумывалась об этом. Сейчас, на расстоянии и в прошедшем времени ей виделось это забавным, но от чего-то приятно защемило сердечко. Наверное, похожая ситуация в разные годы случалась не только с ними, но и с другими ребятами и в других учебных заведениях или рабочих общежитиях – чего в жизни не бывает. Галине нравилось вспоминать, как легко они нашли общий язык с этими весёлыми ребятами, считавшимися уже «ветеранами» этого техникума, к тому же бывшими армейцами. Девчонкам конечно же доставляло удовольствие их присутствие, они не чувствовали к ним неприязни, не считали их визиты навязчивыми и гнать из комнаты не спешили. Томительные чтения учебников по звероводству и ветеринарии казались не такими нудными, иногда разбавлялись каким-нибудь смешным анекдотом из арсенала бывших армейцев. Ещё Гале показалось, что на первых порах этих хитрецов привлекала возможность на дармовщинку лишний раз угоститься за столом у девушек, такое тоже часто случается в студенческой среде. Но в тайне себе признавалась, что и ей, и Вале на правах радушных хозяек хотелось показать себя с наилучшей стороны перед парнями, с особым старанием и изобретательством готовя что-нибудь на ужин, что было не таким уж простым делом в условиях студенческой кухни. Да и Кукшин с Казариным потом, не желая быть наглыми нахлебниками, стали приносить им свои угощения: иногда Ваня тортик принесёт, другой раз Саня сыр или колбаску нечаянно выложит на стол, приговаривая в шутку, что мамка с севера прислала. Такой негласный союз устраивал всех. Утаить подобное в стенах общежития было невозможно, и между сокурсниками со временем утвердилось негласное название: союз четырёх. Даже прибаутка однажды слетела с уст у кого-то из сокурсников: есть в общежитии комната, где подружки живут – Галя да Валя, и ходят к ним в гости два друга – Ваня да Саня… При этом воспоминании Галина поморщилась недовольно, – она не в восторге была от такой неудачной шутки, ей показалось, что их сокурсник просто позавидовал, и ему пришли на ум эти слова не от доброты душевной, а скорее из злорадства. Впрочем, никто особо не придал этому значения, и сия прибаутка потихоньку забылась.
А судьба затаилась в уголке и тихонечко наблюдала за ними: сложится ли у этих молодых людей что-то более романтическое, перерастёт ли обыкновенная привязанность и желание находиться рядом друг с другом во что-то большее, окрыляющее и сводящее с ума от счастья? Что и подразумевает любовь!
…Жизнь студенческая, лёгкая и беззаботная, текла своим чередом: будни незаметно поглощались занятиями, штудированием заданий, подготовками к зачётам и прочими студенческими делами. Единственный выходной день в воскресенье, управившись с неотложными бытовыми хлопотами, девушки старались посвятить экскурсиям и прогулкам по Москве, благо, что на электричке добраться до неё хватало сорока минут. Парни часто подключались к таким мероприятиям. А вечером, возвращаясь к себе в общежитие, каждый не скрывал удовольствия от совместно проведённого дня. Постепенно такие поездки становились привычными. Всё происходило без каких-либо намёков на некие особые отношения между девушками и парнями. Была непринуждённая дружеская атмосфера, просто было большое желание общаться, разговаривать, шутить. Путешествовать по столице и вместе учить какие-то задания по курсу. Кстати говоря, парни чаще всего и находили именно этот повод, чтобы задержаться у них. А вслух озвучивали его по-своему, дескать, без вас, девчонки, в голову ничего не лезет, с вами же всё запоминается идеально, тем самым шифруя свой хитрый гастрономический интерес. Девушки с пониманием и с улыбкой кивали головой, тщательно скрывая, что истинные намерения этих шаловливых обманщиков давно уже стали для них понятны.
Так прошёл незаметно год учёбы. Молодые люди оказались на редкость скромными, вели себя как настоящие джентльмены, и за всё это время с их стороны не было даже малейшего намёка для буйных девичьих фантазий в отношении замужества. И только весной, ближе к лету, когда начало витать в воздухе нервозное предчувствие скорой сдачи госэкзаменов и следовавшее за этим расставание – стало немного рушиться впечатление, что эти милые и добрые парни были для девушек просто отменными друзьями. В дружеские непринуждённые отношения между ними стали вплетаться новые чувства, ранее не знакомые и невольно заставляющие по-другому взглянуть друг на друга. Так мил и притягателен, вдруг, оказался красивый девичий стан, и ласковые взоры девушек нещадно волновали юношеские сердца, пробуждая в них страсть. И юные сердца красавиц не могли не ощущать этого, иногда без причины вдруг сжимались в сладостной истоме от неясных предчувствий.
Да и сама весна своим ярким солнышком, голубым небом и запахом пробуждающейся земли, а с ним и дурманящим ароматом черёмухи исподтишка воздействовала на юные души, заставляла испытывать внезапный трепет и непонятную тревогу, подобно тому, как лёгкий ласковый ветерок неожиданно пробегался по сверкающей водной глади, вызывая рябь и волнение.
Неминуемое скорое расставание накладывало свой отпечаток на их отношения, невольно будоражило молодые сердца в ожидании разлуки, вызывало некоторую панику в буйных головушках от неопределённости, что вот разъедутся они скоро и больше не увидятся никогда. Девушки, наверное, в глубине души таили надежду на более решительные поступки своих кавалеров, нечаянным кокетливым взглядом и милой обезоруживающей улыбкой пытаясь растопить в них не уместную сейчас робость. А разве могли этого не почувствовать наши удалые молодцы и не откликнуться на сей призыв? Со стороны Казарина уже были заметны признаки ухаживания за Валей: неуклюжие и не изысканные, но явные попытки стать ближе, роднее, чем просто друг. Порой он ненавязчиво пытался обратить внимание девушки на себя какой-нибудь шуткой или комплиментом в её адрес, и у него это получалось. В ответ Валя вскидывала на него признательный загадочный взгляд, одаривая надеждой. Они чаще стали находить повод побыть вдвоём, уезжали в Москву и до вечера гуляли. …Альянс четырёх рушился.
В поведении Ивана Галя тоже замечала необычные нотки; что-то неуловимое, не поддающееся сознанию промелькнуло между ними. Внешне, казалось, ничего не изменилось: Иван, как и прежде, был шутлив и изобретателен на выдумки, всё также у него легко и непринуждённо получалось развеселить Галину, но чаще стал проявлять излишнюю внимательность, стараясь предугадать её желания с явным намерением угодить. Иногда ей казалось, что Кукшин стесняется лишний раз прикоснуться к ней и обнять, как он это иногда делал по-дружески, раскрепощённо и не стесняясь. Раньше он легко и беззастенчиво делал это, и она чувствовала, что это был чисто дружеский жест. А сейчас было видно, как он напрягался, взгляд устремлялся на губы, и весь его вид, казалось, говорил, что вот сейчас сделает к ней шаг, крепко стиснет её в объятиях и поцелует. Но этого не происходило, что-то его удерживало, как будто руки у него были ватными, и язык присыхал к нёбу. А она так ждала его прикосновения, беспричинно вспыхивая румянцем и смущённо отводя в сторону глаза. Иногда Кукшин неожиданно ссылался на какие-то забытые дела и испарялся на неопределённое время. Стал избегать привычных посиделок у них в комнате по вечерам и Саша один приходил, откровенно любезничая со своей Валей. Такая перемена в Ване огорчала Галину, и она уже не радовалась этим посиделкам – ей не хватало в эти минуты его. И тогда возникало желание побыть одной и разобраться в своей душе. Она поняла, что всё чаще и чаще стала думать о нём, о его перемене в настроении. С замиранием сердца мечтала, что такое с ним происходит из-за неё, и надеялась, что он не равнодушен к ней, что мысли о ней волнуют его сердце и не дают покоя. Ей так хотелось, чтобы этот юноша увидел в ней не только хорошего друга, но и обыкновенную женщину, тоже страдающую по нему… В глубине души она верила, что он просто стесняется этих новых отношений, до конца не убедившись, что и в нём растёт любовь к ней.
Но если могла бы Галя заглянуть в душу Ивану, то увидела бы, что происходило с ним в такие минуты. Она бы знала, как давно уже творится у него внутри что-то не совсем обыкновенное, и он уже долгое время был сам не свой. Вместо присущей ему уверенности стал рассеянным, шутил и улыбался невпопад. Если бы она умела читать его мысли, то бы знала, как он мучился: ему казалось, что все его шутки пошлые и кислые, а Галя только делает вид, что ей смешно, чтобы его не обидеть. Она бы не мечтала, а твёрдо бы знала, что давно он уже испытывал неудержимое влечение к ней, но не как к другу, – он уже нестерпимо ждал встречи с ней, как ждут встречи с самой единственной и неповторимой.
Пусть не всё она могла распознать в его душе, но всё же видела, когда они встречались, как взгляд его становился томным и загадочным, а ещё каким-то незнакомым, оценивающим. Но и искреннюю непосредственную радость в его глазах от встречи с ней не увидеть было невозможно. Её смущало, когда в разговоре он, вдруг, неожиданно останавливался, переводил дух и внимательно смотрел ей в глаза, о чём-то думая, будто мучительно искал нужные слова…
Заметно стало, что и к своему другу, Саньке, стал относиться не так, как всегда, как будто что-то его стало раздражать. Причина была непонятной. Однажды Иван как-то проговорился Гале, что Казарина стал редко видеть, где-то всё пропадает со своей Валей. Ей показалось, что в его голосе прозвучали ревнивые недовольные нотки.
Кто знает, может это и была некоторая ревность к другу, который неожиданно покинул его и стал большую часть времени пропадать со своей девушкой? А может быть, его угнетала потаённая злость на самого себя, что он оказался, как говорят, «ни рыба, ни мясо» по отношению к Галине, не может преодолеть свою чрезмерную застенчивость и оказался таким нерешительным? А может быть, просто уходил в себя и пытался понять: любит ли он по-настоящему Галю или просто относится к ней, как к другу, уважает её, как хорошую, красивую и умную девушку? Когда же он появлялся у неё в комнате, зачем-то делал вид, что ничего не изменилось, оправдывая свои редкие появления подготовкой к экзаменам.
А судьба-сводница всё кружила у них над головой, опутывала вязкой незримой паутиной их сердца и сознание, пытаясь притянуть их этой паутинкой ближе друг к другу. Но, видимо, судьбе тоже нужно обладать немалым терпением, чтобы довести до конца затеянное, не торопить события, чтобы эта чувствительная и нежная паутинка не порвалась…
Но вот и госэкзамены остались позади, дипломы об окончании техникума были на руках. Прощального вечера не получилось, как мечтали ребята. Возможно, помешали срочные обстоятельства, позвавшие бывших студентов в дорогу, но как-то незаметно, спонтанно распрощавшись, все потихоньку стали разъезжаться. Последний раз собрался альянс четырёх в девичьей комнате: Саня и Валя, без пяти минут жених и невеста; Ваня и Галя, до сих пор так и не определившиеся в своих отношениях, не сумевшие преодолеть невидимую заветную грань в любовных отношениях. Попрощались тепло, а девушки даже прослезились. Иван проводил Галю на электричку. Постояли, помолчали, мучительно выискивая нужные слова, но разговорились о пустяках. На прощание Иван неумело и впопыхах всё же поцеловал Галю в губы. Она долго стояла у закрытых дверей в тамбуре вагона и в узкое окно всё смотрела и смотрела на удаляющуюся фигуру, ощущая на губах его прикосновение. Слёзы безудержно катились по щекам. Девушке казалось, что осталось какое-то ощущение недосказанности и недомолвки между ними, мелькнуло тайное желание, чтобы когда-нибудь это повторилось и тогда, может быть, всё бы изменилось, и они бы смогли выяснить всё, что таилось в их сердцах…
Галина уже не пыталась припомнить, сколько раз она вспоминала эту сцену. Иногда она радовалась посетившему воспоминанию, начинала мечтать… Но бывало не раз, что пыталась отогнать от себя эти воспоминания, убеждая себя тем, что прошло уже много времени, а от него ни слуху ни духу. Значит, забыл, и всё что с ними было – это было не серьёзно. И нечего себя мучать надеждами…
А может, и в самом деле, между ними ничего не произошло, не пролетела ещё та искорка, от которой вспыхивает костерок любви, а если и пролетела, да не хватило ей того жара, от которого вспыхивает огонь. И случится ли это вообще или судьба уготовила им что-то другое?
Незаметно пролетел и год, и второй. Галина с головой ушла в новую интересную работу. Все те знания, которые были получены в техникуме, хотелось наилучшим образом применить на звероферме.
В свободные минуты дома она иногда перебирала студенческие фотографии и вспоминала, а ещё так ждала писем от него. Она знала, что он уехал куда-то в Сибирь вольноопределяющимся, без направления, а значит без чьей-либо поддержки, в абсолютную неизвестность. И переживала за него. Тут же вновь переносилась во времена учёбы и знакомства с ним, прокручивала в памяти все ласкающие душу минуты, проведённые с ним. Сердце охватывало приятной истомой и в него вливалось желанное предчувствие, что скоро в её жизни произойдут резкие перемены.
Предчувствие её не обмануло – хоть и ждала она этого чуда, но произошло всё очень неожиданно: как снег на голову в прекрасный июльский вечер на пороге её дома возник стройный молодой человек в элегантном костюме и с букетом цветов. Сердце её обомлело от неожиданности и от радости одновременно – перед ней стоял Кукшин: глаза его сияли, и рот растянулся в улыбке до ушей. Хватило ей и секунды, чтобы понять цель его неожиданного визита.
Всё-таки судьба не напрасно подсматривала за ними из угла их комнаты в общежитии, верила она, что не просто так двое парней зачастили к девицам-красавицам и просиживали у них вечера – не прошли даром её старания.
В первый момент Галя, была обескуражена, но и польщена таким натиском, бескомпромиссностью в самой доброй и простой манере без излишних условностей. Неожиданный гость действовал напористо и не давал ей опомниться: демонстративно, но всё же неуклюже, взмокший от смущения, опустился на колени, протянул ей в левой руке букет роз, правую приложив к сердцу, произнёс:
– …Галя, я, наверное, удивил тебя, явился без предупреждения. Как-то так получилось, не написал. Но я на крыльях летел к тебе, потому что уверен, что ты ждала меня. И я понял, что не могу без тебя. Созрел, наконец. Прости, что и тебя заставил помучиться. Но я уже без тебя не уеду, ты моя судьба. Я только там понял, что люблю тебя. Выходи за меня замуж! Вот. – Скороговоркой выпалил он, облегчённо вздохнул и в ожидании поник головой. Всё происходило, как во сне. Были в первые минуты и сомнения – как без них обойтись? Вмиг вспомнился ей тот самый Ваня в студенчестве, который часто смешил её своими выдумками. А уж не «выкамаривает» ли он очередную? – мелькнула и такая мыслишка, но тут же растворилась в путанице других, круговертью мельтешивших в голове. Но она видела и чувствовала, что он говорит и делает всё искренне и честно. Сам фактор неожиданности тоже играл свою роль. И Ваня покорил её, развеял все опасения – глаза его кричали теми словами, которые он должен был ещё красочнее произнести вслух. Разве могла устоять девичья душа перед таким решительным напором этого удалого парня.
С того момента, как они расстались, прошло три года. Конечно, она его узнала, но теперь перед ней стоял уже повзрослевший, с заметно огрубевшим мужественным лицом, и даже, как ей показалось, вытянувшийся в росте, серьёзный мужчина, – даже детская наивная улыбка не могла скрыть этого. Глаза его сияли искренним и любящим взглядом. Не видела она в них ни капельки притворства или лжи. И приехал к ней просить руки и сердца за многие тысячи километров. Значит, точно любит. Она не могла ответить отказом. И её тоже не испугала перспектива оказаться в неизвестном далёком таёжном крае.
…Всё решилось довольно быстро, и сборы были не долги. Через пару недель Галя, уже летела на том же Ан-24 в сопровождении своего пока ещё жениха из Красноярска до Варварино. Мужем и женой они стали в этом небольшом районном центре, здесь они официально скрепили свои брачные узы. А свадебное путешествие у них было более чем романтическое, которому могли бы позавидовать многие молодожёны – прожив в райцентре у Ваниного приятеля три дня, отметив импровизированную свадьбу, они сплавились на лодке по реке Гремучей за трое суток до посёлка Дужного. Эти три дня стали для них не то что медовым месяцем, а целой сладкой вечностью. Только яркие звёзды с ночного неба были свидетелями тех незабываемых счастливых часов. А в свете дня река мирно укачивала счастливую пару в дрейфующей по течению лодке. Так она стала сибирячкой, женой охотника-промысловика. Ну, чем не «декабристка» нашего времени.
5
Весна 1986 года. Наступила вторая декада мая. Примерно в это время с небольшими отступлениями в ту или иную сторону на Гремучей на реке начинался ледоход. Это природное явление, наверное, везде и всегда приносит необыкновенную радость людям, которым посчастливилось жить на берегах больших рек. По малым речушкам ледоход не ощутимо происходит, почти незаметно, лёд просто съедает талой водой, и, в лучшем случае, вместо льдин плывёт мелкая шуга. На больших же реках, а тем более на таёжных, берущих начало со склонов гор и пробирающихся на всём своём жизненном пути через скалистые заслоны, ледоход – это незабываемое событие; это зрелище, достойное высокого слова поэтов и кисти великих художников.
А по сути, не вдаваясь в столь высокие материи, для людей, живущих на берегах таких рек, всё было гораздо проще – всего лишь обыкновенная радость скорому приходу тепла и обновлению всего жизненного уклада. Ледоход вершил окончательно судьбу зимней вольнице, ставил точку её морозам и вьюгам. После него уже наступала настоящая весна: сразу становилось теплее; земля дружно освобождалась от талого снега, смело обнажая пока ещё неприглядные серые берега и поляны, которые тут же начинали буйно заселяться весенними первоцветами; с юга возвращались нарядные и разноголосые птахи, возвещая здешний мир пока ещё робким щебетанием о приходе весны. Пройдёт совсем немного времени, и вся округа заполнится звонким разноголосием вернувшихся в родные края птиц. Люди сбрасывали с себя надоевшие зимние тулупы и телогрейки, старались дольше побыть на улице, с довольным видом подставляя своё тело тёплому весеннему солнцу, заряжая энергией «подсевшие» за зиму свои жизненные «аккумуляторы», готовясь с новыми силами растратить эту энергию на свои насущные земные дела. Природа преображалась во всей своей красе, радуя глаз людской, наполняя души оптимизмом. Наверное, само ожидание тепла, а с ним и радости, непременно сопутствующей ему, толкала людей скорее выйти на берег реки. Подсознательно хотелось быстрее освободиться от накопившейся за долгую суровую зиму усталости от надоевшего холода, вдохнуть свежего весеннего воздуха и увидеть последние конвульсии зимы в этом хаосе переломанных льдин со скрежетом переползающих друг через друга, с явным недовольством покидающих обжитое за зиму место на реке.
Так было и в посёлке Дужный, расположившемся в среднем течении Гремучей. В утренний час на берег приходили все, кто не занят был срочными делами и кто любил этот природный феномен. Река уже очнулась от зимней спячки, пыталась разворошить и откинуть тяжёлое ледяное одеяло, но спросонья получалось неловко и вяло. Ещё не набравши силы, река с трудом освобождала изнеженное тело из-под ледяного покрывала, то тут, то там обнажаясь сверкающими на солнце промоинами. Где-то происходили робкие подвижки огромных льдин, которые безжалостно крушили попавшихся на пути зазевавшихся спутниц. Всё это напоминало белую гигантскую змею, замеченную в момент линьки, когда её старая отжившая кожа с трудом отделялась от тела, не желая уступать новой. Но постепенно, день ото дня уровень воды в реке приподнимался, ледяная масса увеличивалась, заполняя русло от берега до берега шевелящимся ледяным месивом. Движение его медленно начинало ускоряться и шириться. К тому же, наступившие тёплые дни ещё больше способствовали поднятию уровня воды в реке, она заметно раздалась вширь и уже с лёгкостью понесла огромные льдины вниз по течению. Берег оживлялся шумом голосов, когда люди замечали ворон, атаковавших с громким карканьем захваченную врасплох лисицу на проплывавшей льдине, по какой-то причине не сумевшую сбежать на берег с дрейфующего «судна» – теперь её ждало нешуточное путешествие в далёкие края. Часто видели проплывающие остатки какого-то сарая или бани, частенько проплывали стожки сена. Однажды видели трагическую борьбу за жизнь со стихией молодого лося, пытавшегося выбраться на льдину, но так и ушедшего на глазах ошарашенных людей под воду, затёртый льдинами. Много интересных и драматических событий вместе со своими льдами несёт река в половодье.
Галя, впервые в своей жизни наблюдала так близко подобное зрелище на большой реке. Она стояла вместе с подругой Валей, взявшись под ручки. Чуть сзади возвышались Иван с Сан Санычем. Кругом, справа и слева, растянувшись по пологому берегу, стояли односельчане. Даже видавшие многократно это явление природы старожилы, и те не оставались равнодушными к происходящему. А что уж говорить о новосельцах, – у тех всё было написано на лицах. Если человек неравнодушен к подобному действу, то увидеть можно было на его лице и восторг, и изумление, а часто и затаённый страх перед стихией, и гордость от того, что имеешь возможность созерцать это явление природы.
Иван держал на руках и нежно прижимал к груди первенца – двухнедельного сынишку. Лицо молодого папаши сияло счастьем. Он приподнял укутанного в одеяло младенца, приоткрыл ему личико и, повернувшись к реке, тихо проговорил:
– Смотри, Серёга, это твой первый в жизни ледоход. Смотри, как природа просыпается, как новая жизнь начинается. Как и у тебя тоже…
По щеке нечаянно скатилась холодная капелька: то ли набежавший ветерок выдавил слезу, то ли это была крохотная слезинка счастья.
Традиционно в эти дни посёлок жил какой-то особенной жизнью. Все его жители суетились каждый по своим углам в каких-то непонятных хлопотах. Почему-то, как перед пасхой снова прибирались в избах. Хозяйки доставали из сундуков свои завалявшиеся наряды, вывешивали их, сушили на весеннем солнышке, перебирали свои домашние припасы, оставшиеся после зимы. Охотники ревизировали своё охотничье снаряжение, прикидывая на будущее, чего бы ещё не мешало прикупить. А ещё ворошили свои потаённые запасы пушнины, оставленные на чёрный день, также придавали им превосходный вид. Это, конечно, не афишировалось, и об этом знали только местные жители, да и то не все. А теневые скупщики, неминуемо следовавшие с караваном в качестве каких-то членов экипажа баржи, умели держать язык за зубами – не в их интересах тоже было разглашать тайну сделок. Чего греха таить – имелась такая слабость у добытчиков, хотелось им немного улучшить своё материальное положение за счёт чёрного сбыта, успокаивая себя тем, что план-то по пушнине они честно выполняли, и перед промхозом у них совесть вроде бы чиста.
Со времени окончания ледохода все жили в ожидании какого-то грандиозного события. У жителей посёлка Дужный не сходило с уст слово «караван», все разговоры сводились к этому таинственному то ли празднику, то ли местному обычаю под таким названием. Для несведущего, но наблюдательного человека, это показалось бы странным.
С недавнего времени Галя уже считала и себя жительницей этого посёлка, поэтому от её любопытства не ускользнуло необычное оживление, её тоже всё больше начинал интриговать этот таинственный караван. Она прожила здесь всего лишь девять месяцев, поэтому ещё не успела узнать все здешние устои. Иван в двух словах объяснил, что это такое происходит в посёлке. Теперь она немного знала, что каждую весну по большой воде после ледохода с Енисея вверх по Гремучей движется большой караван из самоходных барж. Все они тащат всевозможные грузы для таёжных жителей, останавливаясь в каждом поселении, что расположены на берегах этой реки. Впрочем, такой способ коммуникации существовал не только на этой реке, так было заведено и на некоторых других судоходных реках Сибири. Караваны ждали в тех населённых пунктах по берегам рек, к которым не было других путей сообщения, не считая воздушных. Нет другой возможности снабжать и обеспечивать людей, живущих в отдалении от цивилизации, всем необходимым для их полноценного существования, кроме как снарядив большой караван судов по большой воде. Почти всю зиму готовят его к весеннему походу: проверяют и ремонтируют баржи, подвозят и комплектуют груз. И как только прогонят сибирские реки по своим фарватерам огромные льдины, успокоятся немного от бурного паводка, тогда и будет дан старт этому живительному каравану. И потянется он от вод батюшки Енисея вверх по взбалмошным строптивым сибирским рекам. Но то, что приход этого каравана, по сути, был своего рода ритуалом в жизни таёжников, для Галины было некоторым открытием впереди. Ощутить всю атмосферу праздника прихода этого каравана предстояло со дня на день, и ей самой уже не терпелось по-настоящему проникнуться тем же настроением, что и у остальных, слиться с ними воедино и понять, что это такое.
И вот, спустя несколько дней, она вновь стояла на берегу этой сибирской реки в окружении всех жителей посёлка, высыпавших чуть ли не до единого на берег. С любопытством смотрела на них и удивлялась: какая разная жизнь бывает на этой большой земле. Не приехав сюда, она бы не знала, что такой красивой может быть таёжная река во время ледохода. Галина до сих пор была под впечатлением от того недавнего зрелища, собравшего как и сейчас почти всех жителей посёлка. Ей казалось, что река, как какое-то большое доброе существо неспешно освобождалась окончательно от последних застрявших льдин, как птица отряхивалась от них, постепенно успокаивалась, прихорашивалась, осветляла свои воды и вбирала в себя краски неба и окружающих берегов. При этом своей гордости и мощи не теряла.
Галя, наверное, не испытав первую для себя суровую сибирскую зиму, не ждала бы с таким нетерпением прихода весеннего тепла. Может быть, спокойнее бы отнеслась и к тому, что к середине мая берега уже подёрнулись зеленоватой марью от распускавшихся на деревьях листьев. Ведь, ничего особенного – так происходит повсюду, и везде есть своя торжественность от пробуждения природы. Но наступившие резкие перемены от долгих стуж к теплу навевали ей в этот момент ощущение, что здесь воздух пропитан совсем новыми и неизвестными ей ароматами, наполнен особым таёжным духом, чем-то отличающимся от того, что она ощущала у себя дома, на Смоленщине, например. Она ещё не привыкла к запахам тайги, с удовольствием вдыхала этот аромат и почувствовала себя частичкой этого живого мира, называвшегося таёжным краем. У неё даже дыхание слегка перехватило от избытка чувств.
Она прониклась той же радостью, что и все люди, но пока не понимала, что же такого необычного во всём этом: ну прибыл караван, привёз много нового и интересного? Каждую весну он приходил, и будет приходить – должно уже в привычку войти, а люди радуются и ликуют от счастья. Что же тут необычного? Но не дано пока новому человеку с первого раза понять этой радости, надо прожить не один год и не одну суровую зиму, в буквальном смысле в изоляции от большого мира, чтобы с первых весенних проталин начинать думать о «караване», как о событии.
А в это время в паре километров ниже выходил на простор длинный гружёный караван из множества самоходных барж, надсадно тарахтящих своими двигателями. Вот, что так долго ждали все жители посёлка, и что раскрывалось под этим таинственным словом, имевшим смысл в итоге вовсе не загадочный, а вполне прозаичный, но очень нужный людям, проживавшим на реке Гремучей. Первым из-за поворота показалось пассажирское судно – так называемая «Ракета», оповещавшее своё появление громкой музыкой, звучащей из громкоговорителя на белой мачте. На палубе виднелись люди в нарядных одеждах. Когда «Ракета» подошла к оборудованному причалу, стало видно, что это артисты, наряженные в национальные эвенкийские костюмы, танцевали под бубен замысловатый народный танец. Можно было догадаться, что первое судно везло груз интеллектуальный и являлось проводником культуры в широкие массы загрубевшего местного населения.
Через полчаса показался и весь основной караван. Конца края ему не было видно. Отдельные баржи причаливали к пристани, другие, не задерживаясь, поднимались выше, протрубив гудком, одновременно приветствуя и прощаясь. Галя, машинально взялась считать количество пройденных барж, но отвлеклась и сбилась со счёта. Кто-то помог ей, подсказав, что каждый год караван состоял, к удивлению Галины, ни много ни мало, примерно, из ста барж. Чем только они не были загружены? Одни тащили различные строительные материалы, другие разную технику, третьи загружены были продовольственными и промышленными товарами для магазинов. Особо выделялись топливноналивные баржи. Всё это обилие предназначалось жителям всех населённых пунктов, расположенных вдоль реки, на всём её протяжении до районного центра Варварино – никто не должен быть обделён. Посёлку Дужному также предназначалось несколько цистерн дизельного топлива для нужд местной дизельной электростанции, бесперебойная работа которой поддерживала всю цивилизованную жизнь в этом глухом таёжном уголке. Причалившие здесь ненадолго баржи оставят часть груза: топливо, оборудование, может быть, какую-то технику, – и, слегка облегчённые, пойдут дальше, догоняя основной караван. Не одни сутки он будет тащиться вверх, с разными интервалами несколько дней и ночей проходящие баржи будут будить тишину окрестных мест. Останется лишь одна, которая была приписана к их посёлку, – из года в год этот порядок был неизменным, а капитана и экипаж судна почитали как старых добрых друзей. На борту было написано крупными буквами «Славянка».
Местных жителей больше всего интересовало как раз то, что будет выгружаться с этой баржи. Ассортимент продовольственных и различных промышленных товаров первой необходимости, и прочей мелочёвки на ней был довольно богат по меркам не избалованных и не притязательных таёжников. Главное, что им необходимо было в первую очередь – это пополнить уже оскудевшие запасы соли и сахара, муки и разных круп; побаловать детишек сладостями, купить им обновки. Была тут и бытовая техника, и мебель. Много было и из того, что требовалось рыбакам и охотникам. «Славянка» будет стоять в их «порту» до полной разгрузки.
Караван всегда спешно удалялся, рассчитывая по графику дойти до райцентра, выгрузиться и успеть вернуться ещё по большой воде, иначе река может стать не судоходной, даже уже для разгруженных и облегчённых барж. Ведь Гремучая только в весенний паводок сильна и глубока, а как схлынет основной паводок – становится мелководной для таких судов. Старожилы говорили: случалось такое иногда, что баржи на всё лето здесь застревали, а если вода из-за отсутствия больших дождей так и не поднималась, то баржам приходилось и зимовать здесь на реке, близ посёлков. Бывало, что даже до Варварино в некоторые года не доходили – вода резко падала и судёнышки садились на мель. В общем, такое явление, как весенний проход каравана по Гремучей – было настоящей эпопеей для всех его участников.
В день прибытия к вечеру на «культурном» теплоходе организовывался концерт. Обязательными были и лекции на разные темы – как без этого, надо же просветить отсталых людей всякими новыми открытиями в области науки, да о политической обстановке в мире не забыть рассказать, будто у людей здесь не было телевизоров. Затем «Ракета» спешно снималась со швартов и уходила вдогонку основного каравана, неся культуру следующим по реке жителям. А «Славянка» становилась на некоторое время местом паломничества здешних жителей: люди шли в гости к приветливой команде баржи – по такому случаю даже накрывали щедрый стол в кают-компании. Играли в футбол и волейбол с командой «Славянки».
В магазине, оборудованном в одной из кают, шла бойкая торговля. Женщины толкались возле рядов развешенных нарядов: их интересовали платья и обувь, детская одежонка. Затем они уж выискивали глазами всё, что могло пригодиться для домашнего обихода, для кухни. Мужская половина, то есть добытчики в основном, могли здесь разжиться многими товарами для охоты: и боеприпасами, и капканами, некоторыми дефицитными запчастями для снегоходов и лодочных моторов, одеждой и прочим снаряжением.
Из года в год капитаны самоходок почти не менялись, и местные жители часто заказывали им на будущую навигацию привезти что-то дефицитное. И те держали слово, исполняли заказы по мере возможности и привозили долгожданные вещи или инструменты, даже некрупную мебель. С неких пор между речниками и таёжниками завязались добрые дружеские взаимоотношения. Взамен таёжный народ предлагал свой товар: чаще солёную и копчёную рыбу, кедровые орехи, мочёную бруснику и клюкву – всем, чем Бог послал из таёжных закромов. Кое-кто предлагал свои поделки из бересты и дерева. Не обходилось и без подарков с обеих сторон. В общем, нормальные человеческие отношения. Шёл валовый обмен товаром, предлагаемым местными жителями, на товар, привезённый из цивилизации.
Три-четыре дня держалась праздничная атмосфера, постепенно затухая, переходя в обыденность. Столько же примерно разгружалась и баржа. Всё, что ожидалось с прибытием каравана – ну, почти всё, – было закуплено местным населением, запросы мало-мальски удовлетворены, и снова жизнь в посёлке входила в своё обычное русло – каждый занялся своим делом.
6
Надвигалась летняя пора, притягательная живописной красотой благоухающей тайги, радующей людей урожаем грибов и ягод, а ещё короткими тёплыми летними ночами, наполненными запахами трав и вяленой рыбы. Тёплые речные волны ласкали руки рыбаков, пропадавших на реке сутками об эту пору. Не было в посёлке равнодушных к этому занятию, даже многие женщины научились хариусов вытягивать из стремнины переката, а о ребятне вообще говорить не приходилось – целыми днями в каникулы пропадали на речке. Мужчины в период межсезонья жажду по охоте утоляли удачной рыбалкой. Слава Богу, что речные просторы позволяли: хоть вниз по реке, хоть вверх. А то и в малые речушки, впадающие в Гремучую, забирайся – везде без улова не останешься, богаты местные реки разной рыбой. Старался таёжный народ запастись рыбкой: солили, вялили, коптили.
Были у добытчиков и другие заботы, кроме охоты и рыбалки, – нужно было уделить внимание домашнему хозяйству, слегка пошатнувшемуся без мужского ухода во время охотничьего сезона. Кому-то надо было забор починить, повреждённый высокими паводковыми водами, кому-то обвалившийся погребок укрепить, кому-то новую баньку поставить. Да на огородах ещё хлопотали те, кто более прилежен был к этому земному труду.
Сан Саныч к полудню причалил к берегу, устало спрыгнул на каменистую отмель и вытащил лодку дальше на берег. Разгружать не стал, а только вытянул из носового отсека тяжёлый рюкзак, затем достал большой полиэтиленовый мешок и осторожно положил на землю. Мешок оказался живой, вдруг затрепыхался, зашелестел и покатился, было, к воде, но спешно был перехвачен цепкими руками Сан Саныча. Тот с усилием закинул рюкзак за плечи и, подхватив шевелящийся мешок, тоже хотел закинуть его на спину, но не получилось – что-то увесистое и непокорное таящееся в мешке не давало это сделать. Пришлось тащить его волоком.
Уже дома он с довольной улыбкой гордо вытряхнул из мешка огромную рыбину: на деревянных подмостках широко раскрывая пасть и яростно, в агонии, двигая жабрами, изгибался из последних сил почти полутораметровый таймень. Сан Саныч окликнул жену, с явным намерением удивить её своим уловом, затем взялся обмерять рыбину. Потом сходил в сарайчик и вынес большой безмен, подвесил его на жердь. Кряхтя и демонстративно напрягшись, поднял её к весам и зацепил на крюк. Послышался его восторженный возглас:
– Вот, ничего себе! Почти тридцать килограммов потянул. Я ещё такого ни разу не ловил. Для меня рекорд. А как я с ним боролся… Наверное, около часа вываживал, думал, сорвётся… Ох, силён, таймешка!
Вечером по этому поводу в доме Казариных был устроен праздник. О том, что Сан Саныч словил такого «крокодила» на рекорд, тут же весь посёлок был в курсе – сорока на хвосте эту весть разнесла мигом. Всем любознательным захотелось удостовериться: а не байка ли поплыла по посёлку – такое бывает среди рыбаков. А в самом ли деле такой огромный, что стоит о нём говорить? Местные рыбаки многое видали, удивить их трудно. Дом Сан Саныча претерпел настоящее паломничество благодаря его удачливой рыбалке. Наш герой терпеливо, с едва скрываемой гордостью, но, всё же прибегая к некоторым усилиям, чтобы показать себя спокойным и бывалым рыбаком – демонстрировал свою добычу. По свидетельствам многих односельчан его улов был признан почти рекордным, но нашлись-таки «очевидцы», которые якобы видали экземпляры и побольше, но это было где-то, когда-то, там… Пожалуй, один достоверный факт преподнёс только Карел: ради такого случая он прихватил из дома засушенное чучело головы тайменя, пойманного им в давнее время. Судя по этому чучелу, пусть даже и изрядно усохшему от прежних величин, можно было предположить, что он, наверное, не уступал свежепойманному, но каков был истинный вес того, древнего – увы, Карел, оспорить не решился, точно уж и не помнил. Так рекорд и остался за Сан Санычем до поры, до времени.
Когда многочисленные гости и любознательные удалились с нечаянного импровизированного представления и растворились во тьме ночной, Сан Саныч с Иваном остались одни в кругу своих жён. Так уж повелось с момента семейной жизни – всеми радостями они делились друг с другом. Делились они постоянно и тем, чем Бог послал: что-то с огорода, если первые огурчики в теплице поспели или кто-то в тайге грибов удачно насобирал, обязательно делились лосиным и медвежьим мясом зимой, кедровыми орешками друг друга угощали, рыбкой, хотя и тот, и другой оба были неплохими рыбаками. С лёгкой руки Сан Саныча весь таймень разошёлся по рукам: досталось и Кукшиным, и многим из любопытных посетителей.
Иван позвал друга выйти на крылечко, пока женщины прибирали со стола. Присев на ступеньку, приглашая Сан Саныча, проговорил:
– Помнишь, Санёк, в прошлом году день рыбака отмечали в июле? Нынче его так же будут праздновать. Нам надо чего-то придумать, чтобы было поинтереснее. Как ты думаешь? Вот твой рекорд надо как-то в этом деле использовать. Может, какой-то конкурс организовать?
Сан Саныч слегка удивился преждевременности вопроса, ведь на дворе ещё июнь, но подумал: для них с Кукшей оказалось приятной неожиданностью, когда они впервые узнали, что в этом посёлке существует традиция – празднование Дня рыбака. В первые годы их проживания здесь они не придавали особого значения этой местной традиции. Да, они были вместе со всеми, присутствовали, радовались и удивлялись, что местные таёжные люди вовсе не дикие и не замкнутые, а наоборот, живут полной жизнью, с открытой душой, почитая многие праздники и умея правильно веселиться. Помимо Дня рыбака жители ждали и другие праздники, заранее готовились к ним. Особо почитаемым и обязательным был День охотника, отмечаемый в феврале, очень ответственно и с душою подходили к встрече Нового года, любили Масленицу и Пасху, даже не забывали о Дне молодёжи. А ещё новосельцы уже успели стать свидетелями одного местного праздника, с оттенком национальных традиций коренного народа – эвенков, под названьем «Суглан», посвящённого подведению итогов прошлого сезона и началу нового. В общем, традиции в этом посёлке были крепкие, поэтому сам Бог велел им слиться вплотную со старожилами и быть не отличимыми от них. Но осталось впечатление у обоих, что надо придумать что-то ещё интереснее. Как выразился Сан Саныч, уж чего-чего, а у тебя, Кукша, голова на этот счёт работает.
– Кстати, а ведь в следующее воскресенье День молодёжи празднуют, – спохватившись от неожиданной мысли, проговорил Иван. – Вот удивительное дело, до приезда сюда я об этом празднике как-то забывал, точнее, проходил он как-то незаметно, разве что по телевизору о нём говорили. И всё. Нет, о том, что такой праздник есть, знал, но проходил он мимо меня стороной. А ты помнишь о таком празднике? А здесь, смотри-ка, говорят о нём и готовятся, мероприятия какие-то будут. В прошлом году я его не застал, уезжал на родину в это время. Я тебе рассказывал, помнишь? – Помолчав, Иван неожиданно перекинулся на другие воспоминания. – На Сходню меня тогда занесло, и ребят из той нашей первой группы кое-кого встретил. Да, удивительное совпадение тогда произошло. Слушай, Санёк, а ведь я нашу группу, ту, первую, 1978 года, своей считаю больше, чем ту, в которую после армии влился. А ты как? Не знаю, почему, но она мне как-то роднее что ли.
– Если честно, то и мне она роднее, хотя и вторую группу обижать не стоит, там все ребята и девчата тоже хорошие. Мы вот с тобой даже нашли здесь свою судьбу. Но первая, есть первая, как первая любовь, что ли… – В унисон, задумчиво и философски произнёс Сан Саныч. Потом, вдруг, встрепенувшись, вдохновенно продолжил, – надо будет письма отписать Ольге, Игорю, Сашкам… Почту освежить и загрузить их своими трудами.
– Да, точно. А то мы тут обросли уже мхом таёжным, увлеклись романтикой, о друзьях-однокурсниках как бы не забыть. Но, кажется, мы с тобой отвлеклись от темы, давай подумаем о предстоящих праздниках. Надо что-то своё внести в здешние традиции, чтобы не скучно было.
– Как-то с бухты-барахты в голову ничего не приходит, надо обмозговать, время ещё есть. А какой конкурс? Какие-то соревнования придумать по рыбалке? Я уже больше о рыбалке думаю. Можно… В общем, надо подумать. А ко Дню молодёжи уже не успеть что-либо придумать, мало времени осталось до него. Может, ты чего нарисуешь?
Ещё немного посидели, помечтали и разошлись по домам. Особо в голове ничего не отложилось, но оба ушли озадаченные – идея обоим пришлась по душе и уже не давала покоя.
Наутро ни свет, ни заря в ворота дома Казариных кто-то громко постучал, послышался через минуту окрик:
– Ей, Казарины, хватит дрыхнуть. Всё ещё спите что ли? – Сан Саныч узнал голос друга. Хоть оба и были ранними пташками, и хозяин дома давно уже был на ногах, суетился по хозяйству – всё же столь раннее посещение друга удивило Сан Саныча и вызвало некоторое неудовольствие в нём. Не любил он, когда его отвлекали от приятных хлопот по огороду – в это время он занимался поливкой. Собаки заполошно залаяли, не признав по голосу в раннем госте старого знакомого.
– Здесь я, на усадьбе. Сюда иди. Раскричался, всю деревню на уши поставил, – не скрывая недовольства, крикнул Сан Саныч, затем цыкнул на собак, успокаивая. – Да замолчите вы, ошалелые, не признали Кукшу что ли.
В калитку со двора протиснулся Иван. Лицо его сияло, как ясно солнышко в погожий день. Сан Саныч не удержался:
– И чего тебя в такую рань принесло, случилось чего? А уж физиономия-то вся расплылась от удовольствия… Ха-ха, – хмыкнул Сан Саныч. – Ты, никак чего-то придумал, да такое, что и терпенья не хватило, побежал поделиться. Ну, давай рассказывай.
