Источник
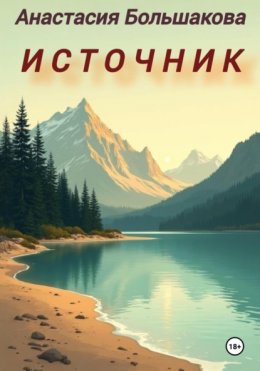
Я сидела на холодной табуретке подобрав ноги, на кухне с покрашенными до середины в отвратительный синий цвет стенами и курила. По крыше и окну стучал дождь. Мерзкий серый день висел за окном пятого этажа и неприятной сыростью сквозил в щели между рам. Слышно было как едут машины, что-то кричат в соседней квартире мужик с женщиной и детские визги. Какая-то однообразная, повторяющаяся изо дня в день, из года в год, картина. Как в кино – скучном и неинтересном. Опавшая листва гнила на земле. Позже снег, ее спрячет ненадолго, потом трава спрячет летом, но я же знаю, что там она есть – гнилая, черная, безжизненная листва, никому не нужная. Никто не будет восхищаться ей. Никто не сгребет ее в охапку, радостно не подкинет. И не возьмет домой, чтобы положить в книгу на память. Конечно, она превратится в листовой перегной, который является ценным удобрением, но она уже не будет собой. Со мной происходил такой же апоптоз.
В соседней комнате что-то мычала пьяная мать. Я сидела поджав ноги, потому что по полу ползали тараканы. Сигаретный дым перебивал вонь, въевшуюся в эту ненавистную мне квартиру, въевшуюся в меня. Мне не хотелось жить и умирать не хотелось. Вакуум. Такое состояние, когда нет ничего внутри. Ни переживаний, ни злости, ничего. Только пустота.
Мой отчим ушел от нее несколько лет назад. Он нашел другую, моложе, интереснее, без детей. Сам он был говном редкостным, но конечно не замечал этого и думал, что он натуральный изумруд редкой огранки.
Хотя, надо отдать ему должное, в моем детстве я была самая модная. Отчим ходил в море старпомом. Джинсы, жвачка, видеомагнитофон. Ни у кого в нашем районе этого не было, кроме меня. Они с мамой смотрели по ночам фильмы ужасов, триллеры, боевики. А я подсматривала в замочную скважину двери. Спина наутро болела, уроки были не выучены, но я на удивление была самой умной в классе. Повезло. Случайная комбинация хромосом, учится было легко. Я понимала и решала задания по всем предметам, как будто уже была в школе раньше, прошла это все и помню до сих пор.
Когда отчим ушел, мать запила. Я не понимала, почему она пьет. Ну и пусть катится этот урод, зачем он нам? Он проявлял ко мне ненормальный, даже мне понятный, сексуальный интерес. Когда у меня выросла грудь, примерно в пятом классе, он «нечаянно» касался ее и спрашивал, не болит ли, просил дать посмотреть. Я отнекивалась и старалась приходить домой только когда дома была мать. Мерзла на улице до вечера после школы или оставалась на дежурство в классе допоздна, но это в итоге меня не спасло…
Я помню, что безумно любила читать. Я прочла все книги в библиотеке, мне кажется я погружалась и жила в том вымышленном книжном мире, заменяя им свою реальную жизнь.
– Пить дай! – вырвала меня из воспоминаний мать.
Неохотно слезая с табуретки, с хрустом раздавливая тараканов под ногами, я подошла к крану за водой. У меня нет больше брезгливости. Я не умею быть чистой. Я сломалась и меня нельзя починить. В квартире летали мухи. Пять лет уже тут не мылись полы, окна, не стиралось белье. Мы работали с матерью по сменам в ларьке возле дома. Когда пила она, работала я, когда пила я, работала она. Мы не платили за квартиру, не отчисляли налоги, нам было все равно.
Я не видела смысла в этой жизни. Зачем? Для чего? Чтобы что?
Меня имели мужики, давали мне денег, никому я была не интересна со своим внутренним миром. А был ли он у меня этот мир? Никому не хотелось мной восхищаться. А мне и не надо. Мне все равно, я в вакууме. Я не тратила время, реально понимая, что из этого дерьма мне никогда не выбраться.
У меня не было друзей, подруг. Все закончилось вместе со школой. Взрослая жизнь обволокла сигаретным дымом, пьяным угаром и погрузила во тьму. Однажды мы встретились с одноклассниками. Меня смешила мысль – неужели им и вправду интересно разговаривать, и восхищаться друг другом? Да вообще, все равно. Кто где работает, кто кем стал… Каждый день все встают одинаково с кровати, жрут, срут и целый день пашут, чтоб заработать себе на еду. И на бухло. Иначе никак.
Я поступила в пединститут на бюджет по собеседованию, вне конкурса, так как школу я закончила почти с отличием. Но я не пришла ни на одну лекцию и так до сих пор там лежит мой аттестат. Кого учить? Дебилов? Детей дебилов? В ларьке платят в два раза больше, чем учителю. И пьяные мужики оставляют хорошие деньги.
Через несколько дней мать умрет, думала я. Надо подождать неделю, потому что должна прийти пенсия. Мать станет разлагаться, я вызову скорую. Совру, что меня не было дома.
Сейчас всем все равно. У нас нет санэпидстанции, как раньше. Частная собственность, не имеют права.
Никому не нужная, никчемная жизнь. Бесполезная и все тут.
В дверь постучали. В комнате отозвалась стоном мать.
Я снова слезла с табуретки и с тлеющей сигаретой в руке пошла открывать. Мне вообще все равно кто это. Вонь и грязь в этой квартире запечатала во мне все эмоции. Я не жила, не чувствовала, не понимала. Единственное, чего я хотела, это уйти из этого мира. Гнилого и черствого, серого, мокрого и холодного.
Я открыла дверь и почувствовала резкую боль в голове. Темнота…
– А как же мать? Ее спасать не будешь? – гулко отозвалось в голове.
– Поздно уже, никак. Она последняя, – голос бархатный, тяжелый, словно говорил контрабас.
– Почему ты всегда так бьешь сильно? Не боишься мозги повредить? – не унимался болтун. И я провалилась в темноту и пустоту.
– Приехали, – мелодично пропел в голове контрабас.
Резко поехавшая дверь микроавтобуса выдернула меня из забытья. Холодный воздух хлестнул по лицу. Было темно. Вечер? Ночь? Да какая разница. Меня знобило то ли от страха, то ли от холода, я не могла распознать. Чего я боюсь? Что может в моей серой жизни произойти такого, что страшнее разлагающейся матери в соседней комнате?
Меня подняли под руки и аккуратно вытащили из машины. Не толкали, не дергали, руки мои не были связаны и я, ощупав лицо, обнаружила запекшуюся кровь под носом. Кляпа тоже не было. Можно было заорать, позвать на помощь. "А зачем?", – подумала я и молча шла между двух мужчин в кожаных куртках. Кожа пахла и хрустела, вызывая у меня детские воспоминания о папе.
Он ушел, когда мне было пять. Мать сказала мне, что он погиб и больше не вернется. Фотографий с ним не было, я помнила только его большие белые зубы и усы. Потому что они щекотались, когда он меня целовал. Он единственный, кто меня целовал по-настоящему, по любви. Я не помню своих страданий, просто мир мой так был тогда устроен, что я приняла это как должное – погиб, значит так надо. Жизнь без папы стала как будто бессмысленна, бесцельна, беззащитна.
…Мои ноги промокли почти сразу. Я не видела впотьмах, куда иду. Шлепала по лужам и не поднимала головы. Мы шли минут десять по тропинке, размытой дождем. Вокруг был мокрый лес. Деревья, кривым забором, стояли вдалеке и трава, окружавшая его, уже поникла и пожухла. Лес был как будто нарисован ребенком – уродливые, с редкими листьями, деревья переплетались и шуршали от ветра и дождя. Он был не живой, низкорослый и запутанный. Пахло гнилью и землей, сильно хотелось курить.
– Покурить дайте, что ли, – я услышала свой голос как будто со стороны. Хриплый, грубый, как наждачная бумага, он теранул воздух. Мой конвой молчал.
Мы вошли в лес и еще долго шли как будто без цели.
Я даже не предполагала, что где-то, в районе места моей прописки, есть такой лес. Хотя, сколько по времени мы ехали на машине, я тоже не знала.
Меня начали покидать силы. Я вспомнила, что не ела со среды, но какой сегодня был день вспомнить так и не смогла. В среду мать была трезвая и отварила картошку. Мы ели ее с селедкой и очень кислой квашеной капустой. Я ела тогда, когда мать не пила. В остальное время я не готовила и, соответственно, не ела. А с учетом того, что я сама пила практически каждый день, то можно сказать, что ела я раз в неделю где-то. Это всегда была картошка с селедкой, я не помнила вкуса другой еды, забыла его. Хотя, раньше, когда отчим жил с нами, мать готовила постоянно разносолы. Занималась консервацией, делала закрутки. Часто дома пахло пирогами. Но это все было только для него, мне можно было брать, когда все поели…
…Я споткнулась о корягу, упала на землю и, развернувшись, лежала. подставив лицо небу, с которого лился дождь. Сильные руки сгребли меня в охапку, и я потеряла сознание.
Дождь прекратился, где-то еще капали капли, но редко и скорее всего только с деревьев. Я не хотела открывать глаза. Тело онемело и не слушалось. Мою голову приподняли, сухих губ коснулась бутылка и я жадно начала глотать воду. Захлебывалась и пила, как будто у меня кто-то собирался ее отобрать. Кружилась голова, пульсировали виски, понемногу возвращалось сознание.
Я открыла глаза и увидела, что мы находимся в каком-то бараке. Нас было много и все женщины. Поила меня тоже женщина лет 35, худая с выпуклыми венами на руках.
– Ты кто? – спросила я напившись.
– Мира, – тихо сказала женщина.
– Ммм…– я легла, отвернулась на бок и, закрыв глаза, попыталась вслушаться в то, что происходило в бараке.
Женщины тихо разговаривали, не было возмущения, паники или вопросов. Простое общение в темном сыром бараке в глубине леса, ничего необычного. Я ощущала, что сильно замерзла, что вся моя одежда сырая и я грязная. Мне не хотелось помыться, но согреться и высохнуть надо было бы.
В барак зашли двое мужчин, как будто те же, в кожаных куртках, от них исходила сила, уверенность и спокойствие. Им хотелось доверить свою жизнь. Вот так, взять всю свою никчемную жизнь и положить в ладони.
– Вставайте в пары и выходите друг за другом, – скомандовал контрабас.
