СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ
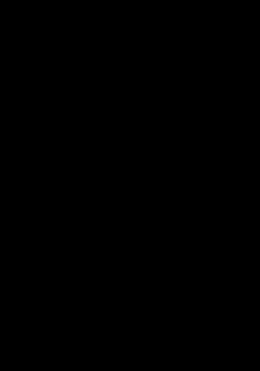
СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ
(дедушкины книжки)
ВКУС ХЛЕБА
Вспоминаю расписанный незамысловатым рисунком сусек, где хранилась заработанная в колхозе на трудодни пшеница. Я любил зарываться в этот приятно щекочущий ворох, где, заигравшись, нередко засыпал. Когда из закром все до зернышка вывозилось на мельницу, в избе еще долго стоял запах солнца.
Хлеб в пору моего детства, в основном, стряпали сами. Я помню, как мать делилась свежевыпечкой с соседкой тетей Валей Кармацкой, а в следующую неделю, чтобы не «гонять» печь, она отстряпывала нам.
Была на краю села и маленькая сельповская пекарня. Небольшой производительности, она выдавала за смену чуть больше сотни булок душистого белого хлеба. Охотников до магазинного продукта было много, и люди с раннего утра собирались у сельмага, ожидая хлебовозку Васи Гуськова. Мы жили неподалеку, и я старался в числе первых занять очередь. Но как бы рано я не приходил, там всегда сидел старик Фоменко, который и летом не расставался с валенками и ватной душегрейкой.
Давали только по одной булке в руки, и я за какие-то двести метров до дома успевал хорошо пощипать золотистую корочку. Мать ворчала, но всякий раз отковерзывала от нее ломоть и тут же аппетитно уплетала.
Непростое деревенское детство мало баловало многих из нас сладостями. Довольствовались пареной морковкой да черемуховой кулагой. А больше таскали куски домашнего хлеба, иногда посыпанного сахаром. Однако сын директора маслозавода, мой одноклассник Вовка Крук выходил на улицу с большим ломтем хлеба, намазанным сливочным маслом и медом. Когда он откусывал кусок от аппетитного бутерброда, зеленая капелька дежурно свисала с его носа. Мы брезговали и никогда не просили его отломить чуток…
Прошло шестьдесят лет. В селе нарушены многие производства, не устояла в этом широкомасштабном разломе и сельская пекарня.
ПРАЗДНИКИ ДЕТСТВА
Первое весеннее пробуждение природы, и наш 5А под руководством школьного трудовика Алексея Павловича делает скворечники. С прилетом скворцов начинается дружное снеготаяние, и мы пропускаем воду, роем канавки, устраиваем запруды и ставим на них маленькие водяные мельницы. В лесу идет сокодвижение, и мы с соломинками припадаем к березовым стволам насладиться соком.
Но вот отменяются занятия, и начинается общешкольный дроворуб. В нашей школе семнадцать прожорливых круглых печек, и дров нужно много. В обязанность каждого ученика входила заготовка дров. И чем старше он был, тем больше нужно было напилить. Старшеклассники объединялись в бригады и заготавливали самостоятельно. Ребятам помладше помогали родители.
Тут и там на огромной деляне пестрит одежда, звенят топоры, шипят пилы вперемежку со смехом. Физрук Василий Евдокимович ходит с «контрольным» колуном и разбивает неподдающиеся чурбаны. Взмахнет полупудовым инструментом пару раз и идет дальше, эффектно поигрывая мускулами. Завхоз Иван Петрович придирчиво обмеривает поленницы. И, если кубометры с «дырками», работу не примет. Чуть поодаль, ловко орудуя топором, валит лес школьный конюх Сергей. За ним не поспевают два других вальщика с двуручной пилой. Тут смекалка нужна, расторопность!
Общий обед – не было видеокамер отснять эту живописную картину! Дымят костерки, печется картошка, жарится на палочках уже пожелтевшее зимнее сало, а на полотенцах разложены пироги, вареные яйца, лук.
Дроворуб, прополки лесопосадок в местном лесничестве, осенняя копка картошки и свеклы, дерганье льна – ни одна кампания не обходилась без помощи школьников. Зарабатывали на школьное оборудование, на инвентарь, на поездки и походы. На карманные расходы тоже перепадало.
К тому же в летние каникулы доводилось работать на совхозном строительстве, в бондарке местного маслозавода или возить копны на сенокосе. Но больше всего нам удавалось заработать на заготовке ивовой коры для дубления кожи. Целыми днями приходилось вязать тяжелые пучки и вывозить на багажнике велосипеда. Эффективных препаратов от насекомых не было, и мы постоянно были искусаны и исчесаны. Я помню, как один знакомый старшеклассник заработал на этом промысле на велосипед. Мне велосипед на целое лето уступил физрук Анатолий Дмитриевич. В то лето школа приобрела два «Урала», и один достался мне.
Летом на нас обрушивалось столько всего, что терялись от восторга и не успевали испытать все, что положено в это прекрасное время года. Игры чередовались с посильным трудом в домашнем хозяйстве и на огороде.
Незабываемые моменты посадки картошки. Взрослые копают лунки по свежевспаханному, а ты бежишь, проваливаясь босыми ногами в прохладный чернозем с ведром косматых клубней, еле поспевая за лопатой. Первые смельчаки уже искупались и хвалятся, придя в клуб на вечерний сеанс.
Середина мая – и скоро каникулы. Но мы почти все лето будем привязаны к огороду: нужно прополоть картофельные всходы, а потом окучить. Это особенно трудоемкий процесс. В летнюю жару, обработав несколько рядков, бежишь к речке. А там, на песчаном берегу, только и разговоров об огородных делах.
Вечером, когда спадает жара, окунувшись в речке который раз, бежишь поливать огуречные грядки. На них еще три листочка, и урожай будет не скоро.
Но сосед дядя Коля от своих гряд уже натянул ниточки с колокольчиками. Спасут ли они урожай от нашествия предприимчивых деревенских мальчишек?! Колокольчики – приспособление безобидное, но был случай, когда один старик набил в доски гвоздиков и простелил их вдоль огуречных грядок. Родители пострадавших пацанов пришли и молча перевернули его огородное хозяйство. Конечно, лазанье по чужим огородам не поощрялось и наказывалось, но и изощренные методы охраны осуждались не меньше.
За подсолнухами тоже охотились. Мы жили возле клуба, и любители полузгать семечки во время сеанса не раз заскакивали на огород и откручивали «шляпы».
Как-то по весне мы с соседом Васькой углубились на велосипедах к дальним полям. В кустах наткнулись на слегка замаскированные мешки с семенами подсолнечника. Был грех: пока мы не перетаскали целый мешок – не успокоились. Недостающего семенного материала хватились, и в школу с расспросами приходил бригадир. Он выспрашивал ребятишек, пугал, что семечки протравлены. Но нас не проведешь. Прежде чем пустить их в дело, мы провели испытание на голубях и воробьях. Воробья точно никакая зараза не берет, а голубь – птица нежная.
Каникулы в разгаре, и давно открыт рыболовный сезон. Но еще в половодье мы с дядей Колей, прочесывая мутную речку вдоль берега, вычерпывали сеткой-наметкой щук, окуней, чебаков и другую зазевавшуюся рыбешку. Вода прошла, отступила от берега, прочистилась, и настало время ужения.
…Петькина бабушка Анна крепко сжимает рукой щиколотку ноги и, словно боясь вспугнуть порхающих над цветущими огурцами бабочек, полушепчет: «Вставайте, рыбаки!»
Понятно, что уже не в первый раз она нас тормошит, как наказывали мы ей с вечера. Но рыбаки допоздна заигрались в картишки, и теперь вылазить из сенных нор не хочется.
Петька, хоть и младше меня, но, проявив «героизм», спрыгивает с сеновала первым. Кусок хлеба, стакан молока на ходу, и вот мы, закинув на плечи удочки, полусонные, натыкаясь друг на друга, бредем вдоль берега. Густой туман садится на плечи и остывает чистой росой. Сапоги скрипят об осоку.
Пока дошли до заветного омута, подсветало, солнце показало красноватую макушку, и мы, окончательно взбодрившиеся, повеселели. Но нас уже опередили – заядлый рыбак Ванька Хабаров сидел между двух воткнутых в берег удилищ. Нам кажется, что он тут с вечера. Вон и костерок полудымится, а на спущенном в воду кукане бултыхается улов.
Ловля рыбы, костры с печеной картошкой, первые грибы-обабки, жаренные на палочках, езда на вершной, шалаши и покосы – все это переходило в последующие возрасты.
Припал к кормушке конь Буланый,
Усердно хрумкая овес.
Ему, трудяге, завтра рано
Везти людей на сенокос.
А мы возьмем побольше хлеба,
Нальем в бидончик молока,
И заскрипит наша телега,
Перегоняя облака.
Нам не понадобятся вожжи:
Наш конь дорогу знает сам.
И днем, и вечером, и позже –
Придет Буланко к шалашам.
Сенокосный стан, где мы обосновались с Сергеем Давыдовым и соорудили шалаш, находился километрах в семи от села. Раза три в неделю я ездил домой на велосипеде. Привозил молоко и свежий хлеб. Бидончик мы ставили в вырытую под кустом смородины ямку, и молоко сохранялось прохладным.
Днем Сергей гонял по обширным лугам конную косилку, а я присматривал за лошадьми и нашим хозяйством.
Однажды, собирая сушняк для вечернего костра, я углубился за границы наших угодий и наткнулся на огромную грибницу. Груздей тут было видимо-невидимо. Чуть прикрытые прелой листвой, они, словно гвозди, торчали один к одному.
Запыхавшись от восторга, я понесся к Сергею. Сначала он не поверил, но, увидев, как горят у меня глаза, заинтересовался. До потемок мы тогда ползали по этой чудо-поляне. Пришлось даже телегу сюда подгонять.
Дня три мать возилась с груздями: чистила, отмачивала, солила в пятнадцативедерной кадке. Картошка в ту осень неплохо уродилась и на столе всегда была в компании с груздями.
Такого грибного урожая больше не встречалось. Через несколько лет мы специально ездили на грибную полянку – хоть бы один попался.
Зима нас воспитывала ничуть не хуже лета. Красочная разница между снежной белизной и летней травой, контрастное разнообразие впечатлений особенно ощутимы.
…Отчима Сергея я давно упрашивал взять меня «по сено», и он, в конце концов, сдался.
…Еще затемно, когда и собаки в своих будках не проснулись, четыре подводы, одна за другой тронулись в путь.
Сначала шли по прилизанной грейдером дороге, а километрах в трех от села свернули к ерику. Я сидел на замыкающей подводе, укутавшись в тулуп, вглядывался в укрытые снегом перелески и фантазировал о волчьей стае, о зайце, убегающем от лисы, о лосе. Начинало светать. На заснеженной целине лошади сбавили темп. Проворной буланой кобыле приходилось торить путь, и ей доставалось больше всех. Местами снег был глубокий, и конские хвосты стелились по нему.
Стожок, укрытый белой покосившейся шапкой, нашли быстро. Дальше за перелеском «разбежалось» еще несколько стожков, но они были не наши. Морозец навис над заснеженным лугом, и все живое попряталось. Но вот пролетела и, просигналив, выдала нас сорока, и это немного оживило безмолвие.
Взобравшись по веревке на верхушку, Сергей «распечатал» стог и кинул хороший навильник вниз. Я по клочку бросил лошадям, и они, переглядываясь, как люди, захрумкали.
Где-то к обеду со стожком управились, разложив и забастриковав все четыре подводы. Когда заскребли «одонки», мыши черными горошинами высыпали на белый снег. Сергей не стал до конца разрушать мышиные зимовья и оставил немного сена. К тому же лоси могут подойти сюда и покормиться.
Наскоро перекусив, засобирались, расставляя наш конный поезд. Мороз крепчал, и потные бока животных покрылись инеем.
С грузом, хоть и по проторенному пути, лошади шли тяжело. Парфеныч жалел их и на больших заносах соскакивал с воза, шел рядом, ободряюще посвистывая. Основная работа была на нем, и я видел, что он тоже устал и запарился.
Когда въехали на окраину села, лошади, почуяв дом, прибавили резвости. Было уже темно, и у нас хватило силы только выпрячь и накормить их. Мать и сестра ждали нас с «праздничным» ужином. За столом Сергей хорошо «обмыл» удачную поездку. Заикаясь, он рассказывал о нашем путешествии, о том, что и я не подкачал. Я уже приладился спать на печке, а он, захмелевший, тыкал вилкой в чашку с груздями, которые отскакивали с писком, словно лягушата.
Больше съездить «по сено» мне не посчастливилось. По весне, когда мать была на ночном дежурстве, отчим, собрав свои нехитрые пожитки, ушел от нас совсем. Мы с сестрой спали и не слышали. В доме еще долго пахло лошадиной сбруей и терпким самосадом, который он сам выращивал в дальнем углу огорода.
Много теплых воспоминаний осталось, связанных с этим человеком. Вот и зимнее сено всегда для нас было кусочком лета.
Я ПОМНЮ…
Школа, где я начинал учиться, стояла в некотором отдалении от остальных учебных корпусов. В простонародье ее называли «зеленая» – по цвету ставней.
Почти четырехметровые потолки и огромные окна старинного здания давали свет и простор. Зимой смеркалось рано, и к концу второй смены в классах зажигались фитили больших керосиновых ламп, висящих вдоль стен. В каждом классе было по шесть-восемь штук. Лампы постоянно заправляли, и стойкий запах керосина держался долго. На нашей заречной улице тоже не было электричества.
Школа в четыре здания,
Которых давно уже нет –
Они в моем детском сознании
Оставили памятный след…
К нашей школе прилегала территория местного промкомбината. Его цеха и мастерские давали работу многим жителям двухтысячного села.
Я хорошо помню эти минипроизводства, которые возглавлял маленького роста, но с большим организаторским чутьем, Илья Михайлович Шелк.
В крахмальном производстве трудилась моя мать, а в швейной мастерской к каждому учебному году нас обмеряли и шили рубахи, брюки и зимние телогрейки, которые были теплыми спутниками большинства сельчан.
Как-то вместе с телогрейкой мать заказала мне к зиме и стеганые ватники. Добротная вещь для катания на санках и для лесорубов, но не для школы. В первые же дни ребята начали подшучивать, подхихикивать и даже подставлять под мой зад перья, испытывая толщину ватников.
Домой я приходил со слезами – мать успокаивала меня, понимая, что негоже отправлять ребенка в такой одежде, но другой не было, а приобрести что-то сносное не хватало средств.
К концу зимы насмешки кончились, и я смирился с необычной одеждой. А однажды они меня здорово выручили…
Играли мы как-то в лапту, и только я замахнулся ударить битой по мячу, как сбоку с рыком бросилась на меня соседская собака. Вцепилась в голень и ну рвать мои ватники. Кусок материи выхватила, а ногу не прокусила.
Дома мать не ругалась, а только выдохнула:
– Завтра в школу не пойдешь, а там что-нибудь придумаем!
Вечером мы с ней нагребли несколько мешков прошлогодней, но еще ядреной картошки, а утром она свезла ее на весовую крахмального цеха. Вырученных денег хватило на заказ в швейную мастерскую. Горбатенькая портниха тетя Нюра Катюшина, у которой я брал для игры пустые тюрячки, постаралась. Эти брюки я бережно относил года два, и только к выпускному мне справили обновку.
С обувкой в детстве мне повезло больше: родной дядя был прекрасный сапожник. К лету он шил мне крепкие кирзовые тапочки, а зимой модельно подшивал валенки.
Николай Ильич еще с военного детства овладел сапожным ремеслом, знал его тонкости и премудрости. В сапожной вместе с ним трудился глухонемой Василий Карпухин. Мастер тоже опытный, но, как говорят сапожники, «без стельки». И в мастерской, и на дому больше доверяли золотым рукам дяди Николая. Когда он, как всякий талант, уходил в загулы, многие люди откладывали свои заказы до полного просветления мастера.
Я часто бывал в пронизанной солнцем и запахом хрома сапожной. Приходили клиенты, приносили заказы и последние новости. Здесь всегда было по-домашнему уютно и весело.
Иногда заказчики задерживались долго, чтобы послушать незамысловатые мелодии слепого Коли-гармониста. Он приезжал в село из соседней деревни. Летом играл у сельмага, а зимой имел удовольствие развлечь приветливых сапожников.
Под мелодию его старенькой «хромки» работалось легко, и дядя в который раз распевно намекал:
Мне не надо пуд гороху…
Коля-гармонист улыбался, слегка раскачиваясь, и пальцы виртуозно бежали по клавишам…
На этой мажорной ноте можно и закончить эти заметки, но был на примыкающей к школе территории еще один рабочий участок – небольшое колбасное производство. В ограде, перед нашими окнами, забивали лошадей и крупный рогатый скот. Более наглядного урока жестокости я не встречал. Конечно, здесь истребляли старых и немощных лошадей и других копытных, но картина была не из приятных.
…Достаю старый сапожный молоток, которым стучал не один десяток лет мой дядя. Он из тех вещей, прикосновение к которым включает память далекого детства:
БАНЬКА ПО-ЧЕРНОМУ
Старый киношник дядя Вася Ткачук вышел на пенсию, и обслуживать киноустановку прислали молодую девчонку. Наш домик был через дорогу от Дома культуры, и она упросила мать пустить ее на квартиру. Освободив место для квартирантки, спать я перебрался на большую, в пол-избы, печь.
Печи в деревнях топили круглый год. Готовили еду себе и скотине, какая в хозяйстве водилась. Холодильников не было, и чугунок с варевом целыми днями упревал в загнетке. Дров уходило много. К тому же мать частенько ставила возле протопленной печки большую оцинкованную ванну, и мы поочередно мылись. Старые люди рассказывали, что и в самой печке некоторые семьи мылись и даже парились. На этот случай зев печи делали несколько шире.
Чуть постарше я стал ходить в баню своего приятеля Петьки. Домик у них был старый и тесный, а вот баня – светлая, просторная и с большим окошком.
После бани я оставался у них ночевать, и мы, наладив от батарейки карманного фонарика освещение, допоздна засиживались на сеновале с картами.
Отсюда был хороший обзор на огород, на дальние мостки через речку, а банное окно и вовсе было под носом. Когда его не занавешивали, мы тихонько повизгивали от любопытства.
Кстати, наша мальчишеская любознательность спасла жизнь Петькиному деду…
Припозднившийся и слегка подвыпивший, надумал он помыться. Разделся – все честь по чести – но, не сделав и двух шагов, рухнул своей неспортивной массой на пол. Падая, он зацепил рукой окно и вдребезги его разнес. На звон стекла мы рванули в баню и увидели шокирующую картину: дед Иван, окровавленный, лежал на полу и тяжело стонал.
Подоспевшие взрослые увезли его в больницу. Рану зашили, и все обошлось. После этого случая пьяным он в баню больше не ходил. Как позднее выяснилось, он не заметил валявшийся кусок мыла и наступил на него. Проделав вдоль бани балетное фуэте, он и грохнулся, распоров вену о стекло.
Так бы и ходили мы с матерью и сестренкой по чужим баням, если бы однажды дядя Миша не привез нам долготье на дрова. Долго лежали березовые хлысты за сараем, пока мы с Петькой ради развлечения и игры не надумали строить баню. Ошкурили «бревна» самостоятельно, а как делать зарубы на них, приглядели у плотников, которые строили новую почту.
Со своим сооружением мы изрядно намучились. Лес был нестроевой, и нам приходилось стесывать кривулины топором и укладывать в сруб. С перерывами на беготню к осени мы подняли строение до высоты наших вытянутых рук. Но, когда настелили горбылины на пол, верх пришлось еще ряда на три подрубать. Выпилить небольшое оконце не составило труда, а с дверным проемом, с косяками, одобряя наше ‘грандиозное” строительство, помог почтовик дядя Коля.
Поначалу мать не верила в нашу затею и ворчала: «Лес изведете, а толку не будет». Но когда мы, словно грибную шляпку, приладили крышу-односкатку, она тоже стала нам оказывать содействие в приобретении необходимых материалов.
Затея так нас увлекла, что мы забыли про кино и про игры, словно строили какую-то невиданную штуковину.
Подходили, интересовались знакомые пацаны: подшучивали, похихикивали. Люди с большака стали примечать наше неказистое сооружение и останавливаться. Завидев мать, председатель совета Наполеон Буйнов то ли с иронией, то ли всерьез заметил: «Новострой-то, Ильинична, надо зарегистрировать!»
Избушка на курьих ножках, как мы ее прозвали, была готова. Но, чтобы сделать ее баней, нужна была печь-каменка. Кирпичи нашли без проблемы, а вот подходящей бочки не было. Но мы были проныры еще те, да к тому же к делу подключили грозу совхозных курятников Ваську. Он и навел на брошенные за территорией ветлечебницы бочки с сильно вонючим содержимым. Но выбора не было, и мы два вечера сливали загустевший ветпродукт на землю. Тут же, в лесочке, мы как следует прожгли бочку, почистили и по темноте укатили домой.
Как потом оказалось, в бочке был ценный креолин для лечения скота. Ветеринар Гаврила Зонов даже не хватился пропажи. А может, он и вовсе был просрочен.
За давностью лет я уже не помню, как испытывалась наша банька по-черному, но она долго служила. В ней, неказистой и тесноватой, мылись друзья, приезжие родственники и, конечно, мы, ее создатели.
Ни нашего дома, ни баньки давно уже нет. Все забурьянено. А почтовский дом, который строили в один год с нашей баней, еще стоит и обслуживает немногочисленных жителей Кротово.
ЭРА ВЕЛОСИПЕДОВ
Лет в десять я начал осваивать велосипед. Это был полутрофейный, собранный из разных запчастей двухколесник соседа-фронтовика. Родные у него были только рама да странный, как коровьи рога, руль, а вместо камер приспособлены поливальные шланги.
Крутить педали этого тяжеленного сооружения десятилетнему мальчишке было непросто. Но, несмотря на это, я целыми днями возился возле него. Приятнее всего было спускаться на этом драндулете с горы. И мы с приятелями сигали с самых больших крутояров.
Исхлестанные ветками ивняка и крапивой, мокрые и уставшие, ненадолго забегали домой перекусить и снова каскадерили. Как поговаривала моя бабушка – день-деньской лындали, забывая про обед и ужин.
Иногда мы довольствовались хлебом, который выносил и щедро раздавал сосед Юрка. Вкуснее, чем стряпала его мать, тетка Мария Боголюбова, мы не знали. Юркины родители были просты и приветливы. Между собой соседи доброжелательно называли эту большую и дружную семью Человеколюбовы. У них был единственный на нашей улице мотоцикл «Иж-49», и дядя Коля охотно катал на нем ребятишек.
Но все же велосипед был для нас самым желанным видом транспорта.
…Колька Саблин был много старше нас, и у него первого появился новенький «ЗИС». Велосипед черной окраски, как правительственная «Волга», и с противоударными ободами, вызывал у нас восхищение. Первое время он жалел велик и не мог на него надышаться. Мы бегали за ним, не рассчитывая прокатиться. Иногда ради забавы он привязывал к багажнику березовую вицу и мчался по дороге, обдавая нас веселой пылью.
Когда наскучивала пустая беготня, мы шли за реку к Чуре – так ласково звали мы Петьку Чуракова, который придумывал к велосипедам люльки, тележки, охотно собирал и комбинировал из старья. Он был мастеровой и горазд на всякие выдумки и рацеи. В школе он учился неважно, но в технике волок, и к нему с задельем обращались даже взрослые.
Колька Саблин никаких колясок не цеплял. Он демонстрировал на своем двухколеснике сверхнагрузку и сверхпроходимость. На багажник, на раму, на руль и даже себе на плечи он усаживал до пяти человек и, по-цирковому балансируя, тяжело крутил педали.
Заводские испытатели навряд ли додумались бы до такого! Собравшиеся с тревогой и волнением наблюдали, выдержит ли велосипед такую пирамиду, не полопаются ли, словно макаронные палочки, спицы.
Со временем велосипед уже потерял свой блеск, и камеры прошли не одну клейку. Теперь уже Колька и нам давал немного покататься.
Когда появились велосипеды в других семьях, внимание к Колькиному побитому «ЗИСу» угасло. Моему другу Петьке Симонову тоже купили велосипед, и он, малорослый парнишка, не доставая до педали, наловчился по-взрослому на нем ездить. Я был старше Петьки, но все еще изгибался под рамой.
Сергей Давыдов, против конюховских правил, тоже приобрел велосипед. Не имея навыков, недели две его объезживал, а освоив, горделиво «рассекал» по улицам.
Как-то, припозднившись, он не заметил в потемках лежащую на дороге корову и наехал на нее. Перепуганная животина вскочила на ноги, испражнившись в сторону незадачливого ездока внушительной «лепешкой». Отряхиваясь, Сергей с грустью смотрел на изогнутое в «восьмерку» переднее колесо.
…Взрослели мы, уходила и мода на велосипеды. Многие пересели на мотоциклы. Маломощные «Козлы», «Ковровцы», «Ижаки» с утра и до потемок тарахтели на сельских улицах. Пересел на «мотор» и Колька Саблин. А умелец Чура переквалифицировался в мотомеханики. В доме его бабушки Кати была целая мастерская, которая ни дня не простаивала. Петька работал не за деньги, а за интерес к технике, и когда включал свой самодельный сварочный аппарат, то по всей улице в домах гасли лампочки, и выключались телевизоры.
…Городские магазины нынче завалены разнообразной велотехникой. Современный дизайн, многозвездочные передачи, никелированные обода и приемлемые цены. Но все это китайский маловыносливый ширпотреб. Куда им до Колькиного «сталинца», до наших старых велосипедов, на которых мы выехали из деревенского детства…
ДЯДЯ ВАНЯ
Его отец в молодости на сельских сходках до тридцати крепких сибирских мужиков из круга выбарывал – больше тягаться с Никифором желающих не было. В потешках перебрасывал через амбар пудовку. Когда ему было уже за шестьдесят, в одиночку ставил на телегу десятипудовую наковальню, и снять ее обратно на землю смельчаков не находилось. Сын Иван выдался в него. Хотя, говорят, отец был проворней.
В последней войне старик участие не принимал: ему с лихвой досталось в империалистическую и гражданскую, да и возраст был далеко не призывной. Зато Иван с первых дней впрягся в солдатскую лямку…
Первый Белорусский фронт, девятая гвардейская дивизия – здесь он начал армейскую биографию на курсах младших офицеров. Солдатскими «академиями» называли их тогда. Но и в годичной «академии» долго поучиться не пришлось – через шесть месяцев с сержантскими нашивками Силина выпустили – и сразу же на фронт…
На Брянщине, у одного из сел, их подразделение бросили в пекло – против немецких танков. Сначала местность прошили вражеские бомбардировщики. Вокруг все горело: земля, воздух, деревья, но пылала, как миленькая, и хваленая фашистская техника. Словно игрушку, ворочал Иван полутонную пушку, подкармливая ее снарядами. Но враг напирал в многократном превосходстве. Расстреляв все до последнего снаряда, вынули из орудий замки и отступили…
Много еще за четыре военных года пришлось Ивану Никифоровичу наступать и отступать на исходные позиции. Таскал вместо лошадок пушки в артиллерии, исползал десятки километров в пехоте, пока не попал в «элиту».
…Полковая разведка – одна из самых трудных и опасных профессий на войне. Подбирали сюда ребят крепких, выносливых, умеющих хорошо владеть не только личным оружием. Иван подходил по всем статьям, и даже фамилия соответствовала содержанию.
В представлении многих, в том числе и участников войны, разведслужба – это веселое романтическое житье, где дополнительный паек и всегда заправленные солдатские фляжки. Но это совсем не так. Разведчики, ушедшие за «языком», – это минеры, которым предстоит не только выловить опасный груз, но и доставить его в полной сохранности.
Трое суток в осенней слякоти бойцы разведгруппы, в числе которых находился и Иван, подбирались к расположению противника. Моросил дождь, когда они по кошачьи бесшумно подкрались к часовому, прохаживающемуся вдоль бруствера. В стремительном рывке Иван Никифорович накинул на противника мешок. В какое-то мгновение немец опешил, но, когда опомнился, легко сбросил с себя здоровяка Силина. Все четверо подоспевших разведчиков навалились на добычу, но он не унимался и, что-то мыча, словно бык, тащил их.
– Силен гад, видать, на минное поле прет – режьте ему пахи, ослабляйте, – приказал старший…
Тяжело достался этот «язык» группе. К тому же, в схватке у Ивана с «мясом» оторвалась от ремня портупея с пистолетом. Пришлось возвращаться и, рискуя жизнью, искать ее.
…Лето 1944 года. Группе разведчиков приказано пройти на нейтральную полосу, выручить экипаж подбитого танка. Начало темнеть, когда восемь тертых многими рискованными походами бойцов вышли на задание. До указанного места добрались быстро. Вот она, недвижимая посреди непаханого поля, родная тридцатичетверка. До танка рукой подать, какие-то метры остались, но что это… Совсем близко предупреждающе прострекотал вражеский автомат: фашисты, видно, тоже послали разведку с целью захватить наших танкистов в плен. Решение старшего пришло быстро: нужно разделиться на две группы и отрезать врага от экипажа танка, пока не пришло подкрепление противника. Перестрелка была короткой – маневр удался. Спасли не только раненых танкистов, но и захватили одного пленного. За эту удачную операцию Ивана Никифоровича и его товарищей представили к высоким наградам.
Их у дяди Вани к концу войны было порядком: домой вернулся с орденами Красной Звезды, Отечественной войны, Красного Знамени, медалью «За отвагу». Человек он был скромный и надевал их редко. Вот и в тот раз, когда историк Александр Степанович Барабанщиков, в числе других фронтовиков, пригласил его в гости на 9 мая, он пришел не при параде.
За разговорами-воспоминаниями, песнями засиделись допоздна. Гости хорошо разогрелись, повеселели, начали шутить, и хозяин после очередного тоста за Победу обратился к Силину:
– Иван Никифорович, удиви гостей, покажи «фирменное»! Не многим доводилось видеть твой номер.
Он согласно кивнул. Хозяйка Мария Степановна предусмотрительно убрала посуду. Люди расступились, а Никифорыч деловито обошел стол и, выбрав точку захвата, присел, упершись грудью в ножку стола и, словно тисками, ухватил столешницу зубами. Его крупное лицо от напряжения заметно побагровело, и казалось, что он вот-вот перекусит кромку стола. Со скрипом, хрустом, покряхтыванием Силин медленно поднялся с этим невообразимым грузом в зубах, словно это был карандаш, а не стол внушительных размеров, изготовленный по старинке. К общему восторгу присутствующих дядя Ваня прошел с ним по комнате и плавно опустил на место. Потрясенные увиденным, гости чуть протрезвели и расходились с оживленным ропотом. Не исключено, что некоторые из них, придя домой, попытались повторить подобное.
На селе знали еще об одном, не менее зрелищном, представлении: дядя Ваня обматывал руку полотенцем, брал большой гвоздь и с силой пробивал половицу.
БАЯКИ
Классе в седьмом меня сильно раскачала на качели красивая и озорная девчонка из параллельного класса, к которой я был неравнодушен. Тогда я чуть не закричал: «Мама!» А она, увидев мои наполненные страхом глаза, еще больше забавлялась, оглашая прибрежную поляну белозубым хохотом. Я вспомнил этот эпизод далекого детства, наблюдая из окна квартиры за работой высотников-маляров, красивших макушку восьмидесятиметровой заводской трубы. Как и пятьдесят с лишним лет назад, я подумал: не быть мне летчиком и не покорять высоты.
В детстве я вроде бы постоянно находился возле лошадей, но боялся скакать на вершной, как это делали мои сверстники. Однажды старый мерин, на которого я все же уселся, заспешил на водопой и понес меня. У кромки берега он остановился, как вкопанный, и я по инерции через его голову скатился прямо в воду, насмешив мальчишек.
Мне доставалось, как шолоховскому деду Щукарю: года в четыре бодал соседский теленок, позднее моя спина долго помнила козлиные рога, а ноги неоднократно были щипаны гусями. Долгое время наводила страх на деревенских большая свинья. После опороса у нее отняли детенышей, и она озверело гонялась за взрослыми и ребятишками. Собак я тоже старался обходить стороной, но и ими был мечен. Летом друзья-приятели лихо по-обезьяньи брали березовые высоты, разоряли вороньи гнезда и, горланя, лихо раскачивались на ветках. Я же был внизу в роли подстраховщика…
С годами осознаешь: что там какие-то баяки детства, когда так непредсказуемо наше будущее. Боюсь вместо утреннего лугового тумана увидеть непробиваемую пелену смога, тревожно от того, что в лесах и парках все меньше птиц и даже «надоедливые» воробьи куда-то попрятались. Боюсь, что пророческой может стать сказка Корнея Чуковского, и жидконогая козявочка будет держать в страхе людей. Не пора ли энтузиастам-экологам, службе природоохраны и всем нам задуматься над пополнением биоресурсов и, как в пятидесятые годы китайцы, завозить птиц из других регионов?!
Кстати, от китайцев зависит судьба Иртыша. Там зарождается великая река, но, пройдя тысячи водопотребителей, она теряет силу и приходит к границам Омской области уже усталой и загрязненной. А несколько лет назад вообще появилась реальная угроза обмеления реки. Тогда наши казахские соседи планировали удлинить Карагандинский канал, намереваясь перебросить часть иртышской воды на пополнение умирающего Аральского моря. В советское время кремлевские «головоломы» тоже чудили с переброской сибирских рек.
Московский писатель Тихонов, с которым я познакомился в армии, писал, что до войны бывал в наших местах и имел удовольствие любоваться чистыми водами Иртыша. Сегодня все это безвозвратно потеряно.
Человек, вооруженный современной компьютерной техникой, способен управлять наследственностью, почти полностью подчинил себе природу, но бережно относиться к ней так и не научился.
МЕДНЫЙ КОЛОКОЛЬЧИК
Через много лет, в один из приездов в родные края, заглянул первым делом к своей бывшей учительнице. Как выяснилось в разговоре, Мария Петровна Белан читала мои газетные публикации и одобрительно относилась к моему творчеству. И все же она не переставала удивляться, что я стал журналистом, что много езжу по области, встречаюсь с известными людьми и не забываю малую родину.
Сидя на верандочке ее старенького домика, мы перебирали групповые фотографии, вспоминали школьную жизнь, бывших учеников, которых судьба разбросала по необъятной стране. В былые годы до семисот человек насчитывалось в нашей десятилетке. Из ближних деревень, словно ручейки к реке, стекались сюда за знаниями ребятишки. В ту встречу Мария Петровна пожаловалась: «Нынче-то в школе и сотни учеников не наберется: поразъехались люди из села – молодежи совсем мало. Бывшие двоечники в совхозе и остались, вот они нас и «кормят», – проиронизировала она. И ласково тронув меня за плечо, добавила: «А ты ведь тоже неважно учился и писал в тетрадках по диагонали. Ох, и намучилась я с тобой, пока выправила!»
Учился я, действительно, слабо, и она, подкартавливая букву «р» иногда властно указывала на меня: «Останешься после уроков!» И это было самое большое наказание для мальчишки. Как же, побросав сумки и портфели, все будут играть, а ты сиди и зубри. Тогда казалось, что она была слишком несправедлива ко мне.
Сколько помню, Мария Петровна носила один-единственный серый костюм, из рукава которого высовывался накрахмаленный белоснежный носовой платок. Когда она его доставала, к нашему удивлению, он выпархивал, словно голубь.
Позднее я узнал, что зарплата у моей учительницы была невелика и она с утра до вечера ее отрабатывала – подтягивала отстающих, вела какие-то дополнительные кружки, готовила и наряжала вместе с учениками класс к праздникам, выводила нас на экскурсии вдоль реки, и даже в каких-то театральных постановках мы участвовали. А еще нужно было проверить тетради с нашими каракулями. За ее плечами был всего лишь трехгодичный учительский институт, но она умела «дотягивать» отстающих, и все ее ученики переходили из класса в класс.
Жизнь моей учительницы тоже была не простой: домашнее хозяйство, муж фронтовик-инвалид, больной сын. Неподдающийся никакому обучению, Сашка целыми днями шатался по улицам! Сохранивший к семнадцати годам детскую наивность и восприятие мира, он был участником многих курьезных приключений. Когда заезжие шофера у столовой спрашивали его, как зовут, он, потупив глаза в землю, басовито отвечал:
– Сашкой…
– А сколько тебе лет?
– Надцать, – улыбался он, обнажив крепкие зубы.
Мы были его года на три младше. По-мужицки крепко сложен, он уже брился, но всякий раз подчинялся нам во всех играх и затеях.
Дочка Танюшка была полная противоположность: училась она на «отлично» и во многих школьных делах помогала маме.
…В поездках по редакционным заданиям приходилось много писать «на ходу» – совсем потерял почерк. Как-то при встрече разговорились, и я пожаловался Марии Петровне. Она посоветовала купить пару прописей для первоклассников и исписать их.
За этим необычным занятием мне невольно вспомнилась старая школа, медный колокольчик, зовущий на урок, натопленные круглые печи и скрип перьев в классной тишине. «Скелеты», «Звездочки», «Лягушки» – кто их сегодня знает? Шариковых ручек не было, а с перьями некоторые школьные умельцы экспериментировали: чтобы часто не нырять в чернильницу, прилаживали к ним пружинки, какие-то проволочки, и кляксами тетради были обеспечены. Перья коллекционировали, их обменивали и, наконец, ими играли. И это была своеобразная школьная «валюта». Особенно в этом деле преуспевал переросток Ванька Мельников. Позднее особым предметом роскоши и гордости счастливчиков стали только что появившиеся авторучки.
За кляксы, за неудовлетворительные оценки, за плохое поведение многим доставалось в школе и дома. Школу пятидесятых педагоги умели держать в строгости.
Мне по-мальчишески «повезло»: мать была неграмотна и в дневник заглядывала только для порядка. А поэтому не приходилось вымарывать двойки и единицы. Хотя иногда они были внушительных размеров, словно на демонстрационных плакатах.
Где-то в классе четвертом мое положение с матерью выравнялось: в стране объявили кампанию по ликвидации безграмотности, и мою родительницу в числе немногих принудили к учебе. И тут уже Мария Петровна совсем приблизилась к нашей семье. Ей дали ликбезовскую педагогическую нагрузку, и она по вечерам два раза в неделю наведывалась к нам домой.
Конечно, без иронии нельзя было смотреть на это обучение. Придя с работы, большую часть «уроков» мать управлялась со скотиной, хлопотала на кухне, а учительница, можно сказать, ходила за ней по пятам и что-то рассказывала. Иногда устраивалось чаепитие, и они по-бабьи обсуждали семейные и внутрисельские проблемы.
В молодые годы учиться матери не пришлось: ее «университеты» были за прялкой, да работа в большом родительском хозяйстве. Но и ликбез мало что давал – так, очередная кампанейщина. Свою тетрадку со смешными закорючками, выведенными прослюнявленным химическим карандашом, она, словно разведчица, прятала в тайник. Но мы как-то находили ее, разглядывали и смеялись. Больше трех ликбезовских месяцев ни ученица, ни учительница не выдержали: мать научилась писать семь букв своей фамилии и могла расписаться в документах.
В ликбезовские дни я старался не попадать Марии Петровне на глаза и уходил играть на улицу. Уроки, естественно, не были приготовлены, и на другой день с волнением наблюдал, как она открывала классный журнал и кончиком карандаша выискивала фамилии «жертв». В такие минуты я досадовал, что моя фамилия начинается на «Б» и в списке стоит одной из первых: «Ну почему мои предки делали какие-то странные берда, а не ремизки или челноки, от которых и пошли древние ткацкие фамилии?..»
Воспоминания, воспоминания, и в них непременно слышится звон медного колокольчика, который приглашает на урок в просторный класс «Зеленой школы».
ДЕД МОРОЗ
Этого добродушного старика в увеличительных очках на тесемке в селе знали многие. Кажется, он круглый год носил дождевик, и поэтому выглядел как-то забавно и таинственно. Его звали Афанасий Антонович Морозов.
По рассказам взрослых, дедушку Афоню в Первую мировую травили газами, он прошел через немецкий плен, был контужен, отчего у него поврежден лицевой нерв. И тем не менее, этот пожилой и много испытавший на своем веку человек всегда был полон обаяния и юмора.
Бывало, зайдет в сельмаг, с каждым поздоровается, малого за ушко нежно потреплет и, подходя к прилавку, прокартавит: «Милочка, мне бутылочку разговорчика заверни-ка!» Там, где появлялся старик Морозов, было всегда оживленно.
На селе его уважительно называли «Дед Мороз». Он без лишних вопросов мог отпустить «беспроцентный кредит» на бутылку или занять приличную сумму на более серьезную покупку. Не надеясь на память, Афанасий Антонович со стариковской скрупулезностью вел учет должников в своей карманной тетрадке. Позднее, когда его не станет, родные найдут в его маленьком хозяйственном ящичке, среди налоговых квитанций, и тетрадь с длинным списком должников.
Сухощавый и немощный с виду, он пользовался среди сельчан авторитетом. Бывало, никогда не пройдет мимо громкого бабьего спора или пьяной мужицкой мордобойки. Завидев его, женщины как-то стеснительно замолкали. Мужики вежливо поздороваются и проиронизируют: «Да мы так, шутейно, дядя Афоня!» Насколько я помню, дед Мороз был человек щедрой души: любил выпить в меру и угостить хорошего человека.
В один из своих визитов в сельмаг, будучи под легким хмельком, он забыл у пристенка свой заветный посошок. Моя мать случайно на него наткнулась и подобрала. Придя домой, велела отнести его хозяину. Я много раз видел эту лоснящуюся от времени незамысловатую палку, когда дед захаживал к нам, а «коня», как он ее называл, оставлял в сенях. Самого деда дома я не застал и передал костыль его жене, тете Кате. При первой же встрече Афанасий Антонович отблагодарил меня за находку двугривенным. Если учесть, что билет в кино стоил пятачок, а бутылка газировки – гривенник, то это были приличные деньги для десятилетнего парнишки. Отказываться от премии было бесполезно. Позднее, по стариковской забывчивости, он еще раз несколько пытался меня отблагодарить за находку, но я совестливо отговаривался.
На домике, где он жил, красовалась звездочка. Это означало, что здесь шефствуют школьники. Ребята любили заходить во двор дедушки Афанасия. Он всегда забавлял своими шутками, находил для них какое-нибудь незамысловатое дело и, как водится, без благодарности не отпускал.
Совсем не ради какой-то корысти хотелось помогать этому доброму старику. Вот и в этот раз …
Надумал Афанасий Антонович переложить в доме печь. За умеренную плату договорился с заезжими печниками, которые имели у сельчан репутацию не шибко пьющих.
Кирпичи и глина у деда были приготовлены, а вот с песочком вышла задержка. Выпросив у школьного завхоза Рощенко подводу, он предложил нам с приятелем составить ему компанию в поездке за песком. Вместе с его внуком Петькой нас было уже четверо.
– Ребята, в оплате я вас не обижу, – картавил под дорожную тряску дед.
Мы промолчали. У нас и в мыслях не было, чтобы рассчитывать на какую-то оплату. К тому же погода стояла солнечная, а впереди еще целых два месяца каникул, и эта поездка была нам в радость.
Глину селяне брали на раскопках кирпичного производства, что у бывшей гидростанции. А на песчаные саморазработки нужно ехать под деревню Устьлотовку.
Маловыездной конь бежал лениво, будто топтался на месте, и к песчаникам мы подъехали ближе к обеду. Лопаты было две, и мы по очереди загружали телегу, соперничая друг с другом, старались понравиться деду. В работе не заметили, как подкрались тучи, и в считанные минуты все накрыло непроглядной шапкой. Дождь и ветер были такой силы, что широкая телега, под которой мы укрылись, не давала нам никакого спасения. Дед Афоня стоял возле лошади. Промокшая рубаха очерчивала его худое тело. Дождинки из-под очков скатывались по лицу, словно слезы. Дождь хоть и помельчал, но похоже зарядил надолго, о чем «говорили» пляшущие в лужах пузыри.
Не догрузив телегу, мы спешно засобирались домой. Даже то, что мы загрузили, по раскисшей дороге лошадь везла с трудом. Подводу заносило то в одну сторону большака, то в другую, некованые копыта Буланого разъезжались. Чавкая ногами и хлюпая носами, тащились мы все эти три километра. Мокрые, как курята, глядя друг на друга, мы готовы были рассмеяться, но рядом шел угрюмый, молчаливый дед, и нас это сдерживало.
Ожидая работников, баба Катя расстаралась и накрыла по-праздничному стол. Тут же стояла чекушка «разговорчика», которая предназначалась хозяину. А дед, переодевшись в свежую рубаху, ходил по комнате, побрякивая мелочью в холщовом мешочке. Обычно он брал его, когда садился играть в лото, но сейчас дед Афоня будто нас подразнивал.
Видно, от того, что я был постарше своих приятелей, он подошел ко мне первому и раскрыл мешочек:
– Бери, сколько рука скажет!
От неожиданности я отшатнулся от мешочка и наотрез отказался от поощрения. Брать деньги было неловко. Но дед Афоня нашел такие убедительные аргументы, что отказаться было невозможно, и я, волнуясь, выудил несколько монеток. Такую же принудительную процедуру при поддержке своей супруги проделал он и с моими приятелями.
Дома я насчитал около рубля заработанной мелочи. Но какая это мелочь, если послереформенный советский рубль покрывал пару капиталистических долларов!
…Ворсихинские мастера постарались, и печь многие годы исправно служила хорошим хозяевам. Видно, не поскупился тогда Афанасий Антонович Морозов.
ПАРУНЯ
Она жила на окраине села в большом доме на две половины. Еще до войны его построили братья Андрей и Дмитрий. По роковой случайности они оба погибли на Ленинградском фронте. Четверых детей Прасковья Васильевна вырастила одна. После войны они разлетелись, как птицы из гнезда, и только Александр остался при матери.
Паруня, как ласково называли ее соседи и родственники, была нам родственницей по бабушкиной линии и меня привечала с особой теплотой, поскольку я никогда не отказывал ей в посильной помощи. И если бы не она, детство мое было бы много облачней.
Я закончил пятый класс, когда к ней на лето привезли из большого города внука Саньку Ерисова. Сын тетки Паруни недавно отслуживший в армии, сколотил для племянника незамысловатую коляску, и я возил в ней трехлетнего малыша. За лето парнишка привык, да и мне с ним было хорошо: сладостей от тетки теперь перепадало больше.
Когда под осень за Санькой приехали родители, он слезно не хотел расставаться с нянькой. В прощальный день у меня тоже подкатил комок к горлу: уж больно привязался я к мальчишке. К учебному году меня за присмотр одарили обсоюженными брезентовыми ботинками и рубахой.
После отъезда внука доверие у Паруни ко мне стало еще больше. Из школы я бежал добивать Санькину коляску, а заодно угоститься шаньгами с молоком, которые у тетки не выводились. Она уже не работала и по возрасту получала тридцатку колхозной пенсии. (Зарплата атомщика Сахарова была в то время более двух тысяч – Б.В.). Всю войну Паруня командовала в полеводстве, да и после Победы работушки переворочала ой-е-ей!
Несмотря на житейские трудности и болячки, она не растратила душевной доброты и отзывчивости к людям. В ее доме на окраине села частенько задерживались за чаепитием соседи, а порой и совсем незнакомые люди. Дальнего ли, ближнего ли путника она всегда приветит, обогреет и накормит.
Одно лето за деревней, в ближнем лесочке, стоял табор, так она и от цыган не отмахивалась, как другие. «Все божьи люди, – успокаивала она предупредительных соседей». К приветливой бабушке шли за хозяйским советом и за всякой мелочью. Она редко кому в чем-нибудь отказывала. Люди были благодарны Прасковье Васильевне.
Я ее тоже «отблагодарил». За печкой висела большая кирзовая сумка. С ней Паруня ходила в дальний сельмаг за продуктами. Однажды она замешкалась на огороде, и я, забросив коляску, нырнул в дом с волнительным намерением заглянуть в сумку. Помню, там лежали кулечки с пряниками и карамельками, а на самом дне серебряная россыпь монет. Они заинтересовали меня больше, чем конфеты, и одну двугривенную монетку я прикарманил. В другой раз сумка снова меня соблазнила, и теперь уже достал пару монеток. Сельповские сладости пересиливали мою совесть, и я продолжал безнаказанно приворовывать из кирзовой сумки.
Ее сын Александр допоздна задерживался на электроподстанции, а иногда на несколько дней выезжал на аварийные участки. Энергетикам платили прилично. Своей семьей он еще не обзавелся и к материной пенсии отдавал приличный привесок.
Как-то Паруня ушла к соседке, и меня, словно магнитом, потянуло к сумке. Но ее на привычном месте не оказалось. Порыскав по дому, я наткнулся на дядино пальто. В одном кармане лежал сильно надушенный одеколоном носовой платок, а в другом – туго свернутые купюры – его недавняя получка. Я вытянул одну бумажку. Это была серо-зеленая хрустящая сотня размером в полтетрадный лист. Волнение острыми колючками пробежалось по телу: таких денег я сроду не держал. Какие-то мгновения совесть боролась с рукой, которая то вытаскивала, то засовывала деньги на место…
С сотенной я укатил в соседнее село к родственникам. Когда хозяйка с сыном обнаружили недостачу и в догадках вышли на меня, я уже разменял деньги и с полной душевной щедростью угощал сладостями двоюродных сестер и братьев.
Будучи уже взрослым, я часто навещал старушку. Она давно уже забыла мои детские грехи, и мы вспоминали только о добром прошлом.
НОЧНОЙ ГОСТЬ
Зимним вечером, когда мать была на дежурстве, а я, разложив вокруг керосинки, книжки и тетрадки, делал уроки, в закуржавленное окно постучали. Из темноты палисадника пялилось и что-то маячило небритое одноглазое лицо. Младшая сестренка спала на печи, и я заробел. Случалось, незнакомцы и раньше к нам стучались, но этот пиратского вида старик почему-то не вызывал доверия, и я долго не осмеливался ему открывать. И только, когда он начал дуть на руки и приплясывать под окном, я его пожалел.
Еще в сенях он с акцентом затараторил:
– Моя Аптула теревня, там ущительнищал. Вы не пойтесь меня, ропята.
Обснеженные валенки он снял в холодных сенях и, смешно перешагивая разматывающимися портянками через высокий порог избы, продолжал извиняться и оправдываться:
– Я тут по телам пыл, немноко затершалса.
Как выяснилось в разговоре, ему было около шестидесяти, но выглядел он много старше. Наверно, его старила линялая фуфайка, подпоясанная ремнем, козья шапка и седеющая небритость на лице.
Развязывая залатанную котомку, он попросил поставить на печку-железянку с полведра воды:
– Отнако шипко нынще устал и ись охота.
Когда вода начала закипать, старик бросил в ведро пучок душистой травы. Затем достал начатый полукруг хлеба и сверток сала, чем немало удивил: из рассказов одноклассника Марика я знал, что татары сало не едят.
После нескольких кружек мутновато-коричневого напитка постоялец отогрелся, повеселел, и его покрывшаяся капельками пота бритая голова совсем не пугала. Допивать полуведерный «самовар» он подсел к затухающей, но все еще обдающей теплом железянке. Покряхтывая от удовольствия, старик завел то ли быль, то ли небылицу:
«Возле одной деревни была высокая гора, над которой с неба свисал пеньковый канат. Всякий раз, чтобы рассудить какой-то спор, деревенские мужики поднимались на гору. Кто был прав, тот до каната доставал, а виноватый достать не мог.
Так было до тех пор, пока в деревне не появился пришлый человек. Как-то он занял деньги у соседа и отперся. Привели виноватого и пострадавшего на гору справедливости и велели доставать до каната. Тот, кто давал деньги, поднял руку и сразу достал. Пришел черед виновному доставать. Он был хитрый и под предлогом, чтобы ловчее до каната достать руками, отдал свой костыль подержать тому, с кем судился. Протянул руки и тоже достал до каната. Народ удивился: как это оба правы?
А у виноватого в костыле было высверлено полое место, куда он засунул деньги, в займе каких отпирался. Так получилось, что с костылем он отдал деньги заемщику и потому дотянулся до каната.
Так он обманул всех, но с тех пор канат поднялся на небо, и больше его никто не видел. А на горе на пожертвования построили храм, и люди ходили туда за правдой».
Вместе с печкой «потухли» и сказки постояльца. Старик по-походному скрючился в углу на своей фуфайке и притих… Утром его на месте не оказалось. Он ушел затемно, чтобы с ишимскими бензовозами добраться до своей деревни. Пьянящий аромат заваренного разнотравья стойко держался в избе. И его нельзя было скрыть от матери, которая, уходя в ночное дежурство, всегда наказывала: «Незнакомцам не отворяйте!». Но в тот раз мы рассказали ей про доброго сказочника, и она нас не ругала.
Ближе к лету аптулинский киномеханик, приехавший в наш клуб за кинобанками, заскочил к нам и передал от старика гостинец: ученическую тетрадь и начатый сине-красный карандаш.
Имя этого походного человека я забыл, а сказка, которую он рассказывал, в памяти запечатлилась. Сам ли он ее придумал или вычитал где, когда в комсомольские годы работал избачом-книгоношей.
ПРИВЕТНЫЙ УГОЛОК
Приветный кротовский уголок, прозванный Пеньково, с одной стороны примыкал к реке Балахлей, а с севера отделялся от кладбища грунтовым большаком. Здесь располагались цеха промартелей и стояла известная аптека тети Лизы Андреевой. А чуть дальше в березовой роще – сельская больница.
Говорят, когда работала местная гидростанция, то неподалеку от нее было и пенькопроизводство. Об этом напоминают бесконечные копани да прозвище «Пеньково».
Сегодня конопля попала в немилость и в разряд криминогенного продукта, а до войны под ее посевы отводились значительные площади. В одном из домов, где мы с матерью квартировали, в межкомнатной стене было проделано отверстие. По детской наивности я думал, что оно служит для подглядывания, и иногда этим пользовался. Но позже мне объяснили, что через него пропускали крученую пеньку и зимними вечерами мужики вили веревки.
На окраине Пеньково тарахтел кирпичный заводик. Производство это было высокорентабельным, поскольку глину – основное сырье, добывали тут же. Казалось, грохот ленточных транспортеров и гул обжиговых печей не смолкали здесь ни днем ни ночью. Кирпичей производили порядком, но что-то мало было в селе домов кирпичной кладки. Когда строили школу, то кирпичи возили из татарской деревни Аптулы.
В холодную осеннюю пору, озябшие на рыбалке, мы бежали сюда погреться. А возвращаясь к своим удочкам, непременно прихватывали по несколько кирпичей, на которых жарили небогатый улов или нанизанные на прутики обабки из ближнего лесочка.
Но больше нас к пеньковской стороне притягивали старые тополя. По весне здесь собиралось молодежи больше, чем у сельского клуба. У веревочных качелей, встроенных между огромных деревьев, всегда было шумно и очередно. Хотя, главной притягательницей была лапта. Играли в основном взрослые и подростки. Лаптой увлекались и в других уголках села, но здесь было как-то престижней, хотя и не всякого принимали в команду. Когда брал в руки биту Ванька Хомич, собравшиеся на поляне замирали. Он редко промахивался и так запуливал самодельный губчатый мяч, что его долго приходилось искать. Быть «осоленным» его метким броском мало кто хотел. Особенно с визгом уворачивались девчонки. Но Ванька нарочно метил в женские прелести. До самых потемок ребятня резвилась у старых тополей, и родители знали, где их искать.
Когда беготня нам наскучивала, мы собирались в доме изобретательного Вовки Кондрюкова. Назвать домом их покосившуюся избушку под дерном, было трудно. На крыше Вовка прилаживал репродуктор, который, заглушая лай собак, горланил на всю окраину. Иногда он включал микрофон и через усилитель транслировал какую-нибудь шуточную информацию. Но это уже считалось хулиганством, и местный участковый с серьезными предупреждениями наведывался к доморощенному диктору. Для осуществления своих творческих идей Вовка часто обшаривал местные мехмастерские. Утащить с охраняемого объекта автомобильный аккумулятор или подшипники для колесянки ему ничего не стоило. А однажды укатил целое колесо, разбортовал его и вынутую камеру приспособил для плавания. Другой раз я был свидетелем, как он накидывал на автомобильную фару полу своей фуфайки и тяжелым предметом разбивал ее. Еле слышный хруст стекла и лампочка была в его руке.
Став постарше, Вовка остепенился и при напоминании эпизодов озорного детства с легкой усмешкой отшучивался. Имея всего лишь начальное образование, он знал радиотехнику на уровне хорошего инженера. После армии я работал на радио, и, если случались в моих магнитофонах поломки, он охотно меня выручал. Зная, что лучше его в этом деле никто не разбирается, к нему несли все – от простой настенной «тарелки» до телевизора. Иногда, его просили покопаться в мототехнике, Кондрюков и в этом разбирался, но всегда отсылал к другому умельцу, Петьке Чуракову, который в этих вопросах кумекал больше.
Деревня всегда жила с юмором в ладу, и прозвища здесь давали меткие, словно в паспорт вписывали. Кондрюков непременно был Кондратом, Чураков – Чурой, бабушка Шутова – Шутихой, а Колесова – Колесихой. Можно бесконечно называть фамилии и имена – прозвища сельчан, которые в большинстве своем шуточно – безобидные. Но и к ним еще прилаживалось место проживания.
В километрах двух от пеньковской окраины Балахлей размывался вширь, излюбленное место рыбалки – Красный омут. Я не помню, чтобы тут купались. Напуганные таинственными страшилками взрослых и длиннохвостыми ондатрами, которые могли кое-что откусить, ребятишки не осмеливались входить в воду. Когда рыбалка удочками не удавалась, случалось и хулиганили: вытрясали поставленные неподалеку местными промысловиками мордушки (плетеные из ивняка рыболовные снасти).
Как-то в очередном рейде по рыболовным садкам школьный трудовик Алексей Павлович заприметил на одной из запруд копошащихся и громко переговаривающихся ребятишек. Затаился в кустах и, дождавшись, пока они наполнят карманы и насуют в запазухи трепыхающихся окуней и чебаков, Медведем подкрался к ним. Старший подстрекатель Вовка Брызгалов успел улизнуть, а троицу приятелей, словно альпинистов, в одной связке повел в село. Заплаканных и чумазых, с вещдоками под рубахами, доставил их к сельсовету на их счастье. Время было страдное, и в конторе никого не оказалось. Сбежавшиеся бабы «облаяли» Алексея и освободили пленников. Мальчишки были из безотцовских семей, и за них по-мужицки некому было заступиться. А дома от матерей они получили еще и по подзатыльнику.
Вовка Кондрюков в этой акции не участвовал. У него хватало своих, более серьезных, приключений. После того, как он подвел провода от комбайнового магнета к дверной ручке класса, и вредная историчка попалась на контакт, Вовку из школы турнули.
КУДА ВПАДАЕТ БАЛАХЛЕЙ…
Неширока, неглубока
У моей родины река.
Прозрачны были омута –
Теперь уже вода не та…
Прошли десятилетия, и вот –
Вместо прекрасной речки – брод…
Иртыш, Обь, Вагай – все это знакомые и знаменитые сибирские реки. О них сложены песни, они обозначены в школьных атласах и на больших лоцманских картах, которые я впервые увидел в рубке парохода «Электрик», на котором проходил плавпрактику.
Нашей сельской речке Балахлей с известностью повезло меньше, и протяженностью-то она всего несколько десятков километров.
В детстве я наивно думал, что речка, петляя и поворачивая, считала нужным пройти вдоль села, поближе к людям. Став старше, понял: не вода к людям, а люди селились и обустраивались вблизи рек.
Во времена громкоговорителей-тарелок речка для сельской ребятни была местом развлечений и отдыха. Здесь мы рыбачили, жгли костры, водили сюда поить лошадей и больше всего любили бултыхаться, проныривая сквозь заросли лилий.
Мать купаться мне долго не разрешала. Ее излюбленная фраза: «Утонешь – домой не приходи!» – настораживала. Но искушение было сильнее, и через некоторое время я уже спокойно плавал вдоль берега «по-собачьи».
Мои сверстники смело переплывали самые широкие места, а я все еще барахтался с малышней на мелководье. Но все равно река радовала, и это маленькое удовольствие было кусочком счастья.
Река всегда притягивала: шли с грибной вылазки – обязательно припадали к студеным прибрежным родникам утолить жажду, если рыбачили, то даже самый неудачливый был с небольшим уловом.
Субботними летними вечерами артель мужиков протягивала вдоль реки бредень и вытаскивала по несколько ведер разносортной рыбы. С котелками и кастрюльками рыбаков сопровождали бабы и ребятишки – им тоже перепадало от доброго улова. А на берегу уже разгорался костер, поджидая закладку для ухи.
Зимой на реке тоже свои прелести: расчищался лед, и затевался любимый хоккей. Коньки на валенках, ивовая частоколина, выдернутая в соседском дворе, – вот и все снаряжение. Забыв про уроки, сражались дотемна.
В весеннюю распутицу и вовсе притягательная картина: огромные льдины-тараны ползут по разбухшей реке, испытывая на прочность хлипкие деревенские мостики, слизывают изгороди и баньки на берегу.
Для рыбаков новая утеха – ловить рыбу огромными сачками. Это нехитрое приспособление готовится еще с зимы: вяжется сетка-карман и крепится к трехметровому шесту.
Случалось, вода подступала к окнам нашей старенькой, как ее называли, «зеленой школы». Сносило все переправы, и мы, заречные ребятишки, недели две не ходили на занятия, пока вода не отступала. Так речка дарила нам еще одни каникулы.
Ученые подсчитали, что у нас в стране более ста тысяч рек и речек. Но их с каждым годом все меньше и меньше. Вот и речка моего детства совсем обмелела. Ее знаменитые рыбные омута с устрашающими названиями «Черный» и «Красный» превратились в лужицы-блюдца. Во многих местах Балахлей можно перейти вброд, и весной она не такая уж грозная и шумная, как в былые годы. Сегодня новый железобетонный мост, словно когтями, обхватил ее берега.
Стихийные запруды и свалки отходов животноводства заглушили некогда подпитывавшие ее роднички. Попробуйте здесь искупаться, и на долгую память вам обеспечены кожные процедуры.
Речка моего детства… Мне посчастливилось видеть ее большой и сильной. Но она приносила не только радость. Как и всякая стихия, река не прощала беспечности и пренебрежительного к ней отношения. Я помню, как ушли на дно, катаясь по неокрепшему осеннему льду, трое моих одноклассников, как провалился вместе с трактором под лед и утонул молодой тракторист Генка Аверьянов. И таких трагических случаев было много…
В судьбе каждого человека есть своя река. Можно посадить лес, выстроить плотину, но живой организм реки восстановить почти невозможно. Такова судьба и Балахлея. И только остается поклониться ей за те годы памятного деревенского детства и сказать: «Спасибо, речка, и прости нас, людей!»
БАСАРГА
Наш домик стоял на веселом пригорке. Спустишься по траве-конотопке вниз, и ты у реки с чудным названием Балахлей. Тут же, у пригорка, словно разглаживая длинные водоросли, впадала маленькая речушка с не менее экзотическим названием Басарга, которую можно было преодолеть одним прыжком.
На вид она вроде и тихая, но по весне, напитавшись талыми водами, раздавалась вширь и угрожала огородам многих сельчан. Но главная тревога в половодье все же исходила от Балахлея.
Однажды обе речки будто сговорились, и случился такой мощный разлив, что мы, междуреченские, с неделю не ходили в школу. От водной стихии тогда пострадали большие и маленькие мостики. Выручал местный рыбак дядя Митя Москвин. Он снаряжал свою просмоленную лодку и наиболее отчаянных переправлял в магазин за продуктами.
Иногда он выполнял просьбы учителей и привозил нам домашние задания. Но до них ли было, если в лесу пошел березовый сок, а взрослые, просачивая наметками мутную воду, таскали щук, чебаков, окуней. Увязывались за ними и мы, чтобы на кострищах Каролишки приобщиться к артельной ухе.
Не особо-то горевали по школе междуреченцы Ванька Китаев, Пашка Пегов, Митька Кармацкий, Ванька Бердов. Правда, был в этой компании еще Иван, и тоже Бердов. Чтобы их не путать, одного прозвали по имени матери: Ванька Дунин. В учебе он преуспевал и статус отличника не позволял ему расслабляться.
Эти парни были постарше меня и моих приятелей Кольки Демьяновича, Сашки Упорова, Вовки и Тольки Кармацких лет на пять-семь и уже познали курево, самогон и азарт картежной игры.
Затейником и заводилой у них в этом деле был Ванька Китаев. Анекдотов и забавных приключений он знал великое множество да к тому же обладал природным даром рассказчика. Бывало, соберутся где-нибудь на задворках покартежничать – и Китаев начинает травить. И какая уж тут игра – побросав карты, парни со смеху катаются по траве. А он лежит, опершись на руку, и невозмутимо поковыривает былинкой в зубах. Когда публика разряжалась, Ванька, чуть улыбнувшись, продолжал: «Ну что, продри..?! – дальше будет покруче». И, оглядевшись, нет ли поблизости «мелюзги», вроде нас, выдавал анекдот с перчинкой.
Реки моего детства Балахлей и маленькая Басарга для меня всегда были загадочными с их нерусскими названиями, хотя, судя по архивным документам, одними из первых сюда пришли русичи, в том числе и мои предки Бердовы.
В годы моего детства сельские улицы еще не имели наименований и прозвище к этой окраине Кротово – как ни странно, прижилось не от большой реки, а от Басарги.
«Ты где живешь? – За Басаргой».
«Куда по грибы пойдем? – За Басаргу».
Или: «За Басаргой у Каролишки все перепахали, и скотину негде пасти».
Человек уже побывал в космосе, а у нас все еще не было электричества. И печки некоторые экономные хозяйки растапливали соседскими угольками. Занять кусок мыла, щепотку соли или сахара, перехватить «до завтрева» хлеба было в порядке вещей, и ни кем из соседей не осуждалось.
Вместо большака шла торная дорога, покрытая густой и теплой пылью. Машины по ней ходили крайне редко, но когда вечером прогоняли с пастбища скотину, облако чернозема долго висело над дорогой, словно не стадо прошло, а колонна танков.
Но, несмотря на отсутствие цивилизации, жить в междуречье мне нравилось. Здесь практически все знали друг друга поименно, а двери домов закрывались на замок только в случае дальнего отъезда. Собаки и те принюхались и не гавкали на ближних соседей, и только петухи никак не могли сговориться и «сверить» часы.
НА СЕЛЬСКОМ ПОГОСТЕ
Сколько их на сельском погосте:
Милых, добрых и сердцу родных.
Как подумаю – не к кому ехать мне в гости,
Только вспомнить осталось о них, о живых…
В детстве сюда мы бегали в малинники и, когда наступали густые сумерки, испытывая себя на храбрость, проскакивали, озираясь, мимо крестов и могилок из конца в конец. С возрастом особое отношение к этому грустному поселению. Как в городе, раньше здесь не было заведено в родительский день убирать могилки. И все зарастало, заваливалось естественным образом. Но хорошие традиции и правила со временем пришли, и на сельском кладбище – ухоженные металлические оградки, кое-где добротные памятники и надгробья.
В каждый свой приезд в село я непременно иду поклониться тем, кого знал и помнил с детства.
Вот на веселой солнечной стороне последнее жилище совхозного столяра, участника трех войн, Ивана Захаровича Быкова. Это о нем я написал когда-то заметку в районную газету и этим стартовал в журналистику. А вот балагур и вечный гуртовой Илья Аксенов. В Кургане – так называлась в простонародье одна из окраин Кротово – мы жили по соседству. По субботам тетка Наталья заводила ему пятилитровую кастрюлю блинов, и он, с топленым салом да под самогоночку, расправлялся с выпечкой. Но и в работе дяде Илье равных не было. Летом его гурты нагуливали самые высокие привесы в совхозе. Участник войны, раненный в одном из боев, он мало прожил.
Как не вспомнить мне дядю Ильюху?!
Был такой, да его ли вина,
Что его, молодого, по брюху
Полоснула осколком война…
Долго стою у могилки Ивана Яковлевича Симонова. Мне кажется, он всегда ходил в суконной толстовке, в сапогах и фуражке-шестиклинке. Толстый мясистый нос, округлившийся животик придавали ему добродушный вид.
– Робятишки, вы много не пейте, но попробовать надо, а то в какой компании споят вас и будут смеяться, – поучал он нас иногда за послебанным столом.
Он наливал нам с Петькой по одной-единственной рюмочке-малютке светло-серой бражки, и мы чувствовали себя заправскими мужиками. Опрокинув два-три стаканчика, дед Иван пускался в житейские размышления и воспоминания. И мы, чтобы не обидеть старика, в который раз слушали его были и небылицы.
А вот малоприметный крестик на могиле продавщицы тети Вари… Она всех знала, и все сельчане знали ее доброту. Сколько раз она выручала и мою мать, когда не дотягивали до получки. Был грешок: мы с соседом Васькой воровали на совхозном птичнике яйца и сдавали в магазин на конфеты и на кино. Она, наверно, догадывалась, но жалела нас. От родителей нам попадало: случалось, в магазин уходили и пасхальные запасы.
На въезде в село, с большака, хорошо виден памятник Лене Чухину. В детстве мы с ним знались и играли вместе. Его дед Илья прожил более сотни лет. А Леонид погиб в 1968 году, когда служил срочную на атомной подводной лодке «Комсомолец».
Его отец шофер балагур Николай Ильич, как-то сник, поседел. Ему хватило еще силы поставить чисто символический памятник сыну…
Нельзя не поклониться тетке Прасковье Бердовой, Паруне, как ласково в детстве мы ее называли. Не было такого случая, чтобы она не пригрела, не покормила гостя или простого странника. Тетка Прасковья всегда была окружена ребятней. Потерявшая мужа, она все силы во время войны отдавала колхозу и своим детям. Даже в годы поголовного атеизма старая женщина не расставалась с религией: ездила на богослужение за сотню километров, в Ишимский храм, читала церковные книги. В ее доме я не видел фотографий, кроме мужнева военного портрета на стене. В один из приездов я решил сфотографировать старушку. Она долго и категорически отказывалась позировать, но какое было моё удивление, когда на проявленной пленке ее не оказалось. Мистика какая-то!..
Вечереет. На старом сельском кладбище, заросшем малинником и необхватным березняком, тихо. И только изредка проходящие по большаку машины и дальний лай собак напоминают о жизни. В тревожном одиночестве останавливаюсь у могилки моей первой учительницы Марии Петровны Белан. Она и до шестидесяти не дотянула: коварная болезнь скорехонько уложила на вечный покой. Чуть в стороне свежая могилка ее дочери Татьяны. Такой же грустный диагноз и те же отпущенные злодейкой-судьбой пятьдесят семь…
Моей матери, Серафимы Ильиничны, не стало на исходе двадцатого века. Рожденная и прожившая до ухода на пенсию в сельской глубинке, думала ли она, что доведется доживать свой век в городской «высотке»? Ее могилка вдали от родных мест – на «приветливом» бугорке Морозовского кладбища. Здесь, под карканье кружащего воронья и родилась эта строфа:
Где-то на нивах хлеба колосятся,
Где-то гармошка встречает рассвет.
Люди уходят, люди родятся,
Только тебя на земле уже нет…
В нескольких десятках метров от могилки матери, покоится очень близкий мне человек Михаил Дубровский. Иваныч был прекрасным слесарем с инженерным мышлением и конструкторской смекалкой. Как всякий одаренный человек, он прожил до обидного мало и даже не дотянул до своего 70-летия. А так хотелось сказать на этом юбилее:
«С виду вроде он парень неброский:
Ростом мал, но как тот золотник,
Дорог нам Михаил Дубровский –
Говорю вам, друзья, напрямик!..»
ЗАТМЕНИЕ 1959 ГОДА
На одном из уроков учительница предупредила:
– Ребята, завтра ожидается солнечное затмение, попросите старших закоптить маленькие стеклышки: будем наблюдать природное явление.
Набить стекла и закоптить – мы и сами мастаки! Это девчонки ничего не умеют…
Надрал с поленьев бересты, поджег ее на огороде и, когда пошел густой черный дым, безо всякого труда обкоптил несколько осколков.
Когда я спросил у матери, что такое затмение, она только проворчала за спички, за копоть на огороде. Соседская баба Валя была посвящена больше. По утверждению сильно набожной старушки выходило, что, когда Илья Пророк катит по небу на своей колеснице, он и закрывает солнце.
В школу каждый принес не по одному стеклу. Пока их доставали из портфелей, поободрали копоть, перемазались сажей и, глядя друг на друга, смеялись. Помню, Вовка Гребенщиков принес закопченное круглое зеркальце.
– Ну как ты будешь через него смотреть на солнце, – огорчила мальчишку Мария Петровна.
Второгодник Ванька Мельников отчудил не меньше: он принес выставленное из форточки стекло и на перемене за школьным двором устроил коптильню. Стекло не выдержало резкого нагрева и разошлось мелкими трещинами. Зная крутой характер своей мамаши, он сильно огорчился, а мы подумали: «Будет теперь у Ваньки затмение в глазах от ее подзатыльников».
Затмение в первую смену не случилось, и мы, сложив поистертые осколки, огорченные разошлись по домам.
Не успел я отмыться от копоти и пообедать, как в окнах что-то затемнело, закачало деревья и под крыльцом жалобно заскулил, заскребся дворовый пес Фунтик. Забегали по двору куры, а петух, прикрыв глаза, беззвучно открывал клюв. Забеспокоились овцы и поросенок, который по природе своей не видит неба. Тревожно стало и нам с соседом Толькой Кармацким, который прибежал к нам. Мы прильнули к закопченным стеклам. Все это длилось несколько минут. А потом освобожденное солнце начало припекать сильнее и сильнее…
В классе седьмом о затмениях я узнал больше. Физик Вахненко растолковал нам, что затмение – это когда луна закрывает часть или полностью солнце. Что одни затмения бывают раз в 300 лет, а чуть послабее почаще. Затмение, которое мы наблюдали в 1959 году, он охарактеризовал, как слабое. А еще бывают лунные затмения?
Учительница географии Татьяна Степановна Вощикова привела пример другого природного явления, которое затмевает большие земные площади на несколько дней. В 1883 году вулкан Каракатау на Яве уничтожил 300 деревень, 36 тысяч человек погибло. Его рев был слышен за 4800 километров, а густой смог с пеплом на несколько суток закрыл солнце. Некоторые обломки вулканической породы взметнулись на 55 километров вверх. Взрывная волна 7 (!) раз облетела экватор. А шестикилометровый в диаметре кратер, заполненный водой, вызвал реакцию и все сметающую на своем пути сорокаметровую волну. Она шла со скоростью 1100 километров в час.
Июньское затмение 2008 года напомнило мне далекий 1959 год. Только сейчас не нужно коптить стекла: магазины заполнены светозащитными очками различной плотности.
СЕЛЬСКАЯ ТРАГЕДИЯ
Катались вчетвером: Вовка Фомин, Юрка Грабовский, Мишка Киселев и Витька Буйнов. Еще с вечера соседи-приятели сговорились приготовить уроки, чтобы завтра до занятий во вторую смену опробовать перволедок. Речка только-только покрылась льдом, который в некоторых местах поскрипывал и волнообразно прогибался. Кататься было здорово. Снег еще не успел закрепиться на зеркальной поверхности, и, чуть оттолкнувшись на коньках, можно было ускользить далеко.
После того, как гонять просто так надоело, они, выдернув из ближайшей плетеной изгороди по частоколине, устроили хоккей. И жестяная консервная банка, подобранная на берегу, громко заплясала на льду, увлекая мальчишек за собой. Вовка Фомин сразу же захватил лидерство, и все рванули за ним. В пылу состязания мальчишки увлеклись и не заметили впереди небольшое чернеющее пятно полыньи. Здесь, на излучине, течение немного закручивало, и осенним морозам пока не хватило силы ее перекрыть.
…Под тяжестью четверки лед задыбился, затрещал, и полынья разошлась больше. Провалились в нее почти одновременно. Оказавшись в ловушке, мальчишки ошалело хватались за хрупкую ледяную кромку, цеплялись друг за друга и душераздирающе орали. Но высокий берег и заросли ивняка гасили их призывы о помощи.
Намокшая одежда свинцово тянула ко дну, ноги начинало сводить судорогой. Силы покидали мальчишек, и, наглотавшись воды, они все меньше и меньше оказывали сопротивление стихии.
Вовка Фомин был на год постарше и посмекалистей своих десятилетних приятелей. Изловчившись, он сдернул с себя фуфайку, выбросил на лед и, облегченный, выкарабкался по ней из воды. Чтобы не провалиться, до берега добирался ползком. Уреванный и исцарапанный, он несколько раз со страхом оборачивался в сторону зловещей полыньи. Там уже не было признаков жизни, и только пузырящие круги расходились по воде…
А дома ребятишек уже хватились и затревожились. Вовкино появление подтвердило самые худшие опасения. Но как ни выпытывали, ничего вразумительного от него не услышали: холод и страх парализовали не только сознание, но и речь.
Потрясенные случившимся, сельчане сбежались к месту трагедии. Пока собравшиеся топтались да кумекали, как достать утопших, Наполеон Буйнов ползком добрался до полыньи и, не раздумывая, бросился в холодную пучину. С первого же захода он зацепил одного из мальчишек за конек и вытолкнул скрюченное тельце на лед. Потом сколько ни нырял, так и не смог «нащупать» ни своего сынишку Витьку, ни другого. Отчаявшегося, его еле вытащили на берег обогреться у костра. Тракторист Володька Зубов – лучший кротовский ныряльщик – тоже сделал несколько малорезультативных попыток и, до костей продрогший, готов был прыгнуть в костер. Его опередила тетка с бутылкой первача, и он вылил содержимое поллитровки внутрь, словно воду в самовар.
Подступившись к полынье на сколоченных досках, мужики пытались шарить по дну баграми. Охотников нырять больше не находилось. Ждали водолазов, вызванных из Ишима. С досками, веревками, огородными жердями к реке подтянулись люди с противоположного берега. Приволокли лодку, стали прорубать от берега к полынье проход для водолазов.
А на берегу творилось что-то невообразимое: крик, шум, матерки, истерика. Участковый и мужики покрепче еле сдерживали толпу и рвущихся к воде матерей…
Водолазы управились дотемна. Двух мальчишек, которых не удалось обнаружить сельчанам, как и предполагалось, снесло течением и прибило к береговым корягам. К утопленникам приложили растерянные шапки, рукавички и фуфайку Вовки Фомина…
Не до учебы было и на следующий день. Маленьких земляков жалели, сочувствовали горем убитым родителям; вспоминали, как примерных и не хулиганистых учеников. Трагедия никого не оставила равнодушным.
БЕРЁЗОВЫЕ ЛЫЖИ
Мы жили на Кургане, так именуется и сегодня южная окраина села Кротово. Мне исполнилось семь лет, и в сентябре 1956 года я должен был пойти в школу. Соседи-приятели были старше меня на два-три года и уже познали азы науки.
– А ты не ходи в школу – играй да играй себе, –поучал старший Валька Цапко.
– Ага, мамка у него строгая, она ему даст «не ходи», – встревал Сашка Ерофеев.
Мать у нас с сестрой, действительно, была строгая. Попусту болтаться не разрешала. Бывало, закричит на всю улицу: «Домой!» Аж перед ребятами неловко. Зимой и вовсе, уходя на работу, наказывала: «Из избы ни ногой: неча одежу рвать!» Двери сеней припирала лопатой. Она работала на кирпичном производстве и сильно уставала. И если лопата к ее приходу была не на месте, возмущалась и исходила на крик, но никогда нас не лупила. Бывало только и скажет: «Взять дрын, да дрыном вас обоих!» По незнанию я думал, что дрын – это трактор, который часто дрынь-дрынькал у соседского дома, на котором приезжал дядя Володя Жуковский. «И как же она возьмет его и будет бить нас», – улыбаясь, недоумевал я.
Зимы раньше были снежные, и помнится в одну ночь замело нашу избушку по самую крышу. Ни через окно, ни через сенки нельзя было выйти, и мы то ли день, то ли два просидели в снежном плену, пока нас не хватились соседи Шахматовы.
Когда прояснивало и сугробы затвердевали, мы с радостью рыли в двухметровых наметах норы-ходы. Удивительно, но с нашей крыши можно было кататься, что и делали соседские ребятишки в отсутствии матери. У некоторых были лыжи и санки, а у нас все эти предметы заменяло старое корыто.
Глядя с мальчишеской завистью, как мои приятели весело берут на лыжах заснеженные крутояры, я постоянно донимал мать просьбами достать и мне где-нибудь лыжи. Но в нашем сельмаге такой товар отсутствовал, а ехать за сорок километров в райцентр ей было несподручно, да и не на что.
Однако лыжи к середине зимы, а точнее к моему дню рождения, у меня появились. Их по просьбе матери выстругал из березовых досок сельский умелец Игнат Киричук. Каким-то секретным способом он загнул носки лыж и проделал направляющие желобки. И все равно самоделки получились тяжелые, нестандартного вида. К ним еще прилагались две кругло струганные палки, напоминающие старушечий посох с гвоздиками-наконечниками. Я предполагал, что они для того, чтобы отбиваться от назойливых собак. К лыжам не мог приспособиться долго. При скатывании с горки они разъезжались в разные стороны, и я делал шпагат или катился кубарем, разуваясь на лету. Ребята подшучивали надо мной, но и сами по первости не могли на них удержаться.
Но все же моя настырность дала результат, и я укротил свои неказистые деревяшки. Теперь уже день-деньской готов был пропадать на улице. Иногда наша лыжная дружина углублялась к лесу, где были длинные и пологие овраги. Лавируя между деревьев и кустарников, катались вереницей по слепящему белоснежью. У некоторых пацанов лыжи были ломаны-переломаны на сооружаемых нами трамплинчиках, а мои самоделки выдерживали любые испытания и нагрузки. Но и у них был грустный финиш…
Однажды я заигрался с ребятами на горке и совершенно забыл про четырехлетнюю сестренку. Оставленная без присмотра, да еще в сумеречное время, она нашла спички и зажгла керосинку. Фитиль так высоко выбросил пламя, что ей подпалило волосы и прихватило щеку. Испугавшись, она забилась на печку и, вдоволь наревевшись, уснула.
Когда мать пришла с работы и открыла двери, в избе от копоти было не продохнуть – сестра Танька не сообразила надеть на лампу стекло.
С матерками она выскочила из избы искать меня. А я тут, как тут: стою в сенях, весь в снегу и с лыжами подмышкой. Не выбирая выражений, мать выхватила лыжину и, что есть силы, хрястнула ее о дверной косяк. Березовая самоделка спружинила, но не поддалась. Тогда она бросила ее на порог и резким движением ноги ударила по середке. Лыжина выгнулась, пискнула и надломилась. Вторую лыжину я не дал покалечить: опомнившись, с истеричным криком и слезами повис у матери на руке…
Утром мне все еще не верилось, что лыжина сломана. Выскочил полураздетый в кладовку – вот они, мои «противоударные», и никакому ремонту не подлежат…
В подсобном помещении «зеленой» школы, в которой я учился с первого по четвертый, были лыжи, много пар лыж. Длиннющие, коричневого окраса и с мягким креплением под валенки. Тут же частоколом стояли бамбуковые палки. Первую километровку на этих «самоходах» я прошел в пятом классе. В шестых, седьмых уже парились на пятикилометровке. Лыжня от школы до лесничества была с многочисленными спусками и подъемами, вдоль совхозной фермы с щекочущей нос «парфюмерией».
Частенько по выходным устраивались индивидуальные лыжные гонки старшеклассников на десяти-пятнадцатикилометровые дистанции. Вовка Шестаков, Мишка Поступинский, Толька Крикунов, Петька Неверовский – эти ребята были хозяевами на лыжне и главная надежда физрука Василия Евдокимовича Матаева на районных и областных соревнованиях. Во многих видах спорта прогрессировала моя одноклассница Эльвира Балукова. И на лыжах, которые уже комплектовались ботинками, ей равных среди девчонок не было.
ВСТРЕЧА С РОБЕРТИНО ЛОРЕТТИ
Смешно даже фантазировать: будто итальянский самородок Робертино Лоретти в далеком 60-м приезжал в нашу сельскую школу. По правде, он и в Москву-то попал на закате своей детской славы, хотя культработники министерства проявляли недюжинное старание заманить его в нашу страну. Но импресарио юного дарования запросил баснословный гонорар, что не на шутку вывело из себя генсека Хрущева: «Нечего нам средства распылять. Обойдемся без заграничных вундеркиндов, будем слушать частушки Маруси Мордасовой. Она тоже звонко поет!» Примерно так было представлено резкое выступление советского руководителя на одном из совещаний.
Руководство нашей средней школы поступило проще: раздобыли где-то грампластинку – вот вам и Робертино Лоретти. Послушать неземное пение нас собрали в самом большом классе. Ни просторного спортивного, ни актового зала в школе не было. Новая двухэтажная была еще в фундаменте, а в четырех отдельно стоящих зданиях учиться было неудобно и тесно даже в две смены.
Ребятни набилось – не продохнуть. Многие с любопытством вытягивались на цыпочках в двери из коридора, а в самом классе стоял гвалт, как на птичьем базаре.
Получив несколько безадресных подзатыльников, я сумел все-таки угнездиться поближе к проигрывателю. И в этой сутолоке разглядел ее – русоволосую, с редким посевом веснушек, девочку из шестого класса. Она сидела слева, в метрах трех от меня. Ее кулачок, подпиравший ухоженную голову, был окантован белым кружевным манжетом, что прекрасно гармонировало с красным треугольником галстука. Когда она резко оборачивалась на оклики сидящих сзади, ее каре разбрызгивалось по сторонам (французская певица Мирей Матье в нашем клубе еще не выступала).
…Голос Робертино уносил куда-то в сказочную страну, где море и тепло. Конечно, из наших селян никто там не бывал, и только уроки Татьяны Вощиковой приближали нас к этому волшебному «сапогу». Мои мальчишеские фантазии перемешивались с доброй завистью: вот мой ровесник обладает таким прекрасным даром, а у меня нет никаких талантов, да и в учебе не все складно. Достоин ли я с ярлыком второгодника внимания понравившейся девочки? В какой-то миг мне показалось, что именно для нее и только для нее поет этот чудный итальянский мальчик. Пронизанная его творчеством девочка не обращает внимания на шепотки одноклассниц и, конечно, не знает, что для одного невзрачного семиклассника важнее всех песен Робертино она – русоволосая девочка с Одины.
Как-то прибираясь в антресолях, наткнулся на грампластинку Робертино Лоретти. Вспомнил школу, учителей, одноклассников и, конечно, девочку из далекого шестого «б».
СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ
…Ребята, с какими людьми я встречался. Каких стариков и старух глубокознающих застал в живых! А их лица, походки, жестикуляция – МХАТовским актерам поучиться бы!..
Совхозный пастух Илья Александрович Аксенов:
– Я Володимер знаш, как коня люблю! Он никогда на меня не заругатса, не то, что моя Наталья. – При этом он, не брезгуя, целовал своего вороного.
Клышникова Ирина Матвеевна («флотчиха»). Больше девяноста лет продержалась на земле. Мы по-соседски дружили с ее внуком Васькой, который рассказывал, что бабушкин муж служил на флоте. Отсюда и необычное прозвище. На ней зиму и лето было бессчетное количество юбок, и трудно было определить, из какого потаенного кармана она доставала ключ от сундука, где деньги лежат.
Тетя Нюра Фуфаева («Фуфаиха») – тоже соседка. После смерти Сталина по стране поползли слухи о войне, и она, тогда еще из Советской Украины, со своими малолетками Андрюшкой и Витькой приехала в Кротово и поселилась в «кургане». Однажды Витька обидел мою сестру Таньку, и моя мать надрала ему уши. Фуфаиха при встрече в отместку отвозила ее тяжелой кирзовой сумкой – таким способом была скреплена дальнейшая дружба двух одиноких женщин.
Иван Святкин, немного родственник. Мне было лет тринадцать, когда мы в одной «бригаде» пилили дрова, и он целый день меня «таскал» на пиле. Проворный был мужик. Срубит березу потолще пивной кружки и целиком тащит в село. А во дворе разделает ее: что на жерди, что на дрова, а из веток веников навяжет.
Тетя Анна Катюшина, портниха. Маленькая и горбатенькая, она во время разговора, прихрамывая, обходила человека кругом, улыбаясь, обсматривала, словно собиралась снимать мерку.
Василий Карпухин – неплохой сапожник, конкурент
моего дяди Николая. Глухонемой от рождения, он при разговоре издавал звук автомобильного стартера, после чего иногда вылетало едва понятное слово.
Петр Иванович Кармацкий, участник русско-японской войны 1904 года. По утрам ему замешивали тесто, и он для «конфорту» подкладывал его под культю, прежде чем пристроить вместо ноги деревягу.
Дядя Вася Белан. Тоже пришел с фронта с «трофеем» – деревягой. Но как он на одной ноге стога вершил, смотришь – словно яичечко!
Анатолий Воробьев, мастер спорта по борьбе, учитель физкультуры в Кротовской школе. Вспоминается, как на одной из гулянок в районе Каролишки он под общее одобрение учительской компании уложил директора Штейна на лопатки прямо… в муравейник.
Суйкова Екатерина Петровна. Мало кто ее величал по отчеству, а фамилию и вовсе не знали. Тетя Катя и все. Удивительная была старушка. Я не раз видел, как она голыми руками вынимала из печи чугунок с варевом для скотины и несла его остужаться в сенцы. Позднее я поинтересовался у знакомого физика. И он мне растолковал: «пока в чугунке что-то кипит, его можно спокойно брать за нижнюю часть незащищенными руками». Гостеприимству тети Кати не было предела. В ее домике всегда можно было обогреться. Особо знакомых она непременно усаживала за стол. А сколько квасу я у нее выпил в летнюю жару!
Иван Самарин, заведующий пилорамой. Без малого полтора центнера весил дяденька. Жил он в деревне Вилковой и ездил к работе на лошади. Когда он усаживался в повозку, она прогибалась до критического состояния. Подобных тяжеловесов в округе не было.
Михаил Южаков – «король» бензозаправки. Вот времена были: бензин и газвода в одной цене! Мой корреспондентский транспорт он иногда заправлял и за спасибо.
Особо бы хотелось отметить в разделе минипортретов Иосифа Поступинского, Наполеона Буйнова и Лаврентия Зануду. Таких редких имен, как у них, в Кротово больше не было.
Оська Поступинский был у молодежи в авторитете, а кое-кто его и побаивался. Он приходил на сельский стадион, где старшеклассники сдавали стометровку и шутливо предлагал физруку:
– Ставь, Василий Евдокимович, на финишной поллитровку, я с рекордной скоростью прибегу!
Лаврентий Зануда, кузнец. Невысокого роста крепыш, он приходил в спортзал, где мы, 7-8классники, с натугой тягали сорокакилограммовую штангу и, улыбаясь, спрашивал: «Что вы тут поднимаете?» Затем брал наш «рекордный» вес и без особого напряжения несколько раз выжимал его одной рукой.
Володя Зубов, тракторист. Летними вечерами мы, искупавшись за день до десятка раз, ждали его аттракциона, когда он придет на Чухин омут умываться после работы. Разжигая азарт, он неспешно раздевался, тщательно намыливался и бесшумно уходил минуты на 2-3 под воду. Пронырнув без единого всплеска метров тридцать, он оказывался где-нибудь на другом берегу в зарослях кувшинок.
