Утерянный мир. Как Запад не сумел предотвратить Вторую холодную войну
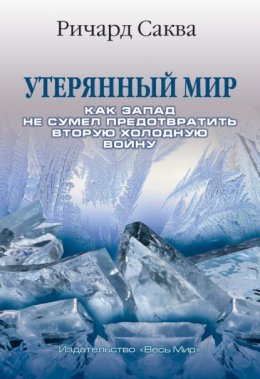
Richard Sakwa
The Lost Peace. How the West Failed to Prevent a Second Cold War
© Richard Sakwa, 2023
© Издательство «Весь Мир», перевод на русский язык, 2025
«Утерянный мир» – превосходная книга. Саква детально показывает, как Запад – особенно Соединенные Штаты – после окончания первой холодной войны проводил политику, которая трагически привела ко второй холодной войне, конца которой не видно.
Джон Дж. Миршаймер, автор книги The Great Delusion (Великое заблуждение).
Мастерский рассказ о решениях, которые за последнюю четверть века ввергли мир в новый кризис. Обязательное чтение для неравнодушных граждан Северной Америки и Европы.
Джек Ф. Мэтлок-мл., бывший посол США в СССР и автор книги Superpower Illusions (Сверхдержавные иллюзии).
Выражение признательности
Как всегда, я выражаю благодарность моему многолетнему редактору Джо Годфри, чье терпение сравнимо только с ее мастерством и неизменным профессионализмом. Анонимные рецензенты предоставили подробные и чрезвычайно полезные комментарии, за которые я им очень признателен. Я хотел бы поблагодарить моих друзей и коллег из Школы политики и международных отношений Кентского университета, которые, как всегда, создали исключительно благоприятную среду для научных исследований и интеллектуальных изысканий. Выражаю особую благодарность проницательным капитанам, стоящим у руля этой маленькой команды в последнее время Хью Миаллу, Ричарду Уитмену, Рут Блейкли, Адриану Пабсту и Надин Ансорг. Сотрудничество с учеными, работающими под эгидой Центра политической философии имени Симоны Вейль в Вашингтоне, округ Колумбия, и с теми, кто связан с журналом «Тэлос» в Нью-Йорке, было исключительно плодотворным. Работа в качестве старшего научного сотрудника в Международной лаборатории исследований мирового порядка и нового регионализма Высшей школы экономики в Москве позволила мне представить некоторые идеи, изложенные в этой книге, а также стала площадкой для бесчисленных содержательных дискуссий и дружеских контактов. Преподавание в качестве почетного профессора факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова – это не только интересная, но и познавательная деятельность. Членство в Международном дискуссионном клубе «Валдай» остается источником новых идей и связей. Он объединяет ученых, практиков, политиков и журналистов с противоположными взглядами со всего мира для диалога и дискуссий. Центр международных стратегических исследований и исследований в области безопасности при Университете Цинхуа под мудрым руководством мадам Фу Ин позволил мне оценить взгляды Китая на глобальные вопросы, чему очень помогли также несколько посещений Китайского университета международных отношений в Пекине. Центр российских исследований и Школа углубленных международных и региональных исследований Восточно-Китайского педагогического университета в Шанхае проводят замечательную работу по сравнительному анализу, и для меня было честью работать с их профессиональной командой в течение многих лет. Посещение Университета Джавахарлала Неру в Нью-Дели открыло новые горизонты для понимания.
Я нахожусь в неоплатном долгу у широкого круга коллег – тружеников сада интеллектуальных устремлений – слишком многочисленного, чтобы перечислить всех, кому я благодарен, но кого, безусловно, не забываю.
Кентербери, март 2023
Аббревиатуры и сокращения
АБИИ – Азиатский банк инфраструктурных инвестиций
АСЕАН – Организация стран Юго-Восточной Азии
АТО – Антитеррористическая операция (военная операция Украины в Донбассе в 2014–2018 гг.)
БЕП – Большое евразийское партнерство
БПЛА – беспилотный летательный аппарат
БРИКС – объединение стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР и др.
БРПЛ – баллистические ракеты подводных лодок
ВВП – валовой внутренний продукт
ВДПЧ – Всеобщая декларация прав человека
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
ВП – Восточное партнерство
ВРЭП – Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство
ГАТТ – Генеральное соглашение по тарифам и торговле
ГВТ – «Глобальная война с террором»
ГЛОНАСС – Глобальная навигационная спутниковая система
ДВЗЯИ – Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
ДЗЯО – Договор о запрещении ядерного оружия
ДН – Движение неприсоединения
ДНЯО – Договор о нераспространении ядерного оружия
ДОВСЕ – Договор об обычных вооруженных силах в Европе
ДРСМД – Договор о ракетах средней и меньшей дальности
ДСНВ – Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений
ЕОА – Европейское оборонное агентство
ЕПС – Европейское политическое сообщество
ЕЭС – Европейское экономическое сообщество
ИДВТ – Исламское движение Восточного Туркестана* (террористическая организация, запрещенная в России)
КБГ – квалифицированное большинство голосов
КЗХО – Конвенция о запрещении химического оружия
КНДР – Корейская Народно-Демократическая Республика
КНР – Китайская Народная Республика
КПК – Коммунистическая партия Китая
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
КРВБ – крылатые ракеты воздушного базирования
КРМБ – крылатые ракеты морского базирования
МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии
МБР – межконтинентальная баллистическая ракета
МГЭИК – Межправительственная группа экспертов по изменению климата (при ООН)
МПГПП – Международный пакт о гражданских и политических правах
МПЭСКП – Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
МС ООН – Международный суд ООН
МТКСЮ – Международный транспортный коридор Север – Юг
МУС – Международный уголовный суд
НАТО – Организация стран Северо-Атлантического договора
НМЭП – новый международный экономический порядок
ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
ОВПБ – Общая внешняя политика и политика безопасности (ЕС)
ОДКБ – Организация Договора о коллективной безопасности
ОЗХО – Организация по запрещению химического оружия
ОМУ – оружие массового уничтожения
ОПБО – Общая политика безопасности и обороны (ЕС)
ОСВ – ограничение стратегических вооружений, переговоры
ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития
ПДЧ – План действий по членству (в НАТО) «Пояс и путь» – китайская инициатива «Один пояс и один путь»
ППС – паритет покупательной способности
ПРМ – Партнерство ради мира
ПРО – противоракетная оборона
СБ ООН – Совет Безопасности ООН
СБСЕ – Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе
СВПД – Совместный всеобъемлющий план действий (по иранской ядерной программе)
СДПГ – Социал-демократическая партия Германии
СНВ – стратегические наступательные вооружения
СНГ – Содружество Независимых Государств
СПГ – сжиженный природный газ
СПС – Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (между ЕС и странами бывшего СССР)
СПС Россия – НАТО – Совместный постоянный совет, форум Россия – НАТО (1997–2002)
СПФС – Система передачи финансовых сообщений
СПЧ ООН – Совет по правам человека ООН
СРН – Совет Россия – НАТО (с 2002 г.)
ССАС – Совет Северо-Атлантического сотрудничества
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
ТТП – Транстихоокеанское партнерство
ФСБ – Федеральная служба безопасности (Россия)
ЦБ РФ – Центральный банк Российской Федерации
ЦЕР – Центр европейских реформ
ШОС – Шанхайская организация сотрудничества
ЭПШП – Экономический пояс Шелкового пути
ЮНЕСКО – Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры
ЮНКЛОС – Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву
AUKUS – оборонительный пакт группы стран в составе Австралии, Великобритании и США
CAATSA – закон США «О противодействии противникам Америки посредством санкций»
CEIW – кибернетическая информационная война
CIPS – китайская Система трансграничных межбанковских платежей
CNOOC – Китайская национальная оффшорная нефтяная корпорация
CNPC – Китайская национальная нефтяная корпорация
CNSA – Китайская национальная космическая администрация
CPTPP – Всеобъемлющее и прогрессивное транстихоокеанское партнерство
DCFTA – Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли
EEAS – Европейская служба внешних действий
EUGS – Глобальная стратегия ЕС
FOCAC – Форум по китайско-африканскому сотрудничеству
FONOP – Операции по защите свободы судоходства
G7 – Группа семи, объединение семи ведущих экономически развитых стран
G20 – Группа из двадцати ведущих экономик мира
GBSD – Оружие стратегического сдерживания наземного базирования
GPS – Система глобального позиционирования
ICAN – Международная кампания за запрещение ядерного оружия
MAD – взаимное гарантированное уничтожение
NDC – определяемые на национальном уровне вклады
NDN – Северная дистрибьюторская сеть
NED – Национальный фонд в поддержку демократии
NIEO – Новый международный экономический порядок
NORAD – Североамериканское командование воздушно-космической обороны
NSS-2015 – Стратегия национальной безопасности 2015, США
PESCO – Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны – программа ЕС
PGM – высокоточные управляемые боеприпасы
Quad – Четырехсторонний диалог по безопасности
R2P – концепция «ответственность по защите»
RFE/RL – Радио Свободная Европа/Радио Свобода
SLBM – маломощные боеголовки для подводных лодок
SWIFT – международная платежная система
USAGM – Агентство глобальных медиа США
USAID – Агентство США по международному развитию
Предисловие к русскому изданию
Я рад, что моя книга теперь доступна читателям на русском языке, и очень благодарен Олегу Зимарину, который перевел эту работу, и его команде из «Всего Мира» за все, что они сделали, чтобы вы могли взять в руки это издание. Вопросы, которые в нем рассматриваются, сегодня стали еще более актуальными, чем тогда, когда книга впервые вышла в свет на английском языке в конце 2023 года. Все темы, что обсуждались в то время, сегодня являются еще более насущными, а на вопросы, уже поднятые в книге, ответов находится все меньше. Но со времени выхода книги читатели задавали и новые вопросы.
Прежде всего, что такое «мир», который был утрачен? Непосредственный ответ состоит в том, что была утрачена перспектива установления «позитивного» мирного порядка после окончания Первой холодной войны в 1989–1991 годах. С окончанием холодной войны идеологическая конфронтация между коммунизмом и капитализмом и геополитическая борьба между Советским Союзом и Соединенными Штатами завершились. Появилась возможность наступления новой эры мира и развития. Это не означало, что региональные конфликты, подобные тем, что происходят на Ближнем Востоке, или проблемы недостаточного развития и социального неравенства внезапно исчезнут, но условия для их решения представлялись более приемлемыми. В Европе был снят старый Железный занавес, и вечная мечта о панконтинентальном объединении стала реальной перспективой. Она могла претвориться в жизнь, по выражению Михаила Горбачева, в «общем европейском доме» – идея которого была поддержана президентом Франции Франсуа Миттераном в форме «европейской конфедерации». Прежде всего, потому, что потенциал мира и развития, закрепленный в Уставе ООН, подписанном в июне 1945 года и вступившем в силу в октябре того же года, лежал в основе международной системы, которая стояла выше повседневных распрей великих и малых держав. Именно к принципам международной системы Устава ООН Горбачев апеллировал, когда положил конец холодной войне.
К сожалению, этому не суждено было сбыться. Советский Союз распался в декабре 1991 года, а голос государства-правопреемника, России, не был слышен в результате травм, нанесенных ей экономическими и политическими преобразованиями. Уже тогда было ясно, что США и их союзники (описываемые в этой книге как политический Запад) не готовы отказаться от своей привычной гегемонии. Фактически, в отсутствие мощной державы-противовеса, сам политический Запад радикализировался. Дошло до того, что там поверили в конец истории и что Запад представляет собой единственную жизнеспособную форму политического и экономического устройства. Утвердилась идея глобализации, которая является не только технологическим фактом, но и идеологическим проектом по установлению неолиберальной формы капитализма во всем мире. Глобализации соответствовала эпоха однополярности, когда осталась только одна крупная держава, и ничто не могло остановить расширение ее амбиций.
Это подводит нас к более глубоким истокам мира, который был утрачен, к миру, перспективы которого появились в 1945 году, после разгрома нацистской Германии и императорской Японии союзниками, сопровождавшегося совместными усилиями по созданию системы ООН. И тогда этому не суждено было сбыться. Сброс двух атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки в августе того же года ознаменовал не последнюю битву Второй мировой войны, а первую грядущей холодной войны. Как выразился в то время Джордж Оруэлл, холодная война в ядерную эпоху – это та война, в которую великие державы боятся вступать напрямую. Хотя Советский Союз получил атомную бомбу только в августе 1949 года, наступление ядерной эры изменило характер войны великих держав. Ключевым моментом является то, что после 1945 года в результате холодной войны сформировался политический Запад. Это включало создание Соединенными Штатами глобальной сети из примерно 800 военных баз, заключение ряда двусторонних договоров о безопасности с партнерами в Азии и, прежде всего, создание НАТО в Европе. Холодная война также повлекла за собой трансформацию американского государства. Было создано «трумэновское» государство военных и служб безопасности, которое и по сей день остается движущей силой в США. Его элементы существовали с момента превращения США в мировую великую державу в ходе войны с Испанией в 1898 году, но тогда они сдерживались традицией консервативного интернационализма, который выступал против мнения, что США – это держава, предназначение которой преобразовывать мир по своему образу и подобию в силу своего «исключительного» характера. Этот воинствующий интернационализм после 1989 года получил полную свободу действий.
Мы должны рассматривать весь период с 1945 года по сегодняшний день как единое целое. Эти годы можно разделить на три этапа: Первая холодная война (1945–1989); период «холодного мира» (1989–2014), в течение которого не была решена ни одна из фундаментальных проблем общеевропейской безопасности; и период Второй холодной войны с 2014 года. Холодная война – это особый тип международной политики, в которой обе стороны исходят из того, что причиной конфликта является не взаимодействие двух стран, а сам характер противоположной стороны, поэтому борьба ведется не за интересы, а за цели и предполагаемые ценности. В результате перемены могут произойти только в том случае, если другая сторона каким-то образом изменится сама или по крайней мере будет готова коренным образом пересмотреть свою внешнюю политику. Опасность такого мышления очевидна. Борьба между капитализмом и коммунизмом ушла в прошлое, но теперь состязание оформлено в виде борьбы между демократиями и автократиями. Сеющая рознь логика холодной войны вернулась с удвоенной силой.
Подобно партиям игры в шахматы, каждая холодная война отличается от других, но проходит по одним и тем же правилам. Сегодня действующие лица изменились: Россия сменила Советский Союз; а на политическом Западе значительно уменьшилось международное значение бывших европейских великих держав; выделилась галерея важных средних держав, включающая Индию, Бразилию, Южную Африку и многие другие страны; но прежде всего Китай, который вновь стал одной из величайших мировых держав. К сожалению, некоторые вещи остаются неизменными – особенно логика холодной войны, которая предполагает негативный мир, вечно балансирующий на краю ядерного вулкана. Некоторые ограничения Первой холодной войны были сняты, и поэтому настоящая холодная война оказалась гораздо опаснее и масштабнее, чем первая. Вся архитектура контроля над вооружениями была демонтирована, а демонизация противника стала гораздо более интенсивной. Был возрожден весь аппарат пропаганды и подавления прежних лет.
Перед лицом множества проблем, включая недостаточный уровень развития стран и ускоряющееся изменение климата, необходимо разработать новую позитивную программу действий в интересах мира. Поскольку человечество как никогда близко к самоуничтожению, требуется по-настоящему новое мышление. Учитывая огромные технологические, медицинские и биологические достижения человечества, устаревшее мышление времен холодной войны и стремление к гегемонии препятствуют наступлению золотого века мира и развития. Именно этой цели посвящена моя книга.
Кентербери, сентябрь 2024 года
Введение
Окончание холодной войны в 1989 г. открыло перспективу установления прочного мира нового типа. Теперь, когда человечество больше не разрывали на части жесткие идеологические противоречия XX в., мир и согласие казались возможными. Глобальная политика как раз и заключается в создании нового мирного порядка. Советский Союз под руководством Михаила Горбачева с марта 1985 г. отказался от большей части идеологии, питавшей холодную войну, изменил внутреннюю политику и поощрял политические реформы среди своих союзников в Восточной Европе. Западные державы преодолели первоначальные сомнения и включились в процесс перемен. Поток деклараций и соглашений провозгласил наступление эры сотрудничества и развития.
Ожидалось, что благотворное влияние установления мира в Европе распространится по всему миру. Наступила эпоха глобализации с ее представлениями о том, что время и пространство могут быть покорены новыми коммуникационными технологиями, перекрыты сетью личных и деловых контактов, крепнущей благодаря дешевеющим авиаперелетам и в силу той взаимозависимости, что создают торговые и финансовые связи. Формировался глобальный средний класс, опирающийся на сходные модели потребления, культурные ориентиры и даже общие взгляды на демократию, подотчетность и верховенство закона. Между повышением уровня жизни и требованиями к демократии нет автоматической корреляции, однако в долгосрочной перспективе потребительский образ жизни порождает потребность в личной автономии и защите, предоставляемой независимым судом. Когда в Европе закончилась холодная война, Китай все еще находился на ранних стадиях своей трансформации и придерживался философии «мирного роста», однако вопрос о его политической трансформации был поставлен уже тогда.
Но прежде всего основу для международного права, глобального управления и гуманитарной деятельности давала международная система, созданная в конце Второй мировой войны в 1945 г., основанная на Организации Объединенных Наций, ее Уставе и институтах, и именно к этому универсальному порядку обращался Горбачев. Советские реформаторы верили, что с окончанием холодной войны эта система сможет в полной мере вступить в свои права, позволяя процветать многостороннему сотрудничеству, одновременно ослабляя традиционное геополитическое соперничество и борьбу великих держав. Многого удалось достичь. Угроза атомного Армагеддона долгое время вынуждала к осторожности в международных делах, а вот теперь тень неминуемой ядерной войны рассеялась. «Дивиденд мира» позволил сократить военные бюджеты и умерить милитаризм, характерный для холодной войны. Глобализация и экономическая взаимозависимость смягчили политические разногласия, породив идеологии «третьего пути». Казалось, загадка прогресса решена. Достигнув предполагаемого «конца истории», человечество объединится на принципах международного права и рыночной демократии.
Эти ожидания не оправдались, и не в первый раз. Французская революция 1789 г. поглотила саму себя и закончилась военной диктатурой. Большевистская Октябрьская революция 1917 г. внушила миллионам людей веру в то, что революционный социализм положит начало эре мира и процветания, но прежде сама потонула в океане крови. Вера в обновление вновь расцвела в конце 1980-х, на этот раз не через революцию, а именно через отказ от насилия. Это был поистине «антиреволюционный» момент, когда в перспективе забрезжила логика внутреннего примирения и международного сотрудничества. Фундаментальные проблемы бедности, неравенства, недостаточного развития, неоколониализма, неолиберальной финансиализации (отделение торговли от физической доставки товаров и услуг), ухудшения состояния окружающей среды и многого другого остались, но условия для их решения оказались необычайно благоприятными. Приближался новый рассвет.
Специалисты по Советскому Союзу, в том числе и я, искренне описывали преобразующий потенциал горбачевской перестройки – того слова, которое он использовал с июня 1987 г. для обозначения своей программы реформ, и приветствовали ослабление напряженности времен холодной войны. Достижения того периода были реальными: демонтаж репрессивного аппарата государственного контроля, расцвет дискуссий и демократических устремлений во всем регионе, а также освобождение государств советского блока. В ноябре 1989 г. пала Берлинская стена, и к концу года коммунистические системы ушли в прошлое. Страны Центральной и Восточной Европы были свободны в выборе своей судьбы. Сам Советский Союз был разорван на части силами, вызванными реформами, и в декабре 1991 г. распался. Пятнадцать бывших союзных республик превратились в независимые государства почти без какого-либо насилия, хотя подспудное напряжение проявилось в последующие годы. Крушение коммунистического строя и распад Советского Союза были эпохальными событиями и продолжают определять нашу эпоху «после окончания холодной войны».
В октябре 1945 г. Джордж Оруэлл описал холодную войну как «мир, который не является миром»[1]. Однако согласие, установившееся после 1989–1991 гг., можно было в лучшем случае назвать непростым и чреватым новыми конфликтами. Это был «холодный мир», при котором фундаментальные вопросы развития и европейской безопасности оставались нерешенными. Реакция французского военачальника маршала Фоша на Версальский мирный договор от июня 1919 г. была однозначной: «Это не мир. Это перемирие на двадцать лет», и таким оно и оказалось. В 1939 г. Европа и весь мир вновь погрузились в войну. В равной степени урегулирование, состоявшееся после 1989 г., стало еще одним Версальским миром в том смысле, что оно было лишь частичным и в конечном итоге привело к возобновлению конфликта, описанного в этой книге как Вторая холодная война. Эту борьбу теперь характеризуют как конфликт между либеральной демократией и различными типами авторитаризма, при том что противостояние великих держав подкрепляется культурной и цивилизационной мобилизацией. Политический Запад, возникший во время Первой холодной войны и сформированный под ее влиянием, разросся, создавая новые границы между расширяющимся либеральным международным порядком и аутсайдерами. Такой порядок должен был быть демократическим миром, но он с неизбежностью вступил в противоречие с теми, у кого были другие представления о том, как им наилучшим образом осуществлять собственное развитие и обеспечивать национальную безопасность. К тому же в таком международном порядке должен был доминировать Запад, что усиливало озабоченность таких стран, как Россия и Китай, имеющих собственные великодержавные амбиции.
Мирный порядок[2], предусмотренный Уставом ООН, является умеренной формой политики, проводимой великими державами, и выдержан в выражениях баланса сил и сфер интересов, уравновешиваемых приверженностью многостороннему сотрудничеству. В его основе лежит понятие «либерализма Устава», основанное на плюралистической идее международного сообщества. Джерри Симпсон описывает это как «процедуру организации отношений между различными сообществами». Это контрастирует с «либеральным антиплюрализмом», описанным Симпсоном как «либерализм, который может быть эксклюзивным и нелиберальным по своим последствиям», прежде всего из-за «отсутствия терпимости к нелиберальным режимам». Таким образом, либерализм делится на две традиции: «евангельскую версию, которая рассматривает либерализм как всеобъемлющую доктрину или социальное благо, заслуживающее поощрения, и другую, более светскую традицию, подчеркивающую процедурность и разнообразие»[3]. Это разделение приняло более резкие формы в эпоху после окончания холодной войны. Оно лежит в основе противоречия между суверенным интернационализмом, в котором уважение к суверенитету смягчается приверженностью ценностям Устава ООН, и более широким взглядом на международную политику, описываемым в этой книге как демократический интернационализм, радикальная версия либерального интернационализма.
После 1989 г. относительно структурированная биполярная конфронтация времен Первой холодной войны между американской и советской социальными системами перешла в иную плоскость. Были предложены две системы мироустройства – новые мировые порядки, на жаргоне того времени, – и именно столкновение между ними, как это ни парадоксально, привело к конфликту и в конечном счете к войне. Первая – это суверенный интернационализм, к которому Горбачев апеллировал, начиная свои реформы. Это система, которую США, Советский Союз, Китай и другие победители создали в 1945 г. в форме ООН и связанного с ней свода норм международного права и практики. Международная система, основанная на Уставе ООН, сочетает в себе государственный суверенитет, право на национальное самоопределение (что способствовало деколонизации) и права человека. Устав ООН запрещает войну как инструмент политики и обеспечивает основу для мирного урегулирования международных конфликтов. В отличие от злополучной Лиги Наций в межвоенные годы мирный порядок по Уставу получил в качестве своей основы «концерт держав», представленный пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН, «Пятерку», в которую входят США, Россия, Китай, Франция и Великобритания. Когда в конце 1980-х годов Советский Союз начал свои реформы, он обратился к системе Устава ООН как к модели мира и развития, продвигая ее как универсальную модель для человечества.
Суверенный интернационализм формально уважает интересы всех держав, больших и малых, и в то же время стремится к многостороннему разрешению проблем, с которыми сталкивается человечество. Конечно, это идеал, и практика международной политики, как правило, далека от него. Тем не менее система Устава и его принципы остаются основой для ведения международных дел. Хотя в последние годы она подверглась беспрецедентному напряжению, никто не предложил серьезной альтернативы. Горбачев обратился к этой модели суверенного интернационализма, чтобы положить конец холодной войне, полагая, что она обеспечит общую основу для преобразований в международных делах. Этого не произошло, но идея некоего кооперативного суверенного интернационализма лежала в основе мышления Движения неприсоединения с 1950-х годов и остается сердцевиной различных незападных объединений сегодня. Эта модель международной политики избегает создания военных союзов и блоков и, по крайней мере формально, отвергает мнение о том, что мировой порядок требует, чтобы во главе его стоял какой-то гегемон. Приверженность Уставу ООН и последующим протоколам влечет за собой приверженность принципам человеческого достоинства и прав человека, но при этом государственный суверенитет и невмешательство во внутренние дела других государств остаются приоритетами.
Другой «новый мировой порядок» – это более узкий либеральный международный порядок, созданный и возглавляемый Соединенными Штатами в послевоенные годы. В XIX в. Великобритания выступала в качестве поборника свободной торговли и открытого судоходства – роль, которую США взяли на себя после 1945 г. История либерального интернационализма восходит по крайней мере к эпохе Просвещения и свойственным ей взглядам на прогресс, рациональность, свободную торговлю и сотрудничество[4]. Опираясь на эту традицию, послевоенный либеральный интернационализм опирался на сообщество либеральных демократий, основанное на двух ключевых элементах: открытой торговой и финансовой системе, созданной в рамках Бреттон-Вудского соглашения 1944 г., и военной мощи, сформировавшейся по мере усиления холодной войны, кульминацией которой стало подписание Вашингтонского договора от 4 апреля 1949 г. о создании Организации Североатлантического договора (НАТО). Термин «либеральный» во времена холодной войны в основном означал «антикоммунистический», а не «либерально-демократический», однако он обеспечивал мощную и в конечном счете успешную нормативную базу для победы над советским противником. Сочетание либерального интернационализма с геополитической мощью и амбициями Америки означало, что это был «гегемонистский» мировой порядок, в котором доминировали США и их союзники. Гегемония означает способность определенного политического сообщества осуществлять лидерство по отношению к другим и упорядочивать отношения между подчиненными элементами. Гегемония достигается за счет сочетания принуждения и согласия, причем наиболее успешным является установление общих рамок убеждений и политики, когда согласие является подлинным и дается свободно, а принуждение применяется только в качестве крайнего средства[5].
С окончанием Первой холодной войны либеральный интернационализм провозгласил не только свою победу, но и собственную универсальность – более не могло быть отдельных «сфер влияния», поскольку руководство ведомым США миром было провозглашено глобальным проектом. Биполярность времен холодной войны исчезла, и в последующие однополярные годы не осталось никого, кто мог бы оспорить это утверждение. В отсутствие серьезной конкуренции либеральный интернационализм превратился в нечто более радикальное и экспансивное. Это называют либеральной гегемонией, обеспечивающей глобальное лидерство Америки посредством демократического интернационализма и одновременно укрепляющей ее геополитическое господство. США превратились в колосса, господствующего на земном шаре, питающего высокомерные иллюзии всемогущества. Все это излагалось на мягком языке прав человека, демократии и открытых рынков, но ряд опрометчивых и неудачных проектов смены режимов в непокорных странах продемонстрировали пределы могущества США и их трансформационного потенциала. Политический Запад позиционировал себя как универсальную модель для всего человечества, превосходящую все возможные альтернативы. В этой модели либерального порядка было много привлекательного, пока она оставалась в рамках международной системы Устава ООН. Прогрессивные аспекты либерального интернационализма завоевали сторонников по всему миру. Однако более амбициозная программа либеральной гегемонии выявила односторонние и принудительные черты, особенно когда она была выражена в терминах американской исключительности. Озабоченность переросла в беспокойство и в конечном счете в сопротивление. В первые годы ворчала и настаивала на приоритете универсализма Устава ООН лишь значительно ослабевшая Москва, но она была не в состоянии бросить вызов лидерству США, однако более серьезным соперником после завершения своего «мирного подъема» стал Китай.
Система Устава ООН остается единственной легитимной основой международного права и вмешательства, однако радикальная и экспансионистская версия политического Запада посягнула на ее прерогативы. Произошла своего рода «великая узурпация», когда западные державы стремились подрывать автономию системы Устава ООН, если это соответствовало их целям. Это сопровождалось ложным универсализмом. Трансформации международной политики, предполагавшейся лидерами в Москве и ожидаемой различными «прогрессивными» движениями на Западе, в частности организациями мира и церковными движениями, а также евразийскими державами и некоторыми странами того, что сейчас называют Глобальным Югом (Африка, Азия и Латинская Америка) не произошло. Взамен этого система, созданная западным альянсом во время холодной войны (политический Запад), продвинулась по всему миру, и в частности в Восточной Европе. Это может быть и отвечало пожеланиям ставших свободными стран бывшего Советского блока и некоторых бывших советских республик, но отражало структуру выбора, сформированную Вашингтоном. Вместо либерализма Устава возобладал либеральный антиплюрализм, вытеснивший суверенный интернационализм, который позже вернулся в виде популистских вызовов.
Господство демократического интернационализма и его гегемонистских институтов порождало в России все более горькое ощущение, что ее предали и изолировали, кульминацией чего стал затяжной конфликт вокруг Украины. Подпитываемая сырьевым бумом начала 2000-х годов, Россия восстановила себя как авторитарное государство, обладающее волей и ресурсами, чтобы бросить вызов гегемонии политического Запада. Москвой «великая узурпация» была признана незаконной и неприемлемой. Вместо беспристрастности и инклюзивности, присущих международной системе Устава ООН, политический Запад (самонадеянно называющий себя «международным порядком, основанным на правилах») позиционировал себя в качестве арбитра, устанавливающего правила. Сопротивление России усилилось из-за все более тесного взаимодействия с Китаем. К 2014 г. Китай по паритету покупательной способности стал крупнейшей экономикой мира и все активнее демонстрировал свою новую мощь. В Европе система безопасности, созданная в конце холодной войны, постепенно распадалась, что сопровождалось усилением конфликтов вдоль формирующейся линии фронта на ее восточных рубежах. Архитектура контроля над вооружениями, с таким трудом выстроенная во время холодной войны, была в значительной степени демонтирована, развязаны различные войны по выбору и необходимости, и в конце концов противостояние великих держав возобновилось.
У этих двух порядков – суверенного интернационализма международной системы Устава ООН и либерального интернационализма – порядка, возглавляемого США, было много общего. Оба они были созданы в ответ на катастрофу Второй мировой войны и во многом основывались на одних и тех же принципах и стремлениях. Международная система Устава ООН была более широкой и включала в себя различные типы режимов (коммунистический, мусульманский традиционалистский, монархический и др.). Однако, несмотря на их общее происхождение, эти два порядка не были одинаковыми. Путаница между двумя переплетающимися, но отдельными порядками, существовавшими после окончания холодной войны, была характерна для этой эпохи, и она будет рассмотрена в данной книге. Россия открыто, а затем и Китай, собираясь с силами, бросили вызов тому, что они считали узурпацией рамок Устава ООН со стороны гегемонии во главе с США, которая в своем наиболее широком проявлении превратилась в идеологию превосходства. Это сопровождалось демократическим интернационализмом, который бросил вызов фундаментальному понятию суверенитета в погоне за несомненно добродетельной верой в свободу и верховенство закона. Столкнулись две концепции международных отношений, каждая была приемлема по-своему.
Эта дилемма не нова. Роберт Каплан ссылается на греческое определение трагедии, которая не является «торжеством зла над добром, а торжеством одного добра над другим, что приносит страдание»[6]. Чтобы пройти между ними, требуется лидерство редкого качества, которого как раз катастрофически не хватало после окончания холодной войны. Для этого также требовалось мудрое государственное руководство, которого, как оказалось, тоже не хватало. Макс Вебер проводил различие между «этикой убеждения», согласно которой лидеры преследуют благородные цели независимо от последствий, и «этикой ответственности», по которой управление государством ориентировано на достижимые выгоды[7]. В нашем случае державы, которых определили как ревизионистские, осудили предполагаемую замену международного права и автономии интернационализма Устава ООН претензиями Америки на международное лидерство и глобальное превосходство. Мы называем это «великой подменой», и это одна из центральных тем данной книги. В ответ на это США и их союзники, что вполне понятно, удвоили усилия по защите либерального порядка от нелиберальных автократических сил. Это эпическое противостояние воспроизводило логику холодной войны. Глобальная битва за превосходство велась с помощью опосредованных войн, информационных кампаний и мобилизации материальных и интеллектуальных ресурсов.
Относительная бессрочность холодного мира сменилась Второй холодной войной. Использование этого термина ставилось под сомнение, и на то были веские причины. Если оно предполагает возврат к прежней модели взаимоотношений и возобновление прежних противостояний, то это неуместно. Мир изменился, появились новые проблемы, преобладают инновационные технологии, появляются новые идеи, меняется баланс сил между государствами. Использование этого термина затемняет то, что является новым, и искажает анализ. Эти критические замечания справедливы, но в то же время что-то напоминающее холодную войну – постоянный и укоренившийся конфликт великих держав по фундаментальным вопросам, сопровождаемый старомодной, но непрекращающейся борьбой за власть и статус, беспрерывные информационные войны, попытки разделить мир на конкурирующие идеологические блоки, милитаризм и гонка вооружений, и все вместе омраченное ядерной угрозой, – безусловно, вернулось. Точно так же как Первая холодная война не охватывала всего, что имело значение в международной политике в первые послевоенные десятилетия, Вторая холодная война, безусловно, не охватывает всего спектра глобальных проблем. Тем не менее она обеспечивает не только понятную основу для анализа, выявляя элементы преемственности и признавая при этом то, что отличает второй конфликт от первого, но и выявляет факторы, которые привели к возобновлению конфликта и утере мира.
Это подводит нас к фундаментальному вопросу: что мы подразумеваем под миром? Институт экономики и мира, базирующийся в Сиднее, Австралия, публикует «Глобальный индекс мира», который оценивает 163 страны в соответствии с их уровнем миролюбия. В индексе используется концепция «негативного мира», т. е. отсутствия насилия или страха перед насилием. Однако мир не означает просто отсутствие войны. Устойчивый мир описывается в ней как «позитивный мир», который пронизывают отношения, институты и структуры, создающим и поддерживающим мирные общества[8]. До тех пор пока не будут созданы надежные структуры и принципы, поддерживающие мирный порядок, всегда будет существовать возможность возобновления войны. Западная Азия (включая то, что традиционно было известно как Ближний и Средний Восток) на протяжении десятилетий была подвержена конфликтам, однако, несмотря на наличие в Европе густой сети миротворческих агентств, именно здесь был исчерпан потенциал для достижения позитивного мира, а с 2014 г. он превратился в открытую конфронтацию. Это различие будет применено в данной работе.
Позитивный мирный порядок в нашем случае – это такой порядок, при котором игроки сотрудничают в рамках более широкой международной системы, руководствуясь принципами суверенного интернационализма и международного права. Это согласуется с точкой зрения, высказанной президентом Джоном Ф. Кеннеди в его дальновидной вступительной речи в Американском университете в Вашингтоне, округ Колумбия, в июне 1963 г., речи, которая до сих пор имеет силу воздействия. Позже мы вернемся к его нереализованному потенциалу, но основным аргументом речи было то, что «мир – это процесс, способ решения проблем»[9]. Трагедия мира, установившегося после окончания холодной войны, заключается в том, что «процесс», в рамках которого подлинный диалог, учитывающий интересы всех сторон, на самом деле так и не начался. Это была настоящая трагедия в классическом смысле этого слова, когда одно благо вступает в противоречие с другим. На какой шкале можно сравнить справедливость и свободу с миром и безопасностью? Все стороны были убеждены в правоте своего дела, и это было логично, однако взаимное чувство правоты только усилило конфликт. Установился негативный мир, основанный на управлении конфликтами, что является классическим условием холодной войны. Только управление конфликтами в стиле холодной войны в конечном итоге оказалось неэффективным.
Каждая шахматная партия отличается от других, но каждую играют по одним и тем же правилам. Точно так же Вторая мировая война отличалась от Первой, хотя она определялась тем, как закончилась Первая мировая война, так и Вторая холодная война отличается от предыдущей, но она также сформирована тем, как закончилась Первая холодная война. Многие из прежних институтов, проблем и практик остались, а вместе с ними появились новые действующие лица и новые разделительные линии. Старый конфликт между капитализмом и социализмом якобы уступил место конфликту между демократией и автократией, хотя его также можно рассматривать как борьбу между Уставом ООН и антиплюралистическим либерализмом. Конфликты из-за фундаментальных моделей общественного развития, свободы человека, иерархии и статуса вновь формируют международные отношения. Однако в отличие от прежней борьбы Вторая холодная война в 2022 г. превратилась в войну чужими руками между Россией и политическим Западом из-за Украины. Война чужими руками, прокси-война – это вооруженный конфликт, который ведется на территории третьей стороны, в ходе которого государство предоставляет финансовые средства, оружие, материальные средства, советников и все, что угодно, кроме своих вооруженных сил. Прокси-характер конфликта на Украине с самого начала был неоднозначным, поскольку Россия является непосредственным участником. С самого начала она пыталась ограничить свое участие в том, что оно эвфемистически называло «специальной военной операцией». С другой стороны, западные державы поддерживали Вооруженные силы Украины оружием, финансовыми средствами и разведывательными данными. Они определили конфликт как оборонительную войну, которую Украина не начинала и в которой она боролась за само свое выживание. Крупные державы стремились избежать пересечения границ (красных линий), которые могли бы перерасти в прямую вооруженную конфронтацию и ядерное уничтожение в Третьей мировой войне.
Это история, которая начинается с надежды, но заканчивается настоящей трагедией, как в классическом, так и в современном смысле. После 1989 г. была возможность установить положительный мир, но ее упустили. Эта работа представляет собой интерпретационный анализ, сочетающий эмпирические и теоретические исследования для объяснения событий тех лет. Это не подробная история международных отношений, здесь дипломатия является частью более широкого рассмотрения, призванного найти объяснение тому, как и почему был утерян мир. Основываясь на этом, данная работа может указать на то, как мир можно обрести вновь.
Часть I. От войны холодной к горячей
Глава 1. Обещание мира
Могло ли быть по-другому? Холодная война закончилась в 1989 г., возвестив о возможности установления позитивного мира. Вместо этого три десятилетия спустя мир оказался в тисках возобновившегося конфликта, в котором атлантические державы противостоят возрождающимся России и Китаю. Но был ли на самом деле возможен новый мирный порядок? Когда-нибудь вообще удавалось выиграть мир? Могут ли перемены совершаться мирным путем, или судьба человечества – всегда оставаться в плену конфликтов, когда война и угроза войны определяют международную политику и социальные взаимодействия? Лучшие умы на протяжении веков размышляли над этими вопросами, но моя отправная точка более конкретна: это момент осознания возможности в конце Первой холодной войны. Истощение революционного социалистического вызова, брошенного капиталистической современности, и трансформация, пережитая главным геополитическим конкурентом политического Запада, безусловно, были эпохальными событиями, но мог ли этот переломный момент привести к устойчивой перемене поведения? Теперь мы знаем, что потенциал для какого-то нового устроения был растрачен, но действительно ли существовала перспектива нового мирного порядка? Никто не ждал, что лев возляжет рядом с агнцем, однако международная система Устава ООН сделала возможным (и еще может осуществить это в будущем) создание основы для установления позитивного мира между суверенными нациями. Чрезвычайная климатическая ситуация и глобальные пандемии, сопровождающиеся множеством угроз, включая ядерное уничтожение и рост устойчивости к противомикробным препаратам, могут заставить человечество объединиться. Но пока обещанный мир оказался утраченным.
Это был не первый случай, когда за конфликтом следовали попытки установить прочный мир. В свое время министр иностранных дел Австрии Клеменс фон Меттерних считал, что после революционных потрясений и Наполеоновских войн Европе необходима система, которая связала бы «механизмы, регулирующие взаимодействие между государствами, с факторами, обеспечивающими стабильный социальный и политический порядок внутри их»[10]. Меттерних создал такое равновесие на Венском конгрессе 1814–1815 гг., которое в основном сохранялось в течение почти столетия, прерывавшееся Крымской войной (1853–1866) и войнами за объединение Италии и Германии. После Первой мировой войны такого соглашения достигнуто не было, и межвоенный период представляет собой впечатляющий пример утраченного мира. На Парижской мирной конференции в январе 1919 г. была создана Лига Наций, но унизительные условия, навязанные Германии Версальским мирным договором в июне того же года, породили постоянное недовольство. Историк и специалист по международным отношениям Э. Х. Карр назвал межвоенную эпоху двадцатилетним кризисом (1919–1939), периодом «холодного мира», в течение которого так и не были решены некоторые фундаментальные проблемы безопасности[11]. Аналогичным образом, за 1989 годом последовал 25-летний кризис, который первый посткоммунистический Президент России Борис Ельцин тоже назвал холодным миром (1989–2014). Недостатки мирных порядков в обоих случаях привели к возобновлению конфликта[12].
Карр отмечает, что союзники-победители в межвоенные годы были озадачены вопросом, как случилось, что они «потеряли мир»[13]. Победа союзников была решительной, хотя и неполной. Первая мировая война закончилась перемирием, а не безоговорочной капитуляцией, что породило в Германии мифы об «ударе в спину». Два десятилетия спустя побежденные державы «добились гигантских успехов в восстановлении», в то время как «победители 1918 года оставались беспомощными зрителями», дискутируя между собой о том, был ли Версальский договор слишком карательным или недостаточно карательным. После начала российской операции на Украине в 2022 г. разгорелись аналогичные дебаты. Критики, начиная от бескомпромиссных неоконсерваторов (неоконов) и заканчивая либеральными интервенционистами, утверждают, что более жесткий мир после окончания холодной войны мог бы предотвратить возрождение великодержавных имперских амбиций России. Как минимум они настаивают на том, что на действия России в Крыму и на Донбассе в 2014 г. должен был последовать гораздо более жесткий ответ. С другой стороны, реалисты в области международных отношений различных мастей наряду с традиционными консерваторами, палеоконсерваторами и либеральными прагматиками утверждают, что конфликт спровоцировала именно неспособность создать стойкий и всеобъемлющий порядок безопасности, включающий Россию. Тогда, как и сейчас, речь шла о характере мира «после победы» и структуре международной политики[14].
«Межвоенный» период после 1989 г. длился гораздо дольше, чем в 1920-е и 1930-е годы, порождая иллюзии о том, что действительно наступила эра постоянного мирного развития. Прочный характер мира был обусловлен отчасти тем, что международная система извлекла важные уроки из предыдущих неудач. Система Устава ООН была заметно более амбициозной в своей попытке создать прочный послевоенный мирный порядок[15]. Мир был утрачен после 1918 г., и в 1945 г. целью было избежать повторения прежних ошибок[16]. Международная система Устава ООН обеспечивала динамичную и авторитетную основу для международной политики, но российско-украинский конфликт 2022 г. поставила ее под угрозу как никогда ранее. Однако в знак укрепления системы Устава ООН, страны Глобального Юга сплотились для ее защиты. Множество постколониальных освобожденных государств больше не желали выступать в роли прокси в борьбе традиционных великих держав Глобального Севера и отстаивали подлинную многосторонность, если не многополярность.
Международная система Устава ООН сочетает в себе уважение суверенитета и развитие навыков многосторонности посредством суверенного интернационализма. Суверенный интернационализм представляет собой особый подход к роли норм и силы в международной политике. Он противоречит либеральному интернационализму, который основан на существовании сообщества либеральных демократий. Считается, что их безопасность укрепляется благодаря экспансивной динамике демократического интернационализма, достигаемой благодаря мерам по продвижению демократии, операциям по смене режима и делегитимации авторитарных и неприсоединившихся игроков. С другой стороны, наступательный реализм и неореализм представляют собой основанные на силе интерпретации международной политики, направленные на поддержание гегемонии и укрепление статуса. Суверенный интернационализм представляет собой альтернативу как неореализму с его акцентом на баланс сил, сферы интересов, уравновешивание и т. п., так и полноценному либеральному интернационализму, который включает в себя целый ряд других атрибутов, в том числе свободную торговлю и либеральную демократию. В центре внимания неореализма находятся отношения между государствами в анархической глобальной среде, в то время как суверенный интернационализм принимает логику противоборствующих государств, но утверждает, что с 1945 г. это противоборство сковывается плотным покрытием норм Устава ООН. Суверенный интернационализм ограничивается правовыми и нормативными рамками проведения международной политики и оставляет ее конкретное содержание отдельным государствам. Это не означает, что суверенный интернационализм не имеет никаких ценностей. Членство в ООН означает принятие широких обязательств, связанных с человеческим достоинством, развитием и многосторонностью.
Международная система Устава ООН родилась в мрачные дни Второй мировой войны. Атлантическая хартия, составленная Уинстоном Черчиллем и Франклином Д. Рузвельтом в августе 1941 г. на борту британского линкора «Принц Уэльский» у берегов Ньюфаундленда, остается краеугольным камнем послевоенной международной системы. Ее восемь «общих принципов» полностью соответствовали либеральному универсализму, провозглашенному президентом США Вудро Вильсоном (1913–1921), вдохновителем Лиги Наций, поэтому послевоенный порядок часто называют «вильсоновским». Это стало выражением радикального видения либерального интернационализма, которое должно было «преобразовать старую глобальную систему, основанную на балансе сил, сферах влияния, военном соперничестве и союзах, в единый либеральный международный порядок, опирающийся на национальные государства и верховенстве закона»[17]. Это было далеко идущее видение, и некоторые из идей не были бы одобрены Великобританией, величайшей имперской державой того времени, если бы не настоятельная необходимость вовлечь США в борьбу против нацистской Германии. В отчаянных обстоятельствах, когда Британия в одиночку противостояла гитлеровским армиям, Черчилль был вынужден положить защиту империи на алтарь победы над нацистской Германией. Советский Союз все еще не оправился от разрушительного немецкого вторжения в рамках операции «Барбаросса» 22 июня, поэтому Черчилль был готов пойти на компромиссы, которые угрожали целостности империи. В первой статье Хартии недвусмысленно заявлялось, что ни одно из государств не стремится к территориальному расширению; во второй выражалось намерение не соглашаться ни на какие территориальные изменения, «не находящиеся в согласии со свободно выраженным желанием заинтересованных народов»; третья обязывала уважать «право всех народов избирать себе форму правления, при которой они хотят жить», в то время как в четвертой говорилось о том, что все государства имеют «доступ на равных основаниях к торговле и к мировым сырьевым источникам, необходимым для экономического процветания этих стран», что положило бы конец британским имперским предпочтениям и открыло империю для американского капитализма. Для Черчилля ключевым моментом был шестой абзац: «окончательное уничтожение нацистской тирании»[18].
Нападение Японии на американский флот в Перл-Харборе 7 декабря 1941 г. было еще впереди. США не были воюющей страной, поэтому не могло быть предметного обсуждения военного сотрудничества. Поэтому основное внимание было уделено общим принципам и нормативным основам будущего мирного устройства. Месяцем позже СССР и девять правительств оккупированной Европы подписали Атлантическую хартию. Сочетание безопасности и ценностей (силы и норм) Хартии позже легло в основу Устава ООН и международной системы, созданной после войны. Эти принципы были включены в Декларацию Объединенных Наций от 1 января 1942 г., в которой 26 стран, воюющих с державами Оси, включая СССР и Китай, обязались соблюдать принципы Атлантической хартии и сражаться ради общей победы. Таким образом, эти государства стали членами-основателями того, что впоследствии стало организацией с таким названием.
При поддержке союзных держав Советский Союз переломил ход войны. Вопрос о послевоенном мирном устройстве становился все более актуальным. На ряде конференций – в Касабланке, Тегеране, Москве, Ялте и Потсдаме – была предпринята попытка, как пишет Генри Киссинджер в своем исследовании мирового порядка, «определить концепцию мира»[19]. На этих конференциях была заложена фундаментальная архитектура послевоенной международной системы. Союзники работали над установлением «нового мирового порядка», в котором Советский Союз принимал активное участие. На конференциях в Касабланке в январе и Тегеране в ноябре 1943 г. были определены контуры новой Организации Объединенных Наций. На конференции в Думбартон-Оксе, проходившей в Вашингтоне с августа по октябрь 1944 г., собрались представители «Большой четверки» – США, Великобритании, СССР и Китая, а также некоторых других государств, чтобы сформулировать предложения по созданию «общей международной организации», и они согласовали цели, структуру и функционирование нового органа. Основные положения ООН были приняты на Ялтинской конференции советским лидером Иосифом Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем в феврале 1945 г.
Ялтинская встреча вызывает особенно много споров. Фактически достигнутые договоренности были разумными, особенно в отношении ООН и обещаний провести свободные выборы в Польше и других восточноевропейских государствах, но не существовало механизма, который обеспечил бы выполнение Сталиным своих обещаний. Неудивительно, что Ялта осуждается в регионе и символизирует подчинение малых стран великим державам, и особенно Центральной Европы советским интересам в области безопасности. С точки зрения классической политики «концерта» великие державы провозгласили суверенный интернационализм основой нового порядка, который сохраняется (с изменениями) и по сей день. Принцип суверенного интернационализма выходит за рамки классической безоговорочной защиты национальных интересов, описываемой классическими реалистами, и он сочетает государственную автономию с многосторонностью, приверженностью международным договорам и процессам. Мир уже давно двигался в этом направлении, предпринимая различные попытки регулировать ведение войны, разве что только не запретить ее полностью как инструмент политики начиная с конца XIX в. После разрушительных последствий Второй мировой войны такие усилия активизировались. Было достигнуто новое равновесие между реалистичным соблюдением национальных интересов и государственного суверенитета и сотрудничеством в рамках многосторонних институтов.
Принятие Устава ООН на конференции в Сан-Франциско 26 июня 1945 г. подготовило почву для официального создания организации (после ратификации национальными парламентами) в октябре того же года. Пяти великим державам того времени (Франция была удостоена почетного членства) была предоставлена привилегия применять право вето в Совете Безопасности ООН (СБ ООН), воспроизводя структуру Венского концерта, призванного поддерживать мир в постнаполеоновской Европе. Основополагающим принципом был суверенный интернационализм, но нормативный импульс, возникший после массовых жестокостей войны, был глубоким. В Уставе семь раз упоминаются права человека, но не уточняется, какие именно. Этому была посвящена Всеобщая декларация прав человека (ВДПЧ), принятая Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1948 г. Конвенция о геноциде, принятая Генеральной Ассамблеей в том же месяце, запрещает попытки в военное или мирное время «уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую» и определяет ряд карательных мер[20]. Конвенция ООН о беженцах 1951 года устанавливает правила в этой области. Эти основополагающие документы дополняются более поздними протоколами, включая Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП) и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП), которые были приняты в 1966 г. и вступили в силу в 1976 г. Они подкреплены региональными соглашениями, в частности Европейской конвенцией о правах человека, принятой в 1950 г.[21] Система Устава ООН и связанные с ней конвенции далеки от того, чтобы стать мировым правительством. Великие державы продолжают конкурировать на международной арене, которую реалисты называют «анархической», т. е. без доминирующей власти[22]. Международная политика сохраняет свой конкурентный характер, но легитимность действий игроков определяется соответствием стандартам, установленным системой Устава ООН. Власть по-прежнему перекрывает нормы, но нормы в конечном счете действуют как ограничение.
ООН развивалась в тени углубляющегося конфликта между бывшими союзниками. Холодная война была традиционным конфликтом между великими державами, связанным с борьбой соперничающих идеологий. По словам Джона Льюиса Гэддиса, это было «неизбежное состязание, призванное раз и навсегда решить фундаментальные вопросы»[23]. Одержав победу в 1945 г., Сталин хотел «обеспечить безопасность для себя, своего режима, своей страны и своей идеологии, и именно в таком порядке»[24]. Гэддис утверждает, что перспективы сохранения военного союза были невелики, поскольку советские цели фундаментально расходились с целями Запада[25]. Другие утверждают, что холодная война началась из-за неправильного понимания советских намерений и что в конечном счете Сталин был готов согласиться на продолжение сотрудничества с зарождающимся политическим Западом, до тех пор пока будут соблюдаться советские интересы в области безопасности[26]. Во время гражданской войны в Греции СССР выполнил свою часть сделки, согласно которой страна попала в сферу интересов Запада[27]. Все это было омрачено наступлением ядерного века. 6 августа 1945 г. США применили ядерное оружие против Хиросимы, а три дня спустя – против Нагасаки. Советская угроза стала более ощутимой, когда СССР испытал свою первую атомную бомбу в августе 1949 г. и свое первое термоядерное устройство (водородную бомбу) в ноябре 1955 г. Изначальные попытки передать весь военный и гражданский ядерный цикл в ведение международного агентства – Комиссии ООН по атомной энергии (план Баруха 1946 г.) – ни к чему не привели. Все ускоряющаяся гонка ядерных вооружений возвестила о наступлении эры Взаимного гарантированного уничтожения (Mutual assured destruction, MAD) – безумной доктрины, лежащей в основе сдерживания.
В ответ на советскую угрозу США разработали три стратегии. Первая заключалась в том, чтобы опираться на ООН и преобладание союзников в Совете Безопасности для сдерживания Москвы. Еще до вступления США во Вторую мировую войну, американские элиты думали о том, как страна сможет институционализировать свою возросшую мощь и интересы. Был сформулирован образ нового типа международного сообщества, осуждавший использование изоляционизма как пригодного способа оттеснения оппонентов на второй план[28]. Америка долгое время презентовала себя в качестве исключительно добронамеренного государства, но теперь это представление стало сочетаться с новым ощущением глобальной миссии. Стивен Вертхайм утверждает, что одной из черт американской исключительности является вера в то, что «мирное взаимодействие превзойдет систему силовой политики, возникшую в Старом Свете»[29]. Главенство США не станет следовать классическому имперскому образцу, а будет закреплено в ряде многосторонних институтов, прежде всего в ООН.
Второй была стратегия сдерживания, которую отстаивал дипломат и ученый Джордж Кеннан. В своей «длинной телеграмме», отправленной из Москвы 22 февраля 1946 г., Кеннан утверждал, что советская непримиримость проистекает из внутренней динамики сталинского режима. Запад ничего не мог сделать, чтобы смягчить этот фундаментальный факт. Следовательно, Западу придется ждать, пока какой-нибудь другой кремлевский лидер не пересмотрит приоритеты страны (этот аргумент позже был высказан в адрес Владимира Путина). Тем временем в более развернутой версии своей телеграммы он выступил за «долгосрочное, терпеливое, но твердое и бдительное сдерживание экспансионистских тенденций России»[30].
Такой подход был сочтен слишком пассивным для таких людей, как Дин Ачесон и Пол Нитце (который сменил Кеннана в отделе политического планирования Госдепартамента). Они выступали за более жесткий третий подход, утверждая, что сдерживание сработает только в том случае, если США сплотят свободный мир под своим руководством, «объединив всю Европу и Японию против СССР на основе политики силы и путем преувеличения советской угрозы»[31]. В апреле 1950 г. они вместе разработали документ Совета национальной безопасности – доклад N30–68, один из самых влиятельных правительственных документов США эпохи холодной войны, который был рассекречен только в 1975 г. В нем излагалась милитаризованная стратегия американского превосходства, изложенная идеологически насыщенным языком. Авторы предупреждали о растущей военной угрозе со стороны СССР и призывали к массированному наращиванию численности вооруженных сил и вооружений США. Эта ястребиная линия стала прообразом позиции неоконсерваторов более позднего времени.
США вышли из Второй мировой войны, безусловно, самым могущественным государством, но как они будут управлять миром? В конце концов, они стали соавторами международной системы Устава ООН, одновременно развивая собственные взаимосвязанные сети власти, которые вместе со своими союзниками стали политическим Западом. США сыграли центральную роль в разработке международной системы Устава ООН, но это было результатом сотрудничества и по-прежнему остается достоянием всего «международного сообщества». На самом деле, это и есть наиболее яркое проявление существования такого сообщества. Во время войны «сложился политический консенсус в отношении того, что мирный, основанный на законе мировой порядок является достаточно важным национальным интересом, чтобы оправдать принятие долгосрочных обязательств перед другими странами и приведение собственных действий Америки в соответствие с требованиями такого порядка»[32]. Не желая действовать в одиночку или возвращаться к довоенному изоляционизму, послевоенные американские элиты поняли, что закрепление гегемонии в рамках более широкого многостороннего порядка придаст ей большую легитимность и эффективность. Между осуществлением суверенитета США и ограничениями многосторонности неизбежно возникнет напряженность, но в конечном счете обе эти составляющие помогут сохранить гегемонию США. Во время холодной войны и после нее США устраивали перевороты и войны, чтобы защитить свою власть, используя ООН как источник легитимности, когда это было возможно, но в остальном действуя в одиночку или совместно со своими союзниками на политическом Западе. Применение права вето в Совете Безопасности ООН гарантировало, что многосторонность по Уставу не будет бросать вызов национальным интересам.
Параллельно Вашингтон создал Атлантический альянс, военную ветвь зарождающегося политического Запада[33]. Военный союз между СССР и западными державами подвергался испытаниям уже в начале 1945 г., когда начались последние сражения с нацистской Германией, и ему не суждено было долго продержаться в послевоенную эпоху. Столкнувшись с экономическим кризисом, Великобритания в 1947 г. фактически передала свои обязанности США, и после этого Вашингтон возглавил борьбу с коммунизмом в Греции, Турции и других странах. Доктрина Трумэна, объявленная Конгрессу в марте 1947 г., предусматривала поддержку стран, борющихся с коммунизмом, в то время как План Маршалла, принятый в апреле 1948 г., помог восстановить экономику семнадцати западноевропейских стран. К 1948 г. Первая холодная война была в самом разгаре и связь с западной частью разделенного Берлина осуществлялась лишь по воздуху, в то время как государства-сателлиты Советского Союза становились все более сталинизированными. Вскоре холодная война приобрела поистине глобальные масштаб[34]. Китайская Народная Республика (КНР) после победы Мао Цзэдуна в октябре 1949 г. стала частью коммунистического альянса. В ходе Корейской войны, начавшейся в следующем году, союзные войска сражались под эгидой ООН против Советского Союза и Китая. К концу 1950 г. союзникам удалось помешать Корейской народной армии захватить власть на Юге, но война затянулась до 1953 г., и формально разделенная страна все еще находится в состоянии войны. Поражение Франции в мае 1954 г. при Дьенбьенфу привело к разделению Вьетнама. Американская оборона Южного Вьетнама продолжалась до поражения в 1975 г. и воссоединения страны. Корейская война была единственной военной интервенцией США во время холодной войны, которая проводилась под эгидой ООН.
Послевоенный атлантизм сочетает жесткую силу с нормативными принципами демократии и прав человека, изложенными в Атлантической хартии. Статья 1 Вашингтонского договора обязывает подписавшие его стороны «мирно решать все международные споры, участниками которых они могут стать, не ставя при этом под угрозу международные мир, безопасность и справедливость», в то время как статья 2 обязывает их «содействовать дальнейшему развитию международных отношений мира и дружбы путем укрепления своих свободных институтов, достижения большего понимания принципов, на которых они зиждутся, и содействия созданию условий стабильности и благосостояния» и только после этого переходит к обязательствам по коллективной обороне в соответствии со статьей 5[35]. Иначе говоря, по выражению Киссинджера, Атлантическое сообщество представляло собой новое сочетание силы и легитимности. Ценности занимали центральное место в риторике, оправдывающей холодную войну, хотя и были скрыты логикой военной конфронтации. В эпоху после окончания холодной войны соединение безопасности и ценностей сделало демократический интернационализм действующей нормой для всей системы[36]. Это оправдывало сохранение роли НАТО и стимулировало различные усилия по смене режимов и государственному строительству в Косово, Афганистане, Ираке и Ливии.
Завершающим ингредиентом послевоенной мощи США является международная политическая экономия, другая половина либерального международного порядка. Она была разработана для того, чтобы избежать ошибок межвоенного периода, когда за бумом середины 1920-х годов последовал крах на Уолл-стрит в октябре 1929 г., а потом – массовая безработица и подъем фашизма. США поддерживали открытый экономический порядок, основанный на свободной торговле и демократических принципах. Бреттон-Вудские институты (Всемирный банк и Международный валютный фонд, МВФ) привязали доллар к золоту в качестве ориентира, по отношению к которому оценивались другие валюты. Парижское соглашение 1971 г. положило конец Бреттон-Вудской системе фиксированных курсов, открыв путь к финансиализации и эпохе повторяющихся финансовых кризисов. Правила Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) вступили в силу в 1948 г., а в январе 1995 г. ГАТТ стало Всемирной торговой организацией (ВТО), регулирующей международную торговлю товарами и некоторыми услугами. Борьба с коммунизмом способствовала появлению государств всеобщего благосостояния, описываемых Джоном Рагги как форма «укоренившегося либерализма», сопровождаемого социал-демократическими идеями равенства и социальной справедливости[37]. Однако еще до падения коммунизма ситуация изменилась. Неолиберальные ортодоксы 1980-х годов выступили против государства всеобщего благосостояния, промышленной политики и корпоративизма и вместо этого ратовали за приватизацию, финансиализацию и гибкие рынки труда.
В Европе был создан новый политический порядок в рамках большого Атлантического сообщества[38]. По мере усиления идеологической борьбы с коммунистическими идеями одним из условий предоставления помощи Маршалла стало взаимное сотрудничество европейских государств. Это способствовало созданию в июле 1952 г. Европейского объединения угля и стали, за которым в 1957 г. последовало создание Европейского экономического сообщества (ЕЭС) Германией, Францией, Италией и государствами Бенилюкса – Бельгией, Нидерландами и Люксембургом. Экономическая и нормативная мощь США была институционализирована в этих проявлениях экономического интернационализма. После 1989 г. он принял универсальный характер в форме глобализации, сопровождавшейся неолиберальным «отделением» рынков от прежних форм социал-демократического общественного контроля. Послевоенный европейский порядок основывался на легитимности и уважении международного права и различных гуманитарных целей, но он также был частью Атлантического сообщества безопасности, сформированного во время холодной войны. Это помогает объяснить, почему после 1989 г. атлантизм не смог уступить место панконтинентальному объединению, предложенному Горбачевым и его преемниками, а также европейцами, верными голлистскому видению Европы, выступающей в качестве третьей силы между США и СССР. Вместо этого либеральная гегемония после окончания холодной войны стремилась создать новый мир по своему образу и подобию, продвигая американские национальные интересы с помощью основных институтов безопасности, экономики и регулирования нашей эпохи[39].
Советский Союз был одним из основателей международной системы Устава ООН, но, как и США, он также создал и свой собственный порядок. Холодная война размыла разделительную линию между двумя странами, опустив «железный занавес… от Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике», как выразился Уинстон Черчилль в своей знаменательной речи «Сухожилия мира», произнесенной в Фултоне, штат Миссури, 5 марта 1946 г.[40] С тех пор континент был перекрыт тем, чем стали две сверхдержавы, стоявшие во главе своих соответствующих альянсов. Советский блок простирался до Берлина и Праги, в то время как сеть коммунистических и социалистических движений охватывала весь земной шар. Представляя себя как революционную модель мирового порядка, советский государственный социализм своим узким догматизмом подорвал собственный преобразующий потенциал. Революционный активизм был отодвинут на второй план традиционными дипломатическими формами взаимодействия с миром государств. По мере того как революционный пыл ослабевал, Советский Союз все больше вел себя как традиционное государство, хотя и продолжал поддерживать иностранные коммунистические партии и различные национально-освободительные движения. Горбачев завершил переход от революционного к суверенному интернационализму, что сопровождалось решительной приверженностью принципам Устава ООН. К несчастью для него, амбициозная программа преобразований была сорвана торжествующим либеральным порядком во главе с США.
Чтобы понять, как это произошло, нам нужно вернуться к появлению противоположных моделей безопасности на последних этапах холодной войны. В начале 1970-х годов, когда наступил период разрядки напряженности времен холодной войны, министры иностранных дел Европы и Северной Америки собрались в июле 1973 г. в Хельсинки, чтобы обсудить вопросы безопасности. Итогом стало Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), которое охватило весь комплекс вопросов безопасности, политических, экономических и гуманитарных вопросов. Кульминацией этого процесса стала Хельсинкская конференция в августе 1975 г., в которой приняли участие 33 европейских государства (все, кроме Албании), а также США и Канада. Целью было создание всеобъемлющего и инклюзивного порядка безопасности, простирающегося «от Ванкувера до Владивостока». Это была послевоенная конференция, которой так долго добивался СССР, чтобы ратифицировать границы 1945 г., а также ряд соглашений в области экономики и безопасности[41].
Хельсинкский заключительный акт состоял из трех «корзин»: политической и военной, включая ратификацию послевоенных территориальных границ; экономического, торгового и научного сотрудничества, а также прав человека, свободы эмиграции и культурных обменов. В первой «корзине» были изложены десять основополагающих принципов, охватывающих «суверенное равенство» государств, «воздержание от угрозы силой или ее применения», «нерушимость границ», «территориальную целостность государств», «мирное урегулирование споров», «невмешательство во внутренние дела», «уважение к правам человека и основным свободам, включая свободу мысли, совести, религии или убеждений», «равноправие и самоопределение народов», «сотрудничество между государствами» и «добросовестное выполнение обязательств по международному праву»[42]. Хельсинки не только закрепил существующее положение дел, но и открыл путь к радикальным переменам. Основные постулаты представляли собой значительное расширение ценностей, лежащих в основе системы Устава ООН. Однако Заключительный акт воспроизвел в новых формах напряженность, присущую этой системе, в частности между суверенитетом национальных государств и приверженностью универсальным ценностям, которые выходят за рамки логики государственного суверенитета. Советский Союз достиг своей основной цели – официального признания границ, установленных в 1945 г., подтвердив тем самым итоги Ялтинской конференции, – но одновременно была поставлена под сомнение логика суверенитета великой державы.
Поддержка Москвой «третьей корзины», содержавшей принципы защиты прав человека, обеспечила правовую основу для выдвижения требований к советскому правительству со стороны диссидентских движений внутри страны. Достижения СССР в социальной модернизации и экономическом развитии на плановой основе теряли легитимность, поскольку сами нормативные основы советского правления стали предметом дискуссий. Это, в свою очередь, предоставило внешним державам мощный инструмент воздействия на Москву. Переход от суверенного к демократическому интернационализму не получил всеобщего одобрения даже на Западе. Реалист Киссинджер, госсекретарь при президенте Джеральде Форде, как известно, отверг идеализм положений «третьей корзины». Он едко заметил, что они могли бы быть написаны «на суахили, мне все равно»[43]. Несмотря на опасения Киссинджера, фундаментальный сдвиг произошел. Сэмюэл Мойн описывает новый подход как «последнюю утопию». Социалистическая забота о социальной и экономической справедливости была вытеснена приоритетом прав человека. Вместо прежнего акцента на модернизации и развитии теперь основное внимание уделялось «демократии» и «верховенству закона»[44].
За Хельсинкской конференцией СБСЕ последовали восемь обзорных конференций по европейской безопасности. Три конференции, проведенные во время холодной войны (Белград, 1977–1978, Мадрид, 1980–1983 и Вена, 1986–1989), обеспечили институциональную основу для расцвета нового мышления. Однако в краткосрочной перспективе дух разрядки продержался недолго, и к концу 1970-х годов холодная война снова была в полном разгаре, что вызвало разговоры о второй холодной войне[45]. Опасаясь, что Афганистан попадет в сферу влияния Америки, Москва направила туда в декабре 1979 г. «ограниченный военный контингент», чем положила начало войне, продлившейся девять лет и стоившей Советскому Союзу 15 тыс. жизней и неисчислимых ресурсов. Это стало классической войной чужими руками (прокси-война), поскольку США и их союзники вооружали и поддерживали сопротивление моджахедов[46]. Советско-афганская война предвещала распад Советского Союза, что неизбежно вызывает сравнения со «специальной военной операцией» России против Украины, начатой сорок два года спустя.
Перемены в Советском Союзе долго откладывались, но когда они наступили, то пришли как бурная русская весна. После длинной череды неумело действовавших престарелых руководителей пост советского лидера в марте 1985 г. занял Горбачев. Его самым большим желанием было «нормализовать» советскую внешнюю политику в рамках интернационализма Устава ООН. Стратегия была направлена на Нью-Йорк, на штаб-квартиру ООН, а не на Вашингтон, сердце политического Запада, хотя последний неизбежно выступал в качестве главного собеседника. Горбачев апеллировал к многосторонности, лежащей в основе системы Устава ООН, и конечно же не предполагал подчинения политическому Западу.
Большая часть советской элиты признавала, что реформы давно назрели, хотя ее целью было скорее спасение, чем ниспровержение советской системы. Горбачев твердо верил в потенциал омоложения Советского Союза, основанного на обновлении социализма через перестройку. Реформаторский коммунизм Горбачева опирался на давнюю интеллектуальную традицию. Будучи студентом Московского государственного университета в начале 1950-х годов, он познакомился со Зденеком Млынаржем, который впоследствии стал одним из лидеров Пражской весны 1968 г. Под руководством Александра Дубчека «социализм с человеческим лицом» стремился соединить политические свободы с механизмами социалистического рынка. Реформаторское движение демонстрировало лояльность Советскому Союзу, но руководство Кремля при Леониде Брежневе это не убедило. В ночь на 21 августа Организация Варшавского договора вторглась в Чехословакию, направив в конечном итоге 500 тыс. военнослужащих и 6 тыс. танков из всех «братских» социалистических государств, за исключением Румынии и Албании[47]. Это стало величайшим вторжением внутрь самих себя в истории. Оно не только подорвало чехословацкие реформы, но и помешало попыткам обновления внутри самого Советского Союза, подготовив почву для того, что в 1970-х годах стало известно как эпоха застоя. Это был период, когда молодой Владимир Путин достиг политической зрелости. После крушения реформистского коммунизма его поколению недоставало идеализма шестидесятников (людей 1960-х годов, таких как Горбачев), которые верили в реформаторский потенциал ленинского социализма. Напротив, поколение 1970-х было упертым и материалистичным, даже циничным и нигилистским, озабоченным защитой государственной власти, а не коммунистической идеологии.
Политическое инакомыслие подавлялось, но в системе зрели идеи реформ. Они приняли форму «нового политического мышления», термина, который Горбачев впервые использовал в своем докладе на XXVII съезде Коммунистической партии Советского Союза 25 февраля 1986 г. и который он развил 18 месяцев спустя в своей книге «Перестройка: новое мышление для нашей страны и всего мира»[48]. Новое мышление стремилось опираться на достижения советского социализма, устраняя при этом то, что считалось идеологическим догматизмом, антирыночной жесткостью и чрезмерными ограничениями индивидуальных свобод[49]. Эти реформистские и космополитические взгляды развивались в контексте ухудшения отношений с Китаем и возможности возобновления разрядки в отношениях с Западом[50]. Новое мышление было результатом целого периода интеллектуального созревания в советской интеллектуальной жизни, особенно в различных институтах Академии наук[51]. Горбачев разработал свою собственную концепцию нового мышления, хотя на раннем этапе она все еще содержала много ортодоксальных идеологических установок[52]. Новое мышление отвергало классовые принципы в пользу «общечеловеческих» интересов и ценностей. Его основополагающей идеей была демилитаризация международных отношений. Конфликты должны были разрешаться политическими, а не военными методами, что является основным постулатом Устава ООН. Это влекло за собой прекращение разделения мира на блоки, устранение угрозы ядерной войны и предполагало большее внимание окружающей среде и развитию. Международная политика проводилась бы на основе баланса интересов и взаимной выгоды, а не баланса сил. Суверенный интернационализм устранял остатки революционного социализма, и Советский Союз присоединялся, выражаясь языком того времени, к мейнстриму человеческой цивилизации.
Новое мышление означало решительный отказ от классических марксистско-ленинских основ советской внешней политики. Преобладание классических геополитических идей, таких как сферы влияния, силовая политика, соотношение сил и вакуум власти, уступило место более мягкому и основанному на сотрудничестве восприятию международных отношений. Это не зашло настолько далеко, чтобы поверить в естественную гармонию интересов, но мнение о том, что капиталистические государства по своей сути агрессивны и милитаристичны, готовы воспользоваться любой слабостью, было отвергнуто. Коммунистическая идеология теряла свою власть над советским воображением, и прежние стремления «догнать и перегнать» западный капитализм давно превратились в несбыточную мечту[53]. Новое мышление отказалось от идеи классовой борьбы и мировой пролетарской революции. Были отброшены классические элементы марксистского историзма (представление о том, что смысл и цель истории познаваемы и, следовательно, поддаются управлению), а значит, оставлены претензии на историческую непогрешимость и неизбежность. Детерминизм идеологического мышления уступил место новой открытости внутри страны и за рубежом. Парадоксально, но как раз в то время, когда в Советском Союзе отказывались от классических постулатов марксистского историзма, западный либерализм выдвинул свою собственную аналогичную версию. Это вселяло оптимизм в отношении того, что эра «вечного мира», основанная на «конце истории», не за горами[54].
«Новое мышление» опиралось на идеи физика-ядерщика Андрея Сахарова, который стал одним из лидеров демократической революции в России во время перестройки. В конце 1960-х годов он утверждал, что коммунизм и капитализм могут «сблизиться», «конвергировать» на некоей гуманной основе и тем самым преодолеть ядерную конфронтацию[55]. Горбачев возродил идею конвергенции в своей знаменательной речи в ООН 7 декабря 1988 г. Он объявил о завершении холодной войны, отверг доктрину Брежнева об ограниченном суверенитете восточноевропейских государств и обрисовал последствия своего нового мышления. Он утверждал: «Дальнейший мировой прогресс возможен теперь лишь через поиск общечеловеческого консенсуса в движении к новому мировому порядку». Он продолжил: «Речь идет о сотрудничестве, которое было бы точнее назвать “сотворчеством” и “соразвитием”. Формула развития “за счет другого” изживает себя». Он подчеркнул важность «свободы выбора» и «деидеологизации межгосударственных отношений», а также их демилитаризации. Он изложил всеобъемлющую повестку дня, на которой должен основываться новый мирный порядок, включая укрепление центральной роли ООН, отказ от применения силы в международных отношениях и заботу об экологических проблемах. Основополагающими принципами были плюрализм, терпимость и сотрудничество[56]. Это было смелое подтверждение либерализма Устава ООН.
Вместо постоянно растущих оборонных бюджетов теперь должен был применяться принцип «разумной достаточности» для обеспечения обороны, и не более того. Новое мышление открыло двери принципу «свободы выбора» для стран Советского блока, сделав излишней блоковую дисциплину. Отказ союзников по Варшавскому договору от брежневской доктрины ограниченного суверенитета открыл путь к революциям 1989 г. и распаду Советского блока в целом. Уже в апреле правящая партия Польши отказалась от своей монополии на власть, и в июне в рамках согласованного переходного периода состоялись свободные выборы в парламент и сенат. В ноябре пала Берлинская стена, что открыло путь к воссоединению Германии. К концу года «бархатные» революции отстранили от власти коммунистические правительства в Чехословакии, Венгрии и Болгарии, в то время как в Румынии в декабре в результате более ожесточенной борьбы был свергнут диктаторский режим.
Вслед этим революциям против самого Горбачева выдвинули обвинение в том, что он предает не только коммунистические идеалы, но и интересы Советского государства. Критики осуждали его за то, что он отказался от с таким трудом завоеванных советских достижений и не получил взамен ничего, кроме туманных обещаний о сотрудничестве[57]. Позже эта критика ужесточилась еще больше в связи с вопросом о расширении НАТО, и в частности с принципом «свободы выбора», использованным во время объединения Германии в 1990 г. Москва считала, что классический образ Атлантической властной системы как вечно враждебной был ложным, и он уступил место представлению о возможности конструктивных отношений с ней. Это стало руководящим принципом зарождающейся «демократической» внешней политики России, проводимой под руководством министра иностранных дел Андрея Козырева, и такой подход преобладал до середины 1990-х годов[58]. После этого взяла верх все более жесткая защита российского суверенитета и осознаваемых государственных интересов. Такая смена была вызвана ощущением того, что позитивная мирная программа, обрисованная московским руководством, была предана и что политический Запад просто воспользовался доброй волей России.
Политический Запад сформировался во время Первой холодной войны, но он был далек от монолитности. Уже давно высказывалось беспокойство по поводу милитаризма, связанного с холодной войной. Величайшие лидеры США с 1945 г. неоднократно обращались к вопросу о том, как можно было бы создать общий мирный порядок, что сопровождалось опасениями по поводу тяжелого бремени, налагаемого гонкой вооружений. Президент Дуайт Эйзенхауэр был одним из первых, кто озвучил темы, которые позже нашли отклик, опираясь на свой опыт верховного главнокомандующего союзными войсками во время Второй мировой войны. В своей речи «Шанс на мир», произнесенной 16 апреля 1953 г., всего через три месяца после начала его президентства и через три недели после смерти Сталина, он говорил, что американские и советские войска 25 апреля 1945 г. встретились на Эльбе, вдохновленные «общей целью», но это настроение «длилось мгновение и погибло», когда пути двух стран разошлись из-за различных представлений о мире и безопасности. Он предупреждал, что «Советский Союз испытывал те самые страхи, которые сам посеял в остальном мире, и страдал от них. Это был образ жизни, сформированный за восемь лет страха и насилия». И если нельзя найти способ свернуть с такого «ужасного пути», то худшим, чего можно на нем ждать, была атомная война, но и лучшего было не так уж много: «жизнь в постоянном страхе и напряжении; бремя вооружений, истощающее богатства и труд всех народов». Он охарактеризовал расходы на вооружение как кражу у народа: «Каждое произведенное орудие, каждый спущенный на воду военный корабль, каждая выпущенная ракета в конечном счете означают воровство у тех, кто голоден и не накормлен, кто мерзнет и не одет». По его словам, «под грозной тучей войны человечество оказывается распятым на железном кресте». Он предложил постсталинскому руководству возможность свернуть с пути конфронтации и создать новый мирный порядок[59].
Его устремлениям не было суждено сбыться. Вместо них беспрецедентная гонка вооружений привела к созданию глобального ядерного арсенала, который на своем пике в 1985 г. достиг 63 662 единиц. В США разветвленная военная экономика развивалась параллельно с гражданской, создавая общество потребления, которое мы знаем сегодня. Именно в эти годы было создано «трумэновское» милитаризованное государство времен холодной войны, которое затмило «мэдисоновское» конституционное государство. Майкл Гленнон описывает, как трумэновское государство установило прочные связи между различными родами вооруженных сил и разведывательными службами, политическим классом, средствами массовой информации, аналитическими центрами и некоторыми университетами. Все это, вместе взятое, стало структурной трансформацией американского государства, в котором военные подрядчики, вооруженные силы и их гражданские помощники играют огромную роль в ущерб дипломатии и традиционному государственному управлению. Конституционный контроль ослаб из-за имманентной сложности проблем национальной безопасности, а также из-за сохранявшегося двухпартийного идеологического консенсуса в отношении главенства и гегемонии Америки в мировых делах[60]. Эйзенхауэр упомянул об этом в своей прощальной речи 17 января 1961 г. Он предостерег от разлагающего влияния того, что он назвал «военно-промышленным комплексом», видя в нем сочетание «огромного военного истеблишмента и крупной оружейной промышленности». Как он отметил, это явление стало «чем-то новым для американского опыта». Он предупредил, что «потенциал катастрофического усиления неуместной власти существует и будет сохраняться»[61]. Эйзенхауэр предостерегал от создания перманентной военной экономики, которая исказила бы приоритеты американской внешней политики и отвлекла ресурсы от внутренних потребностей[62]. Однако, как утверждает Гленнон, в США сложился двухпартийный консенсус в отношении большой милитаризованной политики, несмотря на регулярную смену политического руководства.
Это не осталось незамеченным. Раздосадованный неудачей вторжения на Кубу в заливе Свиней в апреле 1961 г. и попытки свержения Фиделя Кастро, потрясенный тем, что мир оказался на грани ядерной войны в результате Карибского ракетного кризиса в октябре 1962 г., президент Джон Ф. Кеннеди обратился к вопросу о «мире во всем мире». В своей речи перед выпускниками Американского университета в Вашингтоне, округ Колумбия, в июне 1963 г. он задавался вопросом:
«Какой мир я имею в виду? К какому миру мы стремимся? Не к Pax Americana, навязываемому миру силой американского оружия. Не к миру в могиле и не к безопасности раба. Я говорю о подлинном мире – о том мире, который делает жизнь на земле стоящей того, чтобы жить, о том мире, который позволяет людям и народам расти, надеяться и строить лучшую жизнь для своих детей – не только о мире для американцев, но и для всех мужчин и женщин – не просто о мире в наше время, но о мире на все времена».
Кеннеди говорил о мире из-за «нового лика войны», при котором «один ядерный боеприпас обладает почти в десять раз большей взрывной силой, чем все военно-воздушные силы союзников во время Второй мировой войны». Таким образом, мир стал «необходимой рациональной целью разумных людей» и она была достижима: «Давайте проанализируем наше отношение к миру как таковому. Слишком многие из нас думают, что это невозможно. Слишком многие из нас думают, что это нереально. Но это опасная, пораженческая вера. Это приводит к выводу, что война неизбежна, что человечество обречено, что мы захвачены силами, которые не можем контролировать». Он был искренен по отношению к России:
«Ни одно правительство или социальная система не являются настолько порочными, чтобы их людей можно было считать лишенными добродетели. Как американцы, мы считаем коммунизм глубоко отвратительным как отрицание личной свободы и достоинства. Но мы все еще можем воздать должное русскому народу за его многочисленные достижения – в науке и космосе, в экономическом и промышленном росте, в культуре и за проявленное мужество».
Мы видели, как он настаивал на том, что «мир – это процесс, способ решения проблем», и призывал к практическим шагам в духе того, что мы называем суверенным интернационализмом, включая запрет на ядерные испытания[63]. Кеннеди был убит в ноябре, и Америка все глубже увязала в трясине войны во Вьетнаме[64]. Позднее попытка ослабить напряженность во время разрядки в начале 1970-х годов сменилась возобновлением холодной войны в годы правления Джимми Картера, которая усилилась после советского вторжения в Афганистан в декабре 1979 г. Позитивный мир был тогда так же неуловим, как и сейчас.
Глава 2. Время больших надежд
Новое политическое мышление вернулось к вопросам, поднятым Эйзенхауэром и Кеннеди: как положить конец гонке вооружений и милитаризму и ухватиться за перспективу позитивного мира. Хотя это и приветствовалось как признак того, что Советский Союз отказывается от своей враждебности, скептики в Вашингтоне восприняли планы Горбачева как угрозу лидерству США. Это побудило начать идеологическое контрнаступление с целью получить концептуальное преимущество. В конце концов столкнулись две модели порядка, установившегося после окончания холодной войны, обе были основаны на событиях, произошедших после 1945 г. Первая апеллировала к принципам Устава ООН и суверенному интернационализму, которые в региональном контексте были сформулированы как Общий европейский дом. Модель включала идею неделимости безопасности – ни одно государство не может обеспечить безопасность за счет другого. Вторая модель опиралась на несомненные достижения политического Запада, который вышел целым и невредимым из холодной войны. В региональном контексте это было сформулировано как цельная и свободная Европа, а также как прогресс в плане расширения политического влияния Запада и универсальной применимости либерального интернационализма. Казалось, для атлантической системы власти и демократического интернационализма не существует границ, что порождало экспансионистскую динамику, приветствуемую государствами бывшего советского блока, но которая все больше тревожила Москву. Эти два подхода, две модели вступили в косвенную, но явную борьбу, и обе стороны осознавали, насколько высоки ставки. Однако одна сторона была обезоружена своей убежденностью в том, что холодная война действительно закончилась, в то время как другая продолжала борьбу – из лучших или худших побуждений – в новых формах. Этот искаженный финал сформировал всю эпоху после окончания холодной войны, исказив реальность и термины, используемые для ее описания.
Жизнерадостный оптимизм президента Рональда Рейгана в 1980-х годах позволил забыть о поражении в Юго-Восточной Азии и возродил уверенность в будущем Америки. Он наращивал американскую военную мощь и заклеймил Советский Союз как «империю зла», однако оказался восприимчив к соблазну нового мышления и работал с Горбачевым и другими лидерами, чтобы положить конец холодной войне[65]. Горбачев нашел в Рейгане надежного собеседника, а совместное заявление, сделанное после их первой встречи в Женеве в ноябре 1985 г., провозглашало, что «ядерная война никогда не должна быть развязана, в ней не может быть победителей»[66]. На их встрече в Рейкьявике в октябре 1986 г. Горбачев предложил ликвидировать все ядерное оружие к концу столетия. Эти двое были удивительно близки к согласию в этом вопросе, хотя в конце концов американская сторона отвергла эту идею как нереалистичную и будь она принята, без сомнения, советские военные стратеги также оказались бы в тупике. Тем не менее это подготовило почву для подписания в декабре 1987 г. Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), который впервые ввел запрет на целую категорию стратегических вооружений. США и СССР ликвидировали ракеты с дальностью действия от 500 до 5500 км и договорились об ограничениях на развертывание крылатых ракет наземного базирования.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), подписанный в июле 1991 г., был самым амбициозным договором о контроле над вооружениями за всю историю, ограничившим количество ракет большой дальности каждой из сторон 1600 единицами. Для Москвы эти соглашения были не только средством сдерживания гонки вооружений, но и способом снижения расходов во время бюджетного кризиса. Экономические факторы были важны, но, что более важно, Горбачев разделял мнение Рейгана о том, что ядерное оружие – это мерзость, угроза человечеству, которое нельзя использовать и от которого следует отказаться как от категории. Различные соглашения позволили сократить мировые ядерные запасы к январю 2022 г. до 12 705 единиц, 90 процентов из которых принадлежали США и России. Были также введены ограничения на использование обычных вооружений. В ноябре 1990 г. между НАТО и странами Варшавского договора был подписан Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), ограничивающий количество и типы обычных вооружений, развернутых в европейской части России и Западной Европе. Сокращения были непропорционально значительными: страны Варшавского договора уничтожили более 30 тыс. единиц оружия, а западные союзники – почти ничего. Соглашение стало признаком надвигающихся проблем, потому что это было «урегулирование, которое обычно навязывается побежденному государству после войны»[67]. В том же месяце ДОВСЕ был дополнен Венским документом СБСЕ, предусматривающим осуществление мер по укреплению доверия и безопасности посредством обмена информацией и инспекций. Периодически обновляемая версия 2011 г. перестала действовать после начала Второй холодной войны в 2014 г.
В соответствии с постулатами нового мышления Советский Союз принял доктрину «оборонной достаточности», сопровождавшуюся сокращением развернутых вооруженных сил и расходов на оборону, которые в то время составляли примерно 15–20 процентов советского ВВП. Через несколько месяцев после своего выступления в ООН, 6 июля 1989 г., Горбачев произнес перед депутатами парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге свою историческую речь об общем европейском доме. Он подчеркнул открытость исторического момента и возможность присоединения Советского Союза к мирной Европе:
«Сейчас, когда XX столетие вступает в завершающую фазу, когда уходят в прошлое послевоенный период и “холодная война”, перед европейцами действительно открывается уникальный шанс – сыграть достойную своего прошлого, своего экономического и духовного потенциала роль в строительстве нового мира. <…> Мы убеждены: им нужна одна Европа – мирная и демократическая, сохраняющая все свое многообразие и придерживающаяся общих гуманистических идеалов, процветающая и протягивающая руку всему остальному миру. Европа, уверенно идущая в завтрашний день. В такой Европе мы видим собственное будущее»[68].
Он говорил о создании единого политического сообщества от Лиссабона до Владивостока, но также подчеркивал идеологический плюрализм и сосуществование государств с различными социальными системами. Дом, который он себе представлял, должен был состоять из множества разных комнат. Европейское (экономическое) сообщество, которое в соответствии с Маастрихтским договором от февраля 1992 г. стало Европейским союзом, должно было стать частью более крупного панконтинентального образования. Хотя детали были расплывчатыми, Горбачев призывал к новому мировому порядку, который был бы идеологически не однородным, а плюралистичным и разнообразным. Он призвал к такой «перестройке сложившегося в Европе международного порядка, которая решительно вывела бы на первый план общеевропейские ценности, позволила бы заменить традиционный баланс сил балансом интересов»[69]
