Александр Чаянов. Крестьянская страна-утопия как современный проект развития экономики, градостроения и культуры
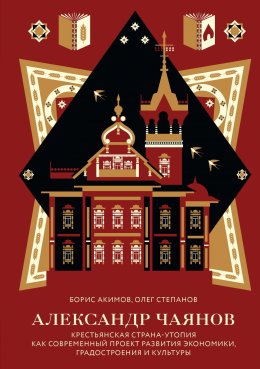
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив
Серия «Русское пространство-2062»
В книге сохранены точность и полнота информации по цитируемой литературе, предоставленные издательству авторами. Частные мнения авторов и их респондентов могут не совпадать с позицией редакции.
© ООО ТД «Никея», 2025
© АНО Центр «Никея», 2025
© Акимов Б.А., Степанов О.В., 2025
Предисловие
Что такое «Россия 2062», кто такой Александр Васильевич Чаянов, почему мы считаем его одним из мыслителей русского будущего, и как устроена эта книга?
«Какой тип расселения людей в идеальной России будущего вам кажется наиболее верным?» 72 % из более чем пяти тысяч человек, участвовавших в опросе проекта «Россия 2062», ответили, что им ближе всего идея более равномерного расселения людей по стране и активное собственное участие в освоении наших почти бесконечных пространств. Кажется, что именно сейчас, после всех драматических событий 20-х годов XXI века, Россия как никогда близка к началу новой жизни. Жизни, где не мегаполис, а совершенно иной тип расселения станет социальным фундаментом будущей реальности.
Меня зовут Борис Акимов. Вместе с моим другом Олегом Степановым мы придумали проект «Россия 2062». Теперь уже почти с сотней мыслителей, визионеров, экспертов, ученых мы строим образы русского будущего. И это не такое будущее, которое нам предлагают футурологи, которое должно случиться вне зависимости от нашего желания, некое «объективное» будущее. Мы строим то будущее, в котором мы хотим жить сами, в котором хотим поселить своих близких, друзей, всех вас, читатель. Мы верим, что будущее не спускается к нам по чьему-то велению, мы сами активно его приближаем своей мыслью и деятельностью или, наоборот, безыдейностью и бездеятельностью.
Мы часто в «России 2062» говорим, что истинная суверенность – это суверенность семиотическая или гуманитарная. Политический, экономический, технологический суверенитет – все это только продолжение возможности мыслить особенно, по-своему, по-русски.
В нашем «пантеоне» русского будущего есть немало отечественных мыслителей, которые формировали тот самый особый русский взгляд на мир. И очень многие их идеи стали со временем только актуальнее. Вместе с издательством Никея мы с «Россией 2062» придумали серию «Русское пространство-2062», в рамках которой выходит шесть книг. И в центре каждой – концепции и мыслители русского прошлого, ставшие крайне актуальными для русского будущего. Один из русских философов, который пока не попал в нашу серию, Владимир Соловьев как-то в прекрасной притче выразил идею того, что такое настоящий прогресс: «Когда мы берем прошлое и идем с ним в будущее».
Герой этой книги Александр Васильевич Чаянов – безусловный участник «пантеона» «России 2062», автор нашего с вами русского будущего. В будущее возьмут не всех, но Чаянов уже там. Хотя родился в 1888 году, и был расстрелян в 1937 году. Экономист, специалист в области сельского хозяйства, социолог, замечательный писатель-фантаст, государственный деятель, эксперт, как бы сейчас сказали, в области кооперации. А еще у Чаянова была большая библиотека, считавшаяся у библиофилов одним из лучших частных собраний. Чаянов известен своими романтическими и фантастическими книгами: «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии», «История парикмахерской куклы», «Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей», «Венецианское зеркало, или Удивительные похождения стеклянного человека», «Необычайные, но истинные приключения графа Федора Михайловича Бутурлина».
Художественные его работы, как пишут многие литературоведы, вдохновляли Михаила Булгакова. Вообще, биография Чаянова еще ждет своего летописца и толкователя.
Мы же в этой книге займемся другим. Мы «подсветим» некоторые идеи Александра Васильевича. Главным образом те, что касаются новых принципов организации пространства и расселения в России. Эти идеи выражены среди прочего и в художественной прозе – в повести «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии». Именно этот текст Чаянова представлен в нашей книге.
Кроме того, частью данной работы станут тексты: мои и моего друга и коллеги по «России 2062» Олега Степанова. А так же наши с ним беседы с сегодняшними практиками «чаяновского будущего». Это предприниматели, архитекторы, активные творческие люди очень разных увлечений и профессий, которые, не дожидаясь будущего, собственной жизнью уже сейчас доказывают реализм чаяновской мысли.
Мегаполис должен быть разрушен
Борис Акимов о любви к Чаянову и экзистенциальных причинах будущего расселения городов
«Россия – самая большая страна в мире» – заученная фраза из школьного учебника. Какое отношение это утверждение имеет именно ко мне? Если я средний житель этой самой современной России, то, скорее всего, живу в большом городе и до последнего времени чаще бывал где-то за пределами страны, чем в Сибири, на Кольском полуострове, в Курганской или Еврейской автономной области (Это где вообще?). И – хвала небесам – с развитием внутреннего туризма я, средний россиянин из большого города, где-то уже и побывал. И тут же вернулся обратно: к себе в малогабаритную квартиру в многоэтажке спального района мегаполиса.
Между тем, связь между самой большой страной мира и мною, средним жителем России, самая прямая. И меня, и Россию создали наши предки, люди, населявшие нашу страну на протяжении тысячи лет – с момента образования первого русского государства. В этом смысле я и самая большая страна в мире – ближайшие родственники.
Александр III говорил: «У России нет друзей, нашей огромности боятся… У России только два надежных союзника – ее армия и ее флот». Обычно внимание обращают на ту часть, где про союзников и армию, но «огромность» тут даже важнее. Потому как все остальное есть именно следствие «огромности». Размер имеет значение. Для России размер – это ключевая характеристика, именно она, а точнее причины этой «огромности» – фундаментальная наша черта, то, что делает нас русскими. То, что превратило нас в особый мир, особую цивилизацию, у которой свой путь, пусть тесно связанный с Европой, но свой, особенный.
А что это за причина огромности? Это тяга русского человека к освоению пространства. Наши предки столетиями (!) двигались в разные стороны, пока не дошли до мировых океанов. Советские историки любили объяснять все с позиций диалектического марксизма: мол, народу нужна была пушнина или лес или руда – вот они и шли. Или еще любят говорить о том, что это все «вольные люди» бежали от сурового княжеского-царского-императорского-советского режимов. Конечно, нет. Истинные причины больших событий невозможно объяснить исключительно материалистически и позитивистски. Всегда есть и значительные глубинные онтологические причины. Пространства ли сформировали русского человека или это русский человек сформировал эти пространства – не суть важно. Ясно, что со временем это превратилось во что-то единое и неотделимое. Русский человек и русское пространство. Огромная страна была построена по воли массы людей. Это не начальники отправляли подданных в прекрасное далеко, очень часто было наоборот: подданные шли в это самое далеко и приносили потом начальникам территории как факт. «Нате, владейте!»
XIX век вместе с окончательной победой промышленной революции и советской власти принес повальную урбанизацию. Советский проект, конечно, был глобалистским проектом. И в этом смысле мы, как часто бывает, были впереди планеты всей. Мы попытались построить свою глобалистскую вселенную на основе мировой революции и идей всемирного советского государства лет за сто до того, как это начал делать либерализм. Вместе с идеей социальной справедливости глобального масштаба мы начали усиленно строить города – как центры по созданию новых советских людей.
Когда же мы попрощались с советской властью и кинулись в объятья Запада (объятья, как быстро стало понятно, удушающие), то наша мощнейшая урбанизация XX века показалась чем-то очень логичным и верным. Ну, как же – вот и на Западе мегаполисы растут, а значит, правильной дорогой идем. Как «весь цивилизованный мир».
Отсюда родилась вся демографическая, градостроительная и социально-экономическая политика постсоветской России и родилась. Сначала стихийно, а потом как результат оформленных стратегий развития страны, мы продолжали вывозить жителей России из деревень и малых городов в крупные городские агломерации. Еще лет десять назад у нас вполне официально провозглашалась идея создания нескольких мегаполисов по всей стране и расселения малых территорий в связи с их «экономической нецелесообразностью». Сейчас ситуация заметно лучше, но пока исключительно на уровне слов и программ. Идеи освоения Дальнего Востока, Арктики и т. д. – символы иного дискурса. Но пока только символы. На деле процессы оттока населения в мегаполисы продолжаются, а иногда и ускоряются. Увидеть вживую это можно в любом спальном районе большого города. Особенно в Москве, где «человейники» растут с каждым годом все быстрее.
Сейчас мы находимся в состоянии войны с «коллективным Западом», боремся за возможность свободного пути для страны. А что это значит на деле? Мы ведем национально-освободительную войну и, в первую очередь, за освобождение территории собственного рассудка. Деоккупация нашего сознания – вот фундамент нашей свободы. Научимся мыслить по-русски – обретем гуманитарный или семиотический суверенитет. Если грубо, то мир устроен совсем не так, как нас учили «оттуда». У нас – как и у других центров мировых цивилизаций – есть право и даже обязанность смотреть и осмыслять мир по-своему, согласно тем традициям и ценностям, которые есть сама суть наша.
Сейчас очень много говорят о русской цивилизации, о многополярности, о суверенитете. Но это все общие слова. Они станут реальностью только через конкретные дела. Шаги, которые мы с вами вместе сделаем для того, чтобы стать свободными. И в основе этого сложного пути – как раз наша с вами сегодняшняя тема. Мы должны освободить свои мозги от западноцентричной концепции тотальной урбанизации и мегаполизации.
У моего любимого Александра Васильевича Чаянова, мыслителя, писателя, экономиста, государственного и кооперативного деятеля начала 20-го века, есть повесть «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии». В 1920 году Чаянов описывает Россию 1984 года (Привет, Оруэлл!), где победила крестьянская партия и все мегаполисы и города свыше десяти тысяч человек расселены. Понятно, что и Чаянов в художественном произведении выдавал свои идеи в некоторой абсолютной чистоте, на то она и утопия. Но у любой глубокой утопии есть много практических и причин, и последствий. Мы сейчас находимся в ситуации, когда нужно всем читать Чаянова и не бояться радикальных образов и мыслей – не столько для того, чтобы их привести немедля в жизнь, а для того, чтобы научиться мыслить иначе. Иначе, чем нас учили наши «европейские учителя».
Наши урбанисты и градоначальники, которые как под копирку из западных учебников говорят о «городах – сервисах», уже показали, кого собственно такие города-сервисы воспитывают. Это «креативный класс», для которого вместо понятия Родина есть урбанистический организм, который должен мне как жителю предоставлять услуги. Если услуги этого организма мне кажутся какими-то недостаточными, я просто меняю один мегаполис на другой, и совсем неважно где он находится.
Миссия мегаполиса как успешного международного центра воспитать космополита, гражданина мира, лишенного чувства национальной и культурной принадлежности. Собственно, все то, что случилось после начала СВО, показало эффективность такого урбанистического подхода. Креативный класс массово съехал из страны, а кто не съехал – крепко сел в тихую оппозицию.
А это значит, что иная политика расселения по стране сегодня не только дело фундаментальное и стратегически важное с точки зрения «возвращения домой», освобождения нашего общего сознания от западных ментальных конструкций. Деурбанизация – это еще и важнейший шаг к воспитанию тех, кто снова сможет ощутить Родину как практическое пространство собственной жизни. Пространство, которое с одной стороны является возможностью для творческого труда и созидательного освоения, а с другой – такое, о котором ты заботишься, как об имманентной части себя.
Мы пойдем своим путем. Россия будет свободной. Мегаполис должен быть разрушен.
Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии
Повесть Александра Чаянова
«Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» – утопическая повесть Александра Чаянова, написанная в 1920 году. Аннотация произведения того времени гласила:
«Алексей Кремнев – старый социалист и крупный советский работник накануне полной отмены и запрещения семейной жизни размечтался с томом Герцена в руках. И в это время в комнате запахло серой, и перенесло Алексея Кремнева из утопии социалистической в утопию крестьянскую».
Глава первая,
в которой благосклонный читатель знакомится с торжеством социализма и героем нашего романа Алексеем Кремневым
Было уже за полночь, когда обладатель трудовой книжки N 34713, некогда называвшийся в буржуазном мире Алексеем Васильевичем Кремневым, покинул душную, переполненную свыше меры большую аудиторию Политехнического музея.
Туманная дымка осенней ночи застилала уснувшие улицы. Редкие электрические фонари казались затерянными в уходящих далях пересекающихся переулков. Ветер трепал желтые листья на деревьях бульвара, и сказочной громадой белели во мраке Китайгородские стены.
Кремнев повернул на Никольскую. В туманной дымке она, казалось, приняла свои былые очертания. Тщетно кутаясь в свой плащ от пронизывающей ночной сырости, Кремнев с грустью посмотрел на Владимирскую церковь, часовню Пантелеймона. Ему вспомнилось, как с замиранием сердца он, будучи первокурсником-юристом, много лет тому назад купил вот здесь, направо, у букиниста Николаева «Азбуку социальных наук» Флеровского, как три года спустя положил начало своему иконному собиранию, найдя у Елисея Силина Новгородского Спаса, и те немногие и долгие часы, когда с горящими глазами прозелита рылся он в рукописных и книжных сокровищах Шибановского антиквариата – там, где теперь при тусклом свете фонаря можно было прочесть краткую надпись «Главбум».
Гоня преступные воспоминания, Алексей повернул к Иверским, прошел мимо первого Дома Советов и потонул в сумраке московских переулков.
А в голове болезненно горели слова, обрывки фраз, только что слышанных на митинге Политехнического музея: «Разрушая семейный очаг, мы тем наносим последний удар буржуазному строю».
«Наш декрет, запрещающий домашнее питание, выбрасывает из нашего бытия радостный яд буржуазной семьи и до скончания веков укрепляет социалистическое начало».
«Семейный уют порождает собственнические желания, радость хозяйчика скрывает в себе семена капитализма».
Утомленная голова ныла и уже привычно мыслила, не думая, сознавала, не делая выводов, а ноги машинально передвигались к полуразрушенному семейному очагу, обреченному в недельный срок к полному уничтожению, согласно только что опубликованному и поясненному декрету 27 октября 1921 года.
Глава вторая,
повествующая о влиянии Герцена на воспаленное воображение советского служащего
Намазав маслом большой кусок хлеба, благословенный дар богоспасаемой Сухаревки, Алексей налил себе стакан уже вскипевшего кофе и сел в свое рабочее кресло.
Сквозь стекла большого окна был виден город, внизу в туманной ночи молочными светлыми пятнами тянулись вереницы уличных фонарей. Кое-где в черных массивах домов тускло желтели освещенные еще окна.
«Итак, свершилось, – подумал Алексей, вглядываясь в ночную Москву. – Старый Морис, добродетельный Томас, Беллами, Блечфорт и вы, другие, добрые и милые утописты. Ваши одинокие мечты стали всеобщим убеждением, величайшие дерзания – официальной программой и повседневной обыденщиной! На четвертый год революции социализм может считать себя безраздельным владыкой земного шара. Довольны ли вы, пионеры-утописты?»
И Кремнев посмотрел на портрет Фурье, висевший над одним из книжных шкафов его библиотеки.
Однако для него – самого старого социалиста, крупного советского работника, заведующего одним из отделов Мирсовнархоза, как-то не все ладно было в этом воплощении, чувствовалась какая-то смутная жалость к ушедшему, какая-то паутина буржуазной психологии еще затемняла социалистическое сознание.
Он прошелся по ковру своего кабинета, скользнул взором по переплетам книг и неожиданно для себя заметил вереницу томиков полузабытой полки. Имена Чернышевского, Герцена и Плеханова глядели на него с корешков солидных переплетов. Он улыбнулся, как улыбаются при воспоминаниях детства, и взял с полки том павленковского Герцена.
Пробило два часа. Часы ударили с протяжным шипением и снова смолкли.
Хорошие, благородные и детски наивные слова раскрывались перед глазами Кремнева. Чтение захватывало, волновало, как волнуют воспоминания первой юношеской любви, первой юношеской клятвы.
Ум как будто освободился от гипноза советской повседневности, в сознании зашевелились новые, небанальные мысли, оказалось возможным мыслить иными вариантами.
Кремнев в волнении прочел давно забытую им пророческую страницу: «Слабые, хилые, глупые поколения, – писал Герцен, протянут как-нибудь до взрыва, до той или другой лавы, которая их покроет каменным покрывалом и предаст забвению летописей. А там? А там настанет весна, молодая жизнь закипит на их гробовой доске, варварство младенчества, полное недостроенных, но здоровых сил, заменит старческое варварство, дикая свежая мощь распахнется в молодой груди юных народов, и начнется новый круг событий и третий том всеобщей истории.
Основной тон его можно понять теперь. Он будет принадлежать социальным идеям. Социализм разовьется во всех фазах своих до крайних последствий, до нелепостей.
Тогда снова вырвется из титанической груди революционного меньшинства крик отрицания и снова начнется смертная борьба, в которой социализм займет место нынешнего консерватизма и будет побежден будущей, неизвестной нам революцией».
«Новое восстание. Где же оно? И во имя каких идеалов? – думалось ему. – Увы, либеральная доктрина всегда была слаба тем, что она не могла создать идеологии и не имела утопий».
Он улыбнулся с сожалением. О вы, Милоновы и Новгородцевы, Кусковы и Макаровы, какую же утопию вы начертаете на ваших знаменах?! Что, кроме мракобесия капиталистической реакции, имеете вы в замену социалистического строя?! Я согласен, мы живем далеко не в социалистическом раю, но что вы дадите взамен его?
Книга Герцена вдруг с треском захлопнулась сама собой, и пачка фолиантов упала с полки.
Кремнев вздрогнул.
В комнате удушливо запахло серой. Стрелки больших стенных часов завертелись все быстрее и быстрее и в неистовом вращении скрылись из глаз. Листки отрывного календаря с шумом отрывались сами собой и взвивались кверху, вихрями бумаги наполняя комнату. Стены как-то исказились и дрожали.
У Кремнева кружилась голова, и холодный пот увлажнял его лоб. Он вздрогнул, и в паническом ужасе бросился к двери, ведущей в столовую, и дверь с треском ломающегося дерева захлопнулась за ним. Он тщетно искал кнопку электрического освещения. Ее не было на старом месте. Передвигаясь в темноте, он натыкался на незнакомые предметы. Голова кружилась и сознание мутнело, как во время морской болезни. Истощенный усилиями, Алексей опустился на какой-то диван, никогда не бывший здесь раньше, и сознание его покинуло.
Глава третья,
изображающая появление Кремнева в стране Утопии и его приятные разговоры с утопической москвичкой об истории живописи XX столетия
Серебристый звонок разбудил Кремнева.
– Алло, да, это я, – послышался женский голос. – Да, приехал, очевидно, сегодня ночью… Еще спит… Очень устал, заснул не раздеваясь… Хорошо, я позвоню.
Голос смолк, и шуршание юбок указало, что его обладательница вышла из комнаты.
Кремнев приподнялся на диване и протер в изумлении глаза. Он лежал в большой желтой комнате, залитой лучами утреннего солнца. Мебель странного и неизвестного Алексею стиля из красного дерева с зелено-желтой обивкой, желтые полуоткрытые занавеси окон, стол с диковинными металлическими приборами окружали его. В соседней комнате слышались легкие женские шаги. Скрипнула дверь, и все смолкло.
Кремнев вскочил на ноги, желая дать себе отчет в случившемся, и быстро подошел к окну.
На голубом небе, как корабли, плыли густые осенние облака. Рядом с ними немного ниже и совсем над землей скользили несколько аэропланов, то маленьких, то больших, диковинной формы, сверкая на солнце вращающимися металлическими частями.
Внизу расстилался город… Несомненно, это была Москва.
Налево высилась громада кремлевских башен, направо краснела Сухаревка, а там вдали гордо возносились Кадаши.
Вид знакомый уже много-много лет.
Но как все изменилось кругом. Пропали каменные громады, когда-то застилавшие горизонт, отсутствовали целые архитектурные группы, не было на своем месте дома Нирензее. Зато все кругом утопало в садах… Раскидистые купы деревьев заливали собою все пространство почти до самого Кремля, оставляя одинокие острова архитектурных групп. Улицы-аллеи пересекали зеленое, уже желтеющее море. По ним живым потоком лились струи пешеходов, авто, экипажей. Все дышало какой-то отчетливой свежестью, уверенной бодростью.
Несомненно, это была Москва, но Москва новая, преображенная и просветленная.
– Неужели я сделался героем утопического романа? – воскликнул Кремнев. – Признаюсь, довольно глупое положение!
Чтобы ориентироваться, он стал осматриваться кругом, рассчитывая найти какой-нибудь отправной пункт к познанию нового окружающего его мира.
– Что ожидает меня за этими стенами? Благое царство социализма, просветленного и упрочившегося? Дикая анархия князя Петра Алексеевича? Вернувшийся капитализм? Или, быть может, какая-нибудь новая, неведомая ранее социальная система?
Поскольку можно было судить из окна, было ясно одно: люди жили на достаточно высокой ступени благосостояния и культуры и жили сообща. Но этого было бы еще мало, чтобы понять сущность окружающего.
Алексей с жадностью стал рассматривать окружавшие его вещи, но они давали весьма мало.
В большинстве это были обычные вещи, выделявшиеся только тщательностью своей отделки, какой-то подчеркнутой точностью и роскошью выполнения и странным стилем своих форм, отчасти напоминавших русскую античность, отчасти орнаменты Ниневии. Словом, это был русифицированный Вавилон.
Над диваном, где проснулся Кремнев, очень глубоким и мягким, висела большая картина, привлекшая его внимание. С первого взгляда можно было уверенно сказать, что это классическая вещь Питера Брейгеля-старшего. Та же композиция с высоким горизонтом, те же яркие и драгоценные краски, те же коротенькие фигурки, но на доске были написаны люди в цветных фраках, дамы с зонтиками, автомобили, и, несомненно, сюжетом служило что-то вроде отлета аэропланов. Такой же характер носили несколько репродукций, лежавших на соседнем столике.
Кремнев подошел к большому рабочему столу, сделанному из чего-то вроде плотной коробки, и с надеждой стал рассматривать разбросанные по столу книги. Это были 5-й том «Практики социализма» В. Шер’а, «Ренессанс кринолина, опыт изучения современной моды», два тома Рязанова «От коммунизма к идеализму», 38-е издание мемуаров Е. Кусковой, великолепное издание Медного всадника», брошюра «О трансформации В-энергии», и наконец его рука, дрожа от волнения, взяла номер свежей газеты.
Волнуясь, Кремнев развернул небольшой лист. На заголовке стояла дата 23 часа вечера 5 сентября 1984 года. Он перемахнул через 60 лет.
Не могло быть сомнения, что Кремнев проснулся в стране будущего, и он углубился в чтение газетного листа.
«Крестьянство», «Прошлая эпоха городской культуры», «Печальной памяти государственный коллективизм…», «Это было во времена капиталистические, то есть во времена доисторические…», «Англо-французская изолированная система» – все эти фразы и десятки других фраз пронизывали мозг Кремнева, наполняли его душу изумлением и великим желанием знать.
Телефонный звонок прервал его размышления. В комнате рядом послышались шаги. Дверь распахнулась, и вместе с потоком солнечных лучей вошла молодая девушка.
– Ах, вы уже встали, – весело сказала она. – Я проспала вчера ваш приезд.
Звонок повторился.
– Простите, это должно быть, брат беспокоится о вас. Да, он уже встал… Не знаю, право. Сейчас спрошу. Вы говорите по-русски, господин… Чарли Мен, если не ошибаюсь.
– Конечно, конечно! – неожиданно для себя и очень громко воскликнул Алексей.
– Говорит, и даже с московским акцентом. Хорошо, я передам трубку.
Растерявшийся Кремнев получил в свои руки нечто, напоминавшее телефонную трубку старого времени, услышал привет, сказанный мягким басом, обещание заехать за ним в три часа, уверение в том, что сестра позаботится обо всем, и, кладя аппарат, осознал вполне, вполне отчетливо, что его принимают за кого-то другого, кому имя Чарли Мен.
Удача способствовала ему. Первое же письмо, им взятое, было подписано Чарли Меном, и в нескольких фразах его излагалось желание посетить Россию и ознакомиться с ее инженерными установками в области земледелия.
Глава четвертая,
продолжающая третью и отделенная от нее только для того, чтобы главы не были очень длинными
Дверь растворилась, и молодая хозяйка вошла в комнату, неся над головой поднос с дымящимися чашками утреннего завтрака.
Алексей был очарован этой утопической женщиной, ее почти классической головой, идеально посаженной на крепкой сильной шее, широкими плечами и полной грудью, поднимавшей с каждым дыханием ворот рубашки.
Минутное молчание первого знакомства вскоре сменилось оживленным разговором. Кремнев, избегая роли рассказчика, увлек разговор в область искусства, полагая, что не затруднит этим девушку, живущую в комнатах, где на стенах висят прекрасные куски живописи.
Молодая девушка, которую звали Параскевой, с жаром юношеского увлечения повествовала о своих любимых мастерах: старом Брейгеле, Ван Гоге, старике Рыбникове и великолепном Ладонове. Пламенная поклонница неореализма, она искала в искусстве тайны вещей, чего-то или божеского или дьявольского, но превышающего силы человеческие.
Признавая высшую ценность всего сущего, она требовала от художника конгениальности с творцом вселенной, ценила в картине силу волшебства, искру прометееву, дающую новую сущность, и, в сущности, была близка к реализму старых мастеров Фландрии.
Из ее слов Кремнев понял, что после живописи эпохи великой революции, ознаменованной футуризмом и крайним разложением старых традиций, наступил период барокко-футуризма, футуризма укрощенного и сладостного.
Затем, как реакция, как солнечный день после грозы, на первое место выдвинулась жажда мастерства; в моду начали входить болонцы, примитивисты были как-то сразу забыты, а залы музеев с картинами Мемлинга, Фра Беато, Боттичелли и Кранаха почти не находили себе посетителей. Однако, подчиняясь кругу времени и не опуская своей высоты, мастерство постепенно получило декоративный наклон и создало монументальные полотна и фрески эпохи Варваринского заговора, бурной полосой прошла эпоха натюрморта и голубой гаммы, затем властителем мировых помыслов сделались суздальские фрески XII века, и наступило царство реализма с Питером Брейгелем как кумиром.
Два часа прошли незаметно, и Алексей не знал, слушать ли ему глубокий контральто своей собеседницы или же рассматривать тяжелые косы, заплетенные на ее голове. Широко открытые внимательные глаза и родинка на шее говорили ему лучше всяких доказательств о превосходстве неореализма.
Глава пятая,
чрезвычайно длинная, необходимая для ознакомления Кремнева с Москвой 1984 года
– Я повезу вас через весь город, – сказал брат Параскевы, Никифор Алексеевич Минин, усаживая Кремнева в автомобиль, – и вы увидите нашу теперешнюю Москву.
Автомобиль тронулся.
Город казался сплошным парком, среди которого архитектурные группы возникали направо и налево, походили на маленькие затерявшиеся городки.
Иногда неожиданный поворот аллеи открывал глазам Кремнева очертания знакомых зданий, в большинстве построенных в XVII и XVIII веках.
За густыми кронами желтеющих кленов мелькнули купола Барышей, расступившиеся липы открыли пышные контуры растреллиевского здания, куда Кремнев, будучи гимназистом, ходил ежедневно. Словом, они ехали по утопической Петровке.
– Сколько жителей в вашей Москве? – спросил Кремнев своего спутника.
– На этот вопрос не так легко ответить. Если считать территорию города в объеме территории эпохи великой революции и брать постоянно ночующее здесь население, то теперь оно достигает уже, пожалуй, ста тысяч человек, но лет сорок назад, непосредственно после великого декрета об уничтожении городов, в ней насчитывалось не более тридцати тысяч. Впрочем, в дневные часы, если считать всех приехавших и обитателей гостиниц, то, пожалуй, мы получим цифру, превышающую пять миллионов.
Автомобиль замедлил ход. Аллея становилась уже; архитектурные массивы сдвигались все теснее и теснее, стали попадаться улицы старого городского типа. Тысячи автомобилей и конных экипажей в несколько рядов сплошным потоком стремились к центру города, по широким тротуарам двигалась сплошная толпа пешеходов. Поражало почти полное отсутствие черного цвета; яркие, голубые, красные, синие, желтые, почти всегда одноцветные мужские куртки и блузы смешивались с женскими очень пестрыми платьями, напоминавшими собою нечто вроде сарафанов с кринолином, но все же являющими собою достаточное разнообразие форм.
В толпе сновали газетчики, продавщики цветов, сбитня и сигар. Над головою толпы и потоком экипажей сверкали на солнце волнующиеся полотнища стягов и тяжей, увешанных флажками.
Почти под самыми колесами экипажей шныряли мальчишки, продававшие какие-то листочки и кричавшие благим матом:
– «Решительная!! Ваня-вологжанин против Тер-Маркельянца! Два жоха и одна ничка!»
В толпе оживленно спорили и перебрасывались возгласами, повторяя больше всего слова о плоцке и ничке.
Кремнев с изумлением поднял глаза на своего спутника. Тот улыбнулся и сказал:
– Национальная игра! Сегодня последний день международного состязания на звание первого игрока в бабки. Тифлисский чемпион по игре в козьи кочи оспаривает бабошное первенство у вологжанина… Да только Ваня себя в обиду не даст, и к вечеру Театральная площадь в пятый раз увидит его победителем.
Автомобиль все замедлял свой бег, миновал Лубянскую площадь, сохранившую и Китайгородскую стену, и виталиевских мальчиков, и спускался мимо Первопечатника вниз. Театральная площадь была залита морем голов, фейерверком ярких, горящих на солнце флагов, многоярусными трибунами, поднимавшимися почти до крыши Большого театра, и ревом толпы. Игра в бабки была в полном разгаре.
Кремнев посмотрел налево, и сердце его учащенно забилось. «Метрополя» не было. На его месте был разбит сквер и возвышалась гигантская колонна, составленная из пушечных жерл, увитых металлической лентой, спиралью поднимавшейся кверху и украшенной барельефом. Увенчивая колоссальную колонну, стояли три бронзовых гиганта, обращенные друг к другу спиной и дружески взявшиеся за руки. Кремнев едва не вскрикнул, узнав знакомые черты лица.
Несомненно, на тысяче пушечных жерл, дружески поддерживая друг друга, стояли Ленин, Керенский и Милюков.
Автомобиль круто повернул налево, и они пронеслись почти у подножья монумента.
Кремнев успел на барельефе различить несколько фигур Рыкова, Коновалова и Прокоповича, образующих живописную группу у наковальни, Середу и Маслова, занятых посевом, и не смог удержаться от недоуменного восклицания, в ответ на которое его спутник процедил сквозь зубы, не вынимая из сих последних дымящейся трубки:
– Памятник деятелям великой революции.
– Да, послушайте, Никифор Алексеевич, ведь эти же люди вовсе не образовывали в своей жизни таких мирных групп!
– Ну, для нас в исторической перспективе они сотоварищи по одной революционной работе, и поверьте, что теперешний москвич не очень-то помнит, какая между ними была разница! Хоп! Черт возьми, чуть песика не задавил!
Автомобиль шарахнулся влево, дама с собачкой направо; поворот, машина ныряет в какую-то подземную трубу, несколько мгновений несется с бешеной скоростью под землей в ярко освещенном тоннеле, вылетает на берег Москвы-реки и останавливается около террасы, уставленной столиками.
– Давайте на дорогу коку с соком выпьем, – сказал Минин, вылезая из авто.
Кремнев оглянулся вокруг, перед ним высилась громада моста, настолько точно воспроизводящая Каменный мост XVII века, что он казался сошедшим с гравюры Пикара. А сзади в полном великолепии, горя золотыми куполами, высился Кремль, со всех сторон охваченный золотом осеннего леса.
Половой в традиционных белых брюках и рубашке принес какой-то напиток, напоминающий гоголь-моголь, смешанный с цукатами, и наши спутники некоторое время молча созерцали.
– Простите, – начал Кремнев после некоторого молчания. – Мне, как иностранцу, непонятна организация вашего города, и я не совсем представляю себе историю его расселения.
– Первоначально на переустройство Москвы повлияли причины политического свойства, – ответил его спутник. – В 1934 ГОДУ? Когда власть оказалась прочно в руках крестьянских партий, правительство Митрофанова, убедившись на многолетней практике, какую опасность представляют для демократического режима огромные скопления городского населения, решилось на революционную меру и провело на Съезде Советов известный, конечно, и у вас в Вашингтоне декрет об уничтожении городов свыше двадцати тысяч жителей.
Конечно, труднее всего этот декрет было выполнить в отношении к Москве, насчитывающей в 30-е годы свыше четырех миллионов населения. Но упрямое упорство вождей и техническая мощь инженерного корпуса позволили справиться с этой задачей в течение десяти лет.
Железнодорожные мастерские и товарные станции были отодвинуты на линию пятой окружной дороги, железнодорожники двадцати двух радиальных линий и семьи их были расселены вдоль по линии не ближе того же пятого пояса, то есть станции Раменского, Кубинки, Клина и прочих. Фабрики постепенно были эвакуированы по всей России на новые железнодорожные узлы.
К 1937 году улицы Москвы стали пустеть, после заговора Варварина работы, естественно, усилились, инженерный корпус приступил к планировке новой Москвы, сотнями уничтожались московские небоскребы, нередко прибегали к динамиту. Отец мой помнит, как в 1937 году самые смелые из наших вождей, бродя по городу развалин, готовы были сами себя признать вандалами, настолько уничтожающую картину разрушения являла собой Москва. Однако перед разрушителями лежали чертежи Жолтовского, и упорная работа продолжалась. Для успокоения жителей и Европы в 1940 году набело закончили один сектор, который поразил и успокоил умы, а в 1944 все приняло теперешний вид.
Минин вынул из кармана небольшой план города и развернул его.
– Теперь, однако, крестьянский режим настолько окреп, что этот священный для нас декрет уже не соблюдается с прежней пуританской строгостью. Население Москвы нарастает настолько сильно, что наши муниципалы для соблюдения буквы закона считают за Москву только территорию древнего Белого города, то есть черту бульваров дореволюционной эпохи.
Кремнев, внимательно рассматривающий карту, поднял глаза.
– Простите, – сказал он, – это какая-то софистика, вот то, что кругом Белого города, ведь это тоже почти что город. Да и вообще я не понимаю, как могла безболезненно пройти аграризацию ваша страна и какую жалкую роль могут играть в народном хозяйстве ваши города-пигмеи.
– Мне трудно в двух словах ответить на ваш вопрос. Видите ли, раньше город был самодавлеющ, деревня была не более как его пьедестал. Теперь, если хотите, городов вовсе нет, есть только место приложения узла социальных связей. Каждый из наших городов – это просто место сборища, центральная площадь уезда. Это не место жизни, а место празднеств, собраний и некоторых дел. Пункт, а не социальное существо.
Минин поднял стакан, залпом осушил его и продолжал:
– Возьмите Москву, на сто тысяч жителей в ней гостиниц на четыре миллиона, а в уездных городах на десять тысяч – гостиниц на сто тысяч, и они почти не пустуют. Пути сообщения таковы, что каждый крестьянин, затратив час или полтора, может быть в своем городе и бывает в нем часто. Однако пора и в путь. Нам нужно сделать изрядный крюк и заехать в Архангельское за Катериной.
Автомобиль снова двинулся в путь, свернув к Пречистенскому бульвару. Кремнев оглянулся с изумлением: вместо золотого и блестящего, как тульский самовар, Храма Христа Спасителя, увидел титанические развалины, увитые плющом и, очевидно, тщательно поддерживаемые.
Глава шестая,
в которой читатель убедится, что в Архангельском за 60 лет не разучились делать ванильные ватрушки к чаю
Старинный памятник Пушкину возвышался среди разросшихся лип Тверского бульвара.
Воздвигнутый на том месте, где некогда Наполеоном были повешены мнимые поджигатели Москвы, он был немым свидетелем грозных событий истории российской.
Помнил баррикады 1905 года, ночные митинги и большевистские пушки 1917-го, траншеи крестьянской гвардии 1932-го и варваринские бомбометы 1937-го и продолжал стоять в той же спокойной сосредоточенности, ожидая дальнейших.
Один только раз он пытался вмешаться в бушующую стихию политических страстей и напомнил собравшимся у его ног свою сказку о рыбаке и рыбке, но его не послушались…
Автомобиль свернул в Большие Аллеи запада. Здесь когда-то тянулись линии Тверских-Ямских, тихих и запыленных улиц. Роскошные липы Западного парка сменили их однообразные строения, и, как остров, среди волнующегося зеленого моря виднелись среди зарослей купола собора и белые стены Шанявского университета.
Тысячи автомобилей скользили по асфальтам большого Западного пути. Газетчики и продавщицы цветов сновали в пестрой толпе оживленных аллей, сверкали желтые тенты кофеен, в застывших облаках чернели сотни больших и малых аэропилей, и грузные пассажирские аэролеты поднимались кверху, отправляясь в путь с западного аэродрома.
Автомобиль промчался мимо аллей Петровского парка, залитого шумом детских голосов, скользнул мимо оранжерей Серебряного бора, круто повернул налево и, как сорвавшаяся с тетивы струна, ринулся по Звенигородскому шоссе.
Город как будто бы и не кончался. Направо и налево тянулись такие же прекрасные аллеи, белели двухэтажные домики, иногда целые архитектурные группы, и только вместо цветов между стенами тутовых деревьев и яблонь ложились полосы огорода, тучные пастбища и сжатые полосы хлебов.
– Однако, – обернулся Кремнев к своему спутнику, – ваш декрет об уничтожении городских поселений, очевидно, сохранился только на бумаге. Московские пригороды протянулись далеко за Всехсвятское.
– Простите, мистер Чарли, но это уже не город, это типичная русская деревня севера, – и он рассказал удивленному Кремневу, что при той плотности населения, которой достигло крестьянство Московской губернии, деревня приняла необычный для сельских поселений вид. Вся страна образует теперь кругом Москвы на сотни верст сплошное сельскохозяйственное поселение, прерываемое квадратами общественных лесов, полосами кооперативных выгонов и огромными климатическими парками.
– В районах хуторского расселения, где семейный надел составляет 3–4 десятины, крестьянские дома на протяжении многих десятков верст стоят почти рядом друг с другом, и только распространенные теперь плотные кулисы тутовых и фруктовых деревьев закрывают одно строение от другого. Да, в сущности, и теперь пора бросить старомодное деление на город и деревню, ибо мы имеем только более сгущенный или более разреженный тип поселения того же самого земледельческого населения.
– Вы видите группы зданий, – Минин показал вглубь налево, – несколько выделяющихся по своим размерам. Это – «городища», как принято их теперь называть. Местная школа, библиотека, зал для спектаклей и танцев и прочие общественные учреждения. Маленький социальный узел. Теперешние города такие же социальные узлы той же сельской жизни, только больших размеров. А вот мы и приехали.
Лес расступился, и вдали показались стройные стены Архангельского дворца.
Крутой поворот, и авто, шумя по гравию шоссе, миновал широкие ворота, увенчанные трубящим ангелом, и остановился около оружейного корпуса, спугнув целую стаю молодых девушек, играющих в серсо.
Белые, розовые, голубые платья окружили приехавших, и девушка лет семнадцати с криком радости бросилась в объятия Алексеева спутника.
– Мистер Чарли Мен, а это Катерина, сестра!
Через минуту на лужайке архангельского парка, рядом с бюстоколоннами античных философов, гости были усажены у шумящего самовара за стол, на льняных скатертях которого высились горы румяных ватрушек.
Алексей был закормлен ватрушками, обольстительными, пышными, ванильными ватрушками и душистым чаем, засыпан цветами и вопросами об американских нравах и обычаях и о том, умеют ли в Америке писать стихи, и, боясь попасть впросак, сам перешел в наступление, задавая собеседницам по два вопроса на каждый получаемых от них.
Уплетая ватрушку за ватрушкой, он узнал, что Архангельское принадлежало «Братству святого Флора и Лавра», своеобразному светскому монастырю, братья коего вербовались среди талантливых юношей и девушек, выдвинувшихся в искусствах и науках.
В анфиладе комнат старого дворца и липовых аллеях парка, освещенных былыми посещениями Пушкина и блистательной, галантной жизнью Бориса Николаевича Юсупова с его вольтерьянством и колоссальной библиотекой, посвященной французской революции и кулинарии, шумела юная толпа носителей прометеева огня творчества, делившая труды с радостями жизни.
Братство владело двумя десятками огромных и чудесных имений, разбросанных по России и Азии, снабженных библиотеками, лабораториями, картинными галереями, и, насколько можно было понять, являлось одной из наиболее мощных творческих сил страны. Алексея поразили строгие правила устава, почти монастырского по типу, и та сияющая, звенящая радость, которая пропитывала все кругом: и деревья, и статуи, и лица хозяев, и даже волокна осенних паутин, реющих под солнцем.
Но все это было ничтожно в сравнении с глубоким взором и певучим голосом Параскевиной сестры. Положительно, утопические женщины сводили Алексея с ума.
Глава седьмая,
убеждающая всех желающих в том, что семья есть семья и всегда семьей останется
– Скорее, скорее, друзья мои, – торопил спутников Никифор Алексеевич, вкладывая Катеринины баулы и саки в автомобиль. – На 9 часов сегодня назначено начало генерального дождя, и через час метеорофоры поднимут целые вихри.
Хотя Кремневу, услыхав эту тираду, полагалось бы удивиться и расспрашивать, он этого не сделал, так как всецело был увлечен укутыванием в шарфы Параскевиной сестры.
Зато, когда машина бесшумно неслась по полотну Ново-Иерусалимского шоссе и по обе стороны его мелькали поля с тысячами трудящихся на них крестьян, спешивших до дождя увезти последние скирды не убранного еще овса, он не удержался и спросил своего спутника:
– За коим чертом вы затрачиваете на поля такое количество человеческой работы? Неужели ваша техника, легко управляющая погодой, бессильна механизировать земледельческий труд и освободить рабочие руки для более квалифицированных занятий?
– Вот он, американец-то, где оказался! – воскликнул Минин. – Нет, уважаемый мистер Чарли, против закона убывающего плодородия почвы далеко не пойдешь. Наши урожаи, дающие свыше 500 пудов с десятины, получаются чуть ли не индивидуализацией ухода за каждым колосом. Земледелие никогда не было столь ручным, как теперь. И это не блажь, а необходимость при нашей плотности населения. Так-то!
Он замолчал и усилил скорость. Ветер свистал, и шарфы Катерины развевались над автомобилем. Алексей смотрел на ее ресницы, на губы, просвечивающие сквозь складки шарфа, и она казалась ему бесконечно знакомой… А ласковая улыбка наполняла радостью и уютом душу.
Темнело, и на небе громоздились тучи, когда автомобиль подъехал к домикам, поместившимся на крутосклонах реки Ламы.
